Избранное
Певец свободы и любви
О Эрин, о Эрин, от пролитых слез не потух
За долгие ночи неволи твой неиссякающий дух.
В литературной истории Ирландии, а также истории ирландского романтизма имя Томаса Мура, ирландца по рождению и по убеждению, стоит несколько особняком. Почему? Более двух третей своей жизни Мур прожил в Лондоне, далекий от литературных кругов Ирландии, зато в непосредственной близости к кругам английских романтиков, среди которых у него были единомышленники и друзья. Но главное, наверное, не в этом. Тесно связанная с национально-освободительной борьбой народа, ирландская поэзия конца XVIII — первой половины XIX века развивалась как поэзия революционная. В отличие от других ирландских поэтов, и творивших на рубеже XVIII и XIX веков, и младоирландцев, заявивших о себе позднее, в 1830—1840-х годах, Томас Мур, как это явствует из его произведений, дневников и сохранившихся писем, никогда не связывал национально-освободительное движение с идеей социального переустройства общества. Французская революция 1789 года, оказавшая непосредственное влияние на умственную жизнь современной ему Европы, оставила его равнодушным. Но, не поняв, по-видимому, действительного значения французской революции, этого (по словам английского писателя-романтика Томаса Де Куинси) «взрыва гигантского вулкана, который разбросал свою лаву по всем царствам всех континентов, удобряя почву всех стран», Мур как ирландец хорошо понял зло, которое принесла Европе узурпация власти Наполеоном, и воплотил это зло в образе лжепророка Моканны из поэмы «Лалла Рук», деспота, который красивыми словами о свободе и равенстве прикрывает мечту о власти над миром. Отворачиваясь как истый романтик от буржуазной действительности, Мур противопоставляет ее грязи и страданиям (доказательство того, что он замечал их, — его сатиры) прекрасные человеческие чувства и творит из них идеальный мир Красоты и Любви. В идеально-романтическом мире поэзии Томаса Мура ощущению праздника жизни всегда сопутствует тоска по чему-то несбывшемуся или ушедшему невозвратно, что придает его стихам глубину и задушевность:
…Окончив труд дневных забот,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.
И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу, я томим тоской
И умереть желаю с ними…
…Есть бог другой земного круга —
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я…{5}
(К*, 1826)
Один из «самых стойких патриотов Ирландии» (по выражению Дж. Г. Байрона), Томас Мур родился в Дублине в семье мелкого виноторговца, католика. Он писал о себе: «Единственное, что действительно способствовало моему духовному росту и возмужанию, — это могущественные политические страсти, которые кипели вокруг меня, когда я был еще подростком, и возбуждали во мне самый пылкий и глубокий интерес». С самого раннего детства родители поощряли в мальчике тягу к искусству, он декламировал, пел, играл на различных инструментах, участвовал в домашних спектаклях. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, его стихи впервые были напечатаны в журнале «Anthologia Hibernica» («Ирландская антология»), В 1795 году Мур стал студентом того самого Тринити-колледжа, в котором когда-то учился Джонатан Свифт (1667–1745). Вероятно, можно сказать, что католику Томасу Муру повезло, потому что еще за несколько лет перед тем католиков туда не допускали. Поступление Мура в университет связано со следующим эпизодом. Только протестанты обеспечивались стипендиями, но когда Мур увидел себя в списках с пометкой «протестант», он, всегда отличавшийся веротерпимостью, исправил написанное на «католик» и потерял не лишнюю для бюджета семьи стипендию. К университетским годам относится и первое упоминание современников об интересе Мура к народным мелодиям, ставшим в то время популярными в студенческой среде. Книги народных песен были не редкостью в последней трети XVIII века. И не только в Ирландии. Явление это — собирание, обработка и издание фольклора — носило общеевропейский характер. В недрах XVIII столетия вызревало то, что полностью раскрыло себя в национальных культурах в эпоху романтизма. Причем если в развитых европейских литературах интерес к фольклору стал предвестником определенного перепорота в них, то новая ирландская литература с этого практически начинала свой путь. В Дублинском университете особое внимание к фольклору проявляли те люди, которые были поглощены идеей переустройства ирландской жизни. Среди них Эдвард Хадсон, первым пристрастивший Мура к изучению народного творчества, и Роберт Эммет — близкие друзья Мура и активные члены организации «Объединенные ирландцы». Однако сам Мур не вступил в организацию, по видимому, по настоянию родных. Но сложная политическая ситуация, сложившаяся в Европе и Великобритании, будоражила студенческую жизнь. В Дискуссионном клубе, членом которого был и Мур, обсуждались, например, такие вопросы: «Всегда ли солдат должен подчиняться приказам своего командира?», или: «Какой строй предпочтительнее для развития науки и литературы, демократический или аристократический?» Так или иначе, но идеи «Объединенных ирландцев», левое крыло которых брало пример с якобинцев, проникали в студенческую среду, и Томас Мур тоже подпал под их влияние. Так, в журнале «Пресса», издаваемом «Объединенными ирландцами», сначала появились стихотворения Мура, воспевавшие героическое прошлое Ирландии, о чем поэт писал впоследствии: «Разумеется, я, с присущим мне, когда дело касалось национального освобождения, пылом, стремился сотрудничать в этом патриотическом и популярном органе». А в декабре 1797 года было напечатано анонимное «Письмо студентам Тринити-колледж», ставшее первым политическим выступлением Томаса Мура. Не только родные Мура сочли письмо «слишком смелым», но и тайная комиссия ирландского парламента процитировала из него несколько параграфов, чтобы показать, сколь устрашающими были проекты «Объединенных ирландцев». В апреле 1798 года Роберт Эммет покинул университет, с головой окунувшись в подготовку восстания. Деятельность общества «Объединенные ирландцы» стала к тому времени беспокоить власти. Последовали многодневные допросы, связанных с Эмметом студентов, на которых Мур вел себя мужественно. Он заявил комиссии. что отказывается давать показания, которые могут повредить его друзьям. А в мае началось восстание, закончившееся гибелью 30 000 человек и роспуском ирландского парламента. Томас Мур не принял участия в восстании, как не примкнул к организации. членами которой были его друзья. Но оно оставило неизгладимый след в душе поэта. Мур воспринял его как трагедию, катастрофу, а в его участниках увидел героев, обрекших себя на смерть, чтобы вместо одной жизни, отданной угнетенной родине, обрести другую в сердцах будущих поколений ирландцев. Вновь и вновь он воспевал в своем творчестве участников восстания — бесстрашных борцов за свободу, равных легендарным героям древней Ирландии.
В 1799 году Мур все же заканчивает университет и получает степень бакалавра искусств, после чего уезжает в Лондон, где со свойственной ему добросовестностью изучает право, но главным образом занимается переводами из Анакреона, по сути вольными романтическими переложениями древнегреческой лирической поэзии, в которой он, по его собственным словам, искал «нежность чувства, разнообразие фантазии, столь необходимые для изысканной и вдохновенной любовной поэзии, однако был разочарован, не найдя этого». В 1801 году выходит в свет томик юношеских стихов Томаса Мура, скрывшегося под псевдонимом якобы умершего Томаса Литтла… Книга вызвала бурю негодования среди ортодоксальных критиков. Ее даже обвиняли в непристойности, хотя нам теперь трудно представить, что кого-то могли шокировать стихи, многие из которых сегодня вовсе не покажутся непосредственным проявлением сильного чувства. Но воспитанных на канонах поэзии XVIII века читателей книга поразила своей новизной. Уже в «Юношеских стихотворениях» Мура обнаруживалось влияние эстетических идей Уильяма Вордсворта (1770–1850) и Сэмюэля Тэйлора Кольриджа (1772–1834), требовавших в своем сборнике-манифесте «Лирические баллады» (1798), чтобы истинная поэзия являлась «свободным потоком мощных эмоций», «обдуманно» уложенных в разнообразную метрическую систему и выраженных языком «среднего и низшего классов общества». Томас Мур обрел популярность и вместе с ней несколько высокопоставленных знакомых, которые решили подыскать ему более или менее оплачиваемую должность. В разгар поисков кому-то пришла в голову мысль учредить специально для Мура звание поэта-лауреата Ирландии. Это произошло в 1803 году, когда Роберт Эммет возглавил восстание в Дублине и после его подавления был казнен. Томас Мур отказался от «подлой и гнусной подачки». В том же году он, получив должность на Бермудах, отплыл в Америку. То, что Мур увидел во время своего пребывания в Америке, вызвало к жизни его первые сатиры, которые были с негодованием встречены американцами, не прощавшими ему «оскорбления» и потому относившимися к его творчеству резко критически вплоть до выхода в свет поэмы «Лалла Рук». В предисловии к книге стихов об Америке (1806) Мур так описывал свои впечатления: «Грубая фамильярность низших классов и даже невоспитанность общества в целом меня не удивили бы и не внушили бы отвращения, будь они следствием простодушия или честного невежества, которое можно было бы ожидать от юного и неискушенного народа. Но, увидев его вполне зрелым во всех пороках, пользующимся всеми дарами цивилизации, но далеким от того лучшего, что в ней есть, невозможно не почувствовать, что эти ростки разложения естественно предвосхищают период еще более явной коррупции и способны подавить любую пылкую надежду на будущую силу и величие Америки». «Стихотворениями об Америке» заканчивается период становления Томаса Мура — поэта. Его голос звучит здесь значительно увереннее, чем раньше. В книге преобладают стихи-размышления, в которых содержится открытое осуждение теневых сторон общественной жизни США. А кроме того — и это, как нам кажется, главное в «американских» стихах Мура, — в них впервые открыто прозвучало авторское «я» поэта. Способность «сказать я», как выражался Кольридж, высоко ценилась поэтами-романтиками, для которых личность поэта была неотделима от поэзии, а поэзия являлась высшим родом познания.
Будучи уже немолодым, обласканным славой поэтом, Томас Мур, готовя к печати многотомное собрание своих поэтических сочинений, писал: «Я искренне убежден в том, что «Ирландские мелодии» — это единственное творение моего пера, слава которого… намного переживет наши дни». Романтическая поэзия, сделавшая объектом своего пристального внимания противоречивый внутренний мир человека, малейшие оттенки его чувств и эмоций, по то чтобы возродила жанр лирического стихотворения, который не прекращал своего существования ни в XVII, ни в XVIII веке, но вдохнула в него новые силы. В европейской поэзии и начало XIX века почетное место опять занял сонет, полузабытый со времен Возрождения. На это же время приходится рождение новой формы лирической поэзии — мелодии, или песни («Еврейские мелодии» Байрона, «Песни и баллады Шотландской стороны» Скотта, «Ирландские мелодии» и «Мелодии разных народов» Мура). Для эпохи романтизма в целом характерен острый интерес к поэтическим и музыкальным мотивам народного фольклора. Поэзия, обогащенная «вымыслами народными» и «странным просторечием, ранее презренным», должна была отвечать одному из главных принципов романтической поэзии, продекларированному Вордсвортом и Кольриджем: «Поэзия для всех и язык, доступный каждому». Обращаясь к народной песне, романтики находили в ней то искомое ими, по словам Мура, «соединение Политики и Музыки» и то «национальное настроение» (Энгельс), которое «в Ирландии со всей очевидностью проявляется в тоне печали и тоски, характерном для большинства старинных песен». Первым поэтом, обратившимся к ирландским народным песням, был Томас Мур. Его «Ирландские мелодии» — это сто двадцать четыре написанных к народным мелодиям поэтических текста, над которыми он работал с 1808 по 1834 год и о которых Байрон сказал: «…по мне некоторые из его «Ирландских мелодий» стóят всех когда-либо созданных эпосов». И содержание, и даже сам выход в свет «Ирландских мелодий» связаны с ирландским национально-освободительным движением, о чем с негодованием писало «Антиякобитское обозрение» в 1820 году: «Некоторые из них сочинены в расчете на неустойчивое состояние общества, а может быть, даже на открытый бунт… Влияние этих песен на неуравновешенные умы озлобленных фанатиков легко можно себе представить…» Не смирившаяся с поражением Ирландия накапливала силы для нового наступления на английский колониализм. А тут год за годом (на протяжении 26 лет!) появляются на прилавках и мгновенно раскупаются тоненькие книжечки со стихами и нотами, будоражащие национальные чувства ирландцев. Мелодия — это лирическая форма, основанная, как правило, на фольклорной песне. Однако помимо мелодий, посвященных вечным темам лирической поэзии — любви, разлуке, встрече и т. д., в сборнике есть другие, которыми поэт откликался на события, волновавшие его современников, так сказать, политическая поэзия в лирической форме. Главный образ «Ирландских мелодий» — образ родины, судьба которой отзывается болью в сердце поэта. В изображении Томаса Мура она и прекрасная юная возлюбленная гонимого судьбой ирландца, улыбающаяся ему сквозь слезы, и скорбная мать своих несчастных детей, в одиночестве коротающая дни:
Только б сердце в груди не устало стучать, —
Не забуду тебя, одинокая мать.
И в печали твоей, и в дожде, и во мгле,
Нет прекрасней тебя никого на земле.
Если б стала великой, свободной ты вдруг,
Первой розой среди пышноцветных подруг,
Я тебя прославлял бы, ликуя, но верь:
Горячее не мог бы любить, чем теперь.
Быть может, в утреннюю рань
Ты встретишь берег безымянный,
Тогда прерви свой бег, пристань.
Наш дом — лишь там, где нет обмана.
Он пал — и его закатилась звезда,
Но нам его светят дела,
И славы частица его — навсегда
В мечи нашей битвы вошла!
Славный меч мой!..
…как только почувствуешь руку бойца,
Что достоин сражаться тобой,—
Прочь из ножен скорей! С ним иди до конца
За свободу отечества — в бой!
Обогащение мелодики стиха отвечало эстетическим принципам романтизма. Поэты-романтики хотели расширить границы поэзии, выработать новые формы и способы поэтической выразительности, открыть путь фантазии — этому, в понимании романтиков, синониму поэтического, всячески расцветить поэзию, придать ей национальный колорит. Интерес к Востоку возник в английской литературе лет за сто до романтизма. К концу XVIII века этот интерес заметно усилился. Своеобразие верований, обычаев, сказаний Востока привлекло многих романтиков: Кольриджа, Саути, Байрона, Шелли. Не остался равнодушным к восточной теме и Томас Мур, поэму которого «Лалла Рук» В. Г. Белинский ставил в один ряд с «Фаустом» Гете. «Манфредом» Байрона, «Дзядами» Мицкевича. По-видимому, «Лалла Рук» была задумана одновременно с «восточными поэмами» Байрона, изданными в 1813–1814 годах: «Гяур», «Корсар», «Абидосская невеста», «Лара». Однако если Байрон внушал себе и своим друзьям, что пишет их только ради того, чтобы уйти от реальной жизни (хотя это и опровергается самими поэмами), то Томас Мур, лишь найдя в истории Востока тему, напоминающую о тогдашней политической жизни Европы, почувствовал в себе настойчивое желание работать над поэмой. Поэму «Лалла Рук» Томас Мур писал с 1812 по 1817 год. После появившейся было надежды на перемены к лучшему, связанные с разгромом Наполеона, в Европе в 1815 году восторжествовала реакция, гневно осмеянная Муром в «Сказках о Священном союзе». Работа над поэмой, как пишет Мур в предисловии к одному из ее изданий, стояла на месте в течение нескольких лет, и он уже вовсе хотел ее забросить, но тут «мне в голову пришла мысль: одни из рассказов посвятить долгой и отчаянной борьбе гебров, персидских огнепоклонников, против мусульман, их арабских завоевателей… и вскоре дух ирландских мелодий перекочевал на Восток». Четыре романтические поэмы, составляющие главное содержание «Лалла Рук», на первый взгляд объединяет лишь тщательно продуманная восточная декорация, и традиционно они рассматриваются отдельно и независимо друг от друга. Хотя это не совсем верно. «Пери и ангел» и «Свет гарема» — поэмы философского содержания. Главное в них — проблемы прекрасного, красоты и истины, торжества красоты. «Пери и ангел» благодаря переводу В. А. Жуковского раньше других получила известность в России. В. А. Жуковский так понял заключенную в ней идею прекрасного: «Прекрасное существует, но его нет, ибо оно является нам только минутами, для того единственно, чтобы нам сказаться, оживить нас, возвысить нашу душу…»{7} Но истина и красота, что для романтиков было, по сути, единым понятием, как думал Мур, не являются сами, их надо найти, открыть даже в неправедной жизни и неправедном человеке.
«…Время было,
И я, как ты, младенец милый,
Был чист, на небеса смотрел…»
И голову потупил он;
И все, что с давних тех времен
В душе ожесточенной спало,
Чем сердце юное живало
Во дни минувшей чистоты,
Надежды, радости, мечты —
Все вдруг пред ним возобновилось,
И в душу, свежее, втеснилось;
И он заплакал…
…Тогда лишь,
Когда все храмы и престолы свалишь,
К стопам твоим положат наконец
Раб кандалы свои, тиран венец,
Священник свитки, лавры победитель,
И к нам ворвется в грешную обитель
Дыханье истины, как ветер с гор,
Сметая униженье и позор,
Тогда повсюду разум воцарится,
И новый человек на свет родится,
Под новым солнцем, в зареве его
Он воссияет, словно божество!
Вольнолюбие Томаса Мура, столь явственное в «Ирландских мелодиях» и «Огнепоклонниках», проявилось в многочисленных сатирических и юмористических произведениях поэта. Многообразно сатирическое творчество Томаса Мура, которое он как-то назвал «длительными военными действиями против тори». Первые сатиры Мура, появившиеся на свет в самом начале 1800 годов и посвященные теневым сторонам американской действительности, были лишь предвестниками тех незамедлительно откликающихся на события дня, остроумных и приводящих в бешенство сторонников тори сатир, которые Томас Мур будет писать в течение всей своей жизни и печатать анонимно в газетах. Сатиры Томаса Мура — это политическая публицистика, тем более разящая, что автор никогда не избегает называть конкретные имена и события, вызвавшие их к жизни. Национальная политика принца-регента, впоследствии короля Георга IV, и лорда Каслри, а также и подавление Священным союзом освободительной борьбы в европейских странах были гневно заклеймены поэтом. «Истинная соль политической сатиры — в ее неувядаемом значении для будущих времен и будущих поколений… — писал Томас Мур, — в ее способности передать потомкам бич насмешки готовым пройтись по спинам фанатика и угнетателя, в каком бы новом обличил они ни явились». Однако нужно признать, что немногие сатиры Томаса Мура сохранили свое значение до нашего времени, несмотря на их большую популярность при жизни поэта. По-видимому, причина заключается в том, что остроумное осмеяние или гневное осуждение того или иного политического события занимало Мура-сатирика куда больше, нежели обобщение сходных явлений и выявление в них главного. К тому же либеральные взгляды Томаса Мура не позволяли ему заглянуть далеко в будущее и не всегда позволяли разглядеть глубинный смысл происходящего. Взять, например, стихотворение Томаса Мура «На смерть Шеридана», тематически близкое к «Монодии на смерть Шеридана» Дж. Г. Байрона. В оценке Байрона Шеридан — это пламенный оратор, защитник порабощенных народов, великолепный художник слова. Мур пишет о другом. В его стихотворении главное — несправедливое отношение несправедливого общества к поэту. В отличие от Байрона Мур не увидел в своем герое борца против этого общества, которое, в сущности, убило его. Но в отличие от М. Ю. Лермонтова, написавшего «Смерть Поэта», не увидел и закономерности «палачества» «Свободы, Гения и Славы палачей». И все же «На смерть Шеридана» остается искренним и взволнованным словом прощания с поэтом, чья судьба была нелегкой, но чьи произведения будут жить в веках. Пожалуй, самой значительной сатирой из написанных Томасом Муром являются «Сказки о Священном союзе», которые вышли в свет в 1823 году одновременно с поэмой «Любовь ангелов». Национальная политика реакционных сил, восторжествовавших в Европе после разгрома Наполеона, не могла не привлечь к себе внимания ирландца Томаса Мура, который во все годы своей жизни пристально следил за национально-освободительной борьбой в других странах и всегда с пламенным сочувствием на нее откликался. Как правило, свои сатирические произведения Томас Мур писал ямбом, так называемым «бичующим ямбом», традиция которого восходит к английскому поэту XVIII века Александру Попу. В основе его сатирических приемов — доведенное до абсурда восхваление в духе Джонатана Свифта, оборачивающееся саркастическим осмеянием отрицательного явления. Томас Мур — певец свободы — никогда не уставал выражать сочувствие угнетенным, потому и сочувственное внимание тех, кто боролся против угнетения своего народа, всегда было приковано к Муру. Такова судьба «русского Мура». В России судьба ирландского поэта сложилась счастливо. Еще И. В. Киреевский (1806–1850) писал: «…шесть иностранных поэтов разделяют преимущественную любовь наших литераторов: Гете, Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич». И хотя до сих пор не было ни одного отдельного издания поэтических произведений Томаса Мура на русском языке, но сколько славных «соперников» ирландского поэта подарили нам радость общения с ним. Стихотворения, переведенные на русский язык В. А. Жуковским, И. И. Козловым, А. А. Фетом, М. Ю. Лермонтовым, Д. Д. Минаевым, М. Л. Михайловым, А. И. Плещеевым, стали неотъемлемой частью русской словесности.
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом…
Стихотворения Мелодии Сатиры
Юношеские стихотворения[1]
Отрывок из школьного сочинения перевод А. Ревича
Justum bellum quibus necessarium et pia arma quibus nulla nisi in armis relinquitur spes.Livy{8}
Неужто смолк небес призывный рог,
И цели нет заветной и дорог —
Туда, где справедливости закон,
Где луч сияет на шелках знамен?
Нет, зов столь нежен, словно в свой предел
Над колыбелью ангел пролетел,
Как бы небес взывает глубина,
И мысль за грань греха устремлена.
Зов родины — о, если бы проник
Он в глубину души, в ее тайник,
И пусть душа откликнется одной-
Единственной созвучною струной.
К… перевод А. Ибрагимова
Не надо слов: все так понятно.
Нас истомил взаимный плен.
Я сердце шлю тебе обратно,
А ты верни мое взамен.
Мы знали в полной мере счастье.
Пора расторгнуть узы сна:
Мрачна, как зимнее ненастье,
Была бы вечная весна.
Я слышу снова зов скитаний.
Но — верь — я не ищу иной
Подруги — преданней, желанней:
Прельщаюсь только новизной.
Итак, приют любви покинем
И, разлучась, пойдем с тобой,
Не отягченные уныньем,
Ты — той, я — этою тропой.
В короткой вспышке страсти ярой
Не пострадал никто из нас:
Ты не утратила ни чары.
Ничуть мой пламень неугас.
Не опалили поцелуи
Лиловый розан губ твоих,
И сладость сохранил былую
Твой вздох, мечтателен и тих.
Прощай! Когда любовь другая
К себе скитальца призовет, —
Минувшего не отвергая,
Шепну я (знаю наперед):
«Был много ярче твой румянец,
Чем этот, бледный, неживой,
Твой взгляд, и влагой притуманясь,
Сиял яснее синевой».
Прощай! Всему конец. Отныне
Меж нами — отчужденья лед.
Другой в ликующей гордыне
Твой стан руками оплетет.
Но, вспоминая все, что было,
Ты вдруг поймешь, печаль гоня, —
В нем нет и половины пыла,
Переполнявшего меня.
Песня перевод Г. Кружкова
Как мог ты, милый, не видать,
Что без тебя мне плохо,
И слез в глазах не замечать,
И не расслышать вздоха?
Не знать, что я одним тобой
Живу и существую,
И недоверчивостью злой
Пытать любовь живую?
Лишь ты один в моей судьбе,
В любом моем дыханье,
Вся жизнь моя — любовь к тебе,
Одно, одно желанье.
Когда ты можешь думать впредь,
Что сердцем неверна я,
Одно осталось — умереть,
Тебя благословляя!
К… перевод А. Ревича
Как любил я тебя и — поверь —
Не забыл этих сладких мгновений,
Я тебя презираю теперь,
И стократ это чувство блаженней.
Надо мной наважденья царят,
Вижу я тебя или не вижу:
Сладок привкус любви, но стократ
Я счастливей, когда ненавижу.
К… перевод Д. Минаева
Когда же ты плачешь от грезы,
От детских фантазий и мук,
К тебе так идут эти слезы,
Что плачь ты почаще, мой друг!
Змея перевод А. Ревича
Под сенью миртовых ветвей Прилег я с милою моей, Вдруг среди роз, цветущих рядом, Змея блеснула злобным взглядом.Любимая сказала так: «Взгляни, какой недобрый знак! Увы, таится тень угрозы Под нежною улыбкой розы!»
От этих неуместных слов Смутился я и был готов Вскочить, убить немедля гада. Сказала милая: «Не надо». И улыбнулась мне она С лукавым огоньком во взгляде: Змея, мой друг, тогда страшна, Когда скрывается в засаде. Но если видишь под кустом Свирепый взор, не празднуй труса, Ведь надо быть совсем глупцом, Чтоб, видя жало, ждать укуса.
Любовь и женитьба перевод С. Таска
Eque brevi verbo ferre perenne malum{9}
Я решил не полениться
Истину напомнить вновь:
Влюбишься — зачем жениться?
Женишься — прощай любовь!
Будь она прекрасней феи,
Весела, а не брюзга,
Не из женщин, чьи трофеи —
Мужа бедного рога;
Будь она умна (но в меру)
И воспитанна вполне,
Затмевай она Венеру,
Страсть питай она ко мне;
Будь она тысячекратно
Добродетельной, — мой друг,
Роль любовника приятна,
Хуже, если ты супруг.
Ведь любовь живет на воле
И не переносит уз.
Ну а где уж тут раздолье,
Коли вынужден союз?!
Лжец перевод А. Ревича
Che con le lor bugio paion divini.Mauro d'Arcano{10}
Сегодня тебе я признаться готов:
Мной сказано столько неискренних слов.
Расстаться с твоей красотой ни за грош? —
О нет, будет лучшею платою ложь!
Не хмурься, красавица, гнев подави,
Вовек быть неправде душою любви.
Когда бы мы были правдивы всегда,
Когда наша клятва была бы тверда,
Когда не вели бы мы хитрой игры,
Весь мир провалился бы в тартарары.
И если б однажды господь превратил
Все женские взоры в сиянье светил,
Не стал бы на небо глядеть астроном,
Глаза изучал бы и ночью и днем.
Скажу я тебе, ничего не тая:
Коль в снег превратилась бы шея твоя,
Коль жемчуг во рту заблистал бы твоем,
А кудри златым оказались литьем,
Тогда, может быть, покоряясь судьбе,
Я отдал бы душу одной лишь тебе,
Тогда бы в словах раскрывались сердца
И не было б жарким лобзаньям конца.
Быть может, тебе моя речь невдомек,
Ну что же, мой друг, растолкую намек:
Коль встретится кто-то тебе на пути,
С кем сможешь ты снова любовь обрести,
Запомни: покуда ты веруешь в ложь,
Покуда сама безнаказанно лжешь,
Покуда лукавит возлюбленный твой,
Он верен тебе и пребудет с тобой.
Но если он вымолвил правду — беда,
Увы, пролетела любовь без следа.
Рондо перевод Г. Симановича
«До завтра, милый!» — О, досада!
Мне с Розой расставаться надо!
Но будем мы опять, опять
Слова прощанья повторять,
И луч рассветный, к нам влетая,
Услышит: «Добрых снов, родная!»
«Прощай! — ты шепчешь у порога
И тотчас: — Нет, еще немного!»
А я готов хоть вечно длить
Мгновений драгоценных нить;
И вновь объятья и лобзанья
И шепот, шепот «До свиданья!».
«Спокойной ночи!» — ты вздыхаешь,
И мне пора — ты это знаешь,
Но, слово дав, что ухожу,
Тебя в объятьях продержу,
Покуда сну мы не сдадимся:
И лишь тогда, мой друг, простимся.
Дражайшей Фанни перевод Мих. Донского
Будь, Фанни, у меня досуг
Для вздохов и для слез,
Тебе бы в дар, сердечный друг,
Я скорбь свою принес.
Но надо торговать вином,[3]
Любить, и спать, и есть!
Нет, времени тут нипочем
Для скорби не наскресть.
Стонать и ныть я не рискну:
Смешлив, громкоголос.
Кто обречен служить вину,
Того мутит от слез.
Запечатлен в душе моей
Блеск твоего чела.
Но знай: от сырости скорей
Тускнеют зеркала.
Сквозь слезы виделась бы мне
Твоих красот лишь треть,
А так красоты все вполне
Могу я рассмотреть.
Не обольщайся на сей счет,
Слез от меня не жди:
Коль солнце твой не плавит лед,
Помогут ли дожди?
Кольцо[4] перевод Ю. Петрова
Annulus ille viri.Ovid. Amor lib. eleg. 15{11}
Настал венчанья светлый день,
И Руперт счастлив был,
Что лучшей из шотландских дев
Отдаст свой юный пыл.
Явились гости, чуть заря
Плеснула свой кармин,
Жених всех женщин покорил,
Невеста — всех мужчин.
Увеселений и забав
В тот день не перечесть:
Кто пением был увлечен,
Кто танцам отдал честь;
Девицы резвою толпой
Заполнили весь дом,
Они невесту Айзебелл
Украсили венком;
И дамы в платьях дорогих
Вошли в просторный зал,
Где эхо гулкое рождал
Торжественный хорал;
А Руперт и его друзья,
Сойдясь среди двора,
Метали мяч — влекла мужчин
Задорная игра.
На пальце жениха кольцо
Блестело — тем кольцом
Он обручиться с Айзебелл
Был должен под венцом.
Боясь в лихой игре его
Сломать иль обронить,
Местечко Руперт стал искать,
Чтоб перстень сохранить.
И статую в углу двора
Вдруг заприметил он —
Царицу или божество
Языческих времен.
Кольцо примерил, приложил
Он к неживым перстам,
На палец статуе надев,
Его оставил там.
И длилась, бурная, как бой,
Отважная игра,
Пока не возвестили им,
Что сесть за стол пора.
Но к истукану подойдя,
Остолбенел жених:
Ах, сжала статуя персты,
В кулак сомкнула их!
Стал Руперт выручать кольцо,
И силы не жалел,
Но хватку мраморную он
Ослабить не сумел.
В смятенье ввергла жениха
Нежданная беда.
— Когда стемнеет, — он сказал,
Я вновь приду сюда.
И пил, и ел он, но не мог
Испуг согнать с лица,
Все думал, как же объяснить
Пленение кольца?
Окончен пир, и вмиг жених
За перстнем поспешил
И, чтобы снять его с руки,
Разбить ее решил.
Но новый ждал его удар —
Того, что был, страшней:
Разжата статуи рука
И нет кольца на ней!
Весь пьедестал он обыскал,
Все осмотрел кругом
И, потрясенный, без кольца,
В тоске вернулся в дом.
Там танцы шли, царили там
Веселье, шум и смех;
Другое он достал кольцо,
Всё утаив от всех…
Но вот Священник возгласил
Их брак пред алтарем,
И Руперт тут же позабыл
О бедствии дневном.
На брачном ложе Айзебелл
Ждала его, маня,—
Так на рассвете ждет цветок
Прикосновенья дня.
И к ней склонился юный муж,
Прекрасен и могуч,
Как Феб, стремящийся пролить
На розу яркий луч.
Вот тут и замолчать бы мне,
Перо бы отложить,
Когда б не то, что им еще
Случилось пережить.
Незримый призрак разделил
Их теплые тела,
На плечи Руперту рука
Холодная легла.
Он встал, вернулся к ложу он,
Но нечто было там,
Тянулось, хладное, оно
К живым его устам.
И леденящий поцелуй
Его коснулся губ:
Так мог могильный пахнуть склеп
Или смердящий труп.
Несчастный Руперт вопль издал,
В слезах воззвал к жене:
— Спаси от дьявола меня,
Приди на помощь мне!
Как ни глядела Айзебелл —
Кругом одна лишь тьма;
Над мужем плакала она,
Лишившимся ума.
И наводящий жуть, чужой,
Услышал голос он;
О боже! Как он задрожал,
Как был он потрясен!
— Мой муж, твой перстень у меня,
И я — твоя жена,
Ты обручен навек со мной,
Как я обручена!
Всю ночь с ним рядом демон был,
Холодный, как металл,
Сжимая так его, что он
О гибели мечтал.
Но наконец заря пришла,
И призрак сгинул прочь,
Оставив новобрачных клясть
Безрадостную ночь.
И скорби тень весь долгий день
Темнила лик его;
Но ободряла Айзебелл
Супруга своего.
Весь день о ночи думал он,
Постели той страшась,
К которой лишь вчера его
Влекли любовь и страсть.
Настала ночь; ее приход
На ложе их застал,
Где о покое юный муж
И о любви мечтал.
Но в полночь рядом с ним опять
Был демон роковой,
И, вновь его в объятьях сжав,
Издал победный вой:
— Мой муж, твой перстень у меня,
И я — твоя жена,
Ты обручен навек со мной,
Как я обручена!
Тоску, отчаянье и страх
Сдержать он не сумел,
Он вновь вскочил и возопил
К дрожащей Айзебелл:
— Опять тут нечисть, Айзебелл!
Она и в этот раз
Мне страстью мерзкою грозит
И разделяет нас!
— О мой любимый, ничего
Не вижу я вокруг,
Скорблю, что между нами встал
Несчастный твой недуг!
И вновь супружеская ночь
Прошла, как страшный бред,
И демон буйствовал, пока
Не наступил рассвет.
И молвил Руперт: — О жена,
Подруга средь невзгод,
Я нынче к Остину пойду
В его священный грот.
А Остин был почтенный муж,
Вершитель дивных дел —
Но то ли праведник он был,
А то ль им ад владел?..
Вот Руперт к Остину пошел,
Спеша что было сил,
И, все, как было, рассказав,
О помощи просил.
А Остин, выслушав его,
Ушел в пещерный мрак
И, помолившись полчаса,
Ему ответил так:
— Есть место, где, как меч с мечом,
С путем скрестился путь,
Сегодня, как настанет ночь,
На этом месте будь.
При свете факелов, вопя,
Причудливой толпой
Фантомы мерзкие гурьбой
Пройдут перед тобой.
Там будет некто — высотой,
Как страшный бастион,
Едва ты глянешь на него,
Поймешь, что это он;
Вот письмена — отдай ему,
Чтоб он их прочитал,
Не бойся зря, недаром я
Их кровью начертал!
Повиновался Руперт. Ночь
Одела темнотой
Тот стык дорог, куда его
Послал отец святой.
И лишь настал полночный час,
Неистовой толпой,
Вопя, фигуры подошли
Предсказанной тропой.
И в свете факельных огней,
Средь этой кутерьмы,
Блудницу Руперт увидал —
Отродье вечной тьмы.
Полуодетую узрев,
Едва сдержал он крик:
Проклятой статуи она
Была прямой двойник.
А следом некто страшный шел,
Как воплощенье зла,
Из уст клубился серный дым,
И смерть в глазах была.
Он возвышался над толпой,
Как грозный бастион.
— Я вижу, — Руперт прошептал, —
Что главный — это он.
И Руперт письмена ему,
Дрожа как лист, вручил,
А тот прочел и крикнул так,
Что мертвый бы вскочил:
— Еще ты, Остин, держишь власть,
Еще неодолим,
Но скоро выйдет срок тебе —
И будешь ты моим!
Он так на Руперта взглянул,
Что тот затрепетал,
Потом блуднице что-то он
Тихонько прошептал;
А та, желаниям своим
И воле вопреки,
Кольцо, что Руперт потерял,
В сердцах сняла с руки,
Швырнула Руперту его
И взор вперила свой,
И адский голос прогремел,
Над шумною толпой:
— Во имя Остина кольцо
Я возвратить должна,
И ты мне более — не муж,
Тебе я — не жена!..
Он взял кольцо, пришел домой —
И стали с ночи той
И он, и леди Айзебелл
Счастливейшей четой.
Бессмыслица перевод Н. Булгаковой
Читатель! Видели ли вы,
Как солнце голову склоняет
И как морских сирен качает
Вал океанской синевы?
Как в сумерках пустынный дух
Плыл над землей, тревожа слух
Молитвой, в тишине унылой?
Как вечером, когда туман
Клубится в темноте полян,
Резвились феи средь листвы?
Я рад тогда, читатель милый,
Что это видели всё вы!
Сон греческой девушки о благословенных островах к не возлюбленному[5] перевод З. Морозкиной
То месяц был иль просветлел восток?
И милого из рук моих исторг?
Но чуть ушел ты, как явилось мне
Столь яркое видение во сне,
Что я, пока так живо колдовство,
Хочу, чтоб ты услышал про него.
Мне снилось, низошли в луче луны
Два мальчика крылатых (видит сны,
Исполненные прелести такой,
Твоя лишь муза) в тихий мой покой,
Светлы, как духи, чья чета живет
Вблизи Аматы[6] в струях теплых вод
И покидает их порой ночной,
Стремясь к холмам прохладным под луной.
Я сразу поняла: они пришли
Поднять мой дух высоко от земли
Эфирными путями к той стране,
Что иногда сияла мне во сне.
Они одним прикосновеньем рук
Земные узы разрешили вдруг
И к небесам со мною вознеслись
В росою освежаемую высь
Под ветерком с безоблачных планет,
Где самой смерти не было и нет.
Над нашим нижним небом — знаешь сам, —
Чуть видный человеческим глазам,
Течет эфира синий океан,
Весь островами света осиян.
Там обрели навеки свои приют,
Кто мудрость и любовь сливали тут.
Луна, чей свет в полночной тишине
Так часто приводил тебя ко мне,
Не мертвая планета — светлый мир,
Плывущий величаво сквозь эфир;
То горний остров любящих, и он
Воздушными тенями населен.
Я поняла, что мы туда летим.
День серебристый светел был над ним,
И там, на ложа из лилей склонясь,
Блаженных души окружали нас.
О, там нашла я тех немногих жен,
В ком жар любви был мыслию зажжен.
Там с кроткою Леóнтион[7] мудрец
Беседою скреплял союз сердец.
Там Пифия[8] объятьем, полным чар,
Зажженный ею награждала жар.
Искал в глазах Аспазии Сократ
Забвения и сладостных наград,
А Теанó[9], прекрасное дитя,
Самосцу[10] кудри заплело шутя.
Его душа, наскучив чередой
Переселений, здесь нашла покой.
И он постиг с улыбкой тайных числ
Мистический, давно искомый смысл:
Что людям и богам как дар дано
В любви из Двух рожденное Одно.
Но как, Теон, затрепетала я,
Когда мой взор в долине у ручья
Одну из лунных повстречал теней,
Столь схожую с тобой, что сердцем к ней
Я устремилась, преданно любя,
Боготворя, как самого тебя.
Для бестелесных душ желанья зов
Бывает внятен без посредства слов,
Но, скрытой силой душу озарив,
Безмолвный и возвышенный порыв,
Как метеор, прорезав небосвод,
Мысль от души к душе передает.
Какой небесной радостью дыша
С родной душой встречается душа!
Так бог-поток, которого ведет
Лишь свет его любви из грота в грот,
Выносит с торжеством из темноты
Дев олимпийских пестрые цветы,
И все венки, которыми почтен,
Невесте-Аретузе[11] дарит он.
С какой любовью он стремит свои
К ее ногам сияющим струи!
И, две судьбы соединив в одну,
На мрак и свет с волною слив волну,
Они бегут, обнявшись, в глубину.
Так это было…
Но боюсь, Теон,
Тебе успел наскучить этот сон.
О, будь ты здесь, старанье бы могло
Привлечь терпенье на твое чело,
И сказкам улыбнулся б ты в ответ
О кущах на земле других планет,
Которые душа моя во сне
Причудливо сплела тебе и мне.
Но я продолжу после. Жди меня,
Когда в полях луч завтрашнего дня
Над Илисом растает и когда
На западе блеснет любви звезда.
Венок и цепочка перевод Г. Кружкова
Вот, милая, Венок цветов,
А вот — Цепочка золотая;
Цветам дышать до холодов,
А Злату вечно жить, блистая.
Так чем же крепче, дай мне знать,
Твое сердечко привязать?
Цепочка золотом горит,
Как прядь Минервы светлокудрой,
Когда закатный свет разлит
Над головой богини мудрой.
Венок из лучших роз сплетен,
Из тех, чьи лепестки порою
Прикладывает Купидон
К устам, ужаленным пчелою.
Так чем же крепче, дай мне знать,
Твое сердечко привязать?
Ах, я читаю по глазам
То, что язык сказать стыдится:
К двум соблазнительным дарам
Ты тянешь руки, баловница!
Увы! когда б не Рок судил,
Чтоб так на свете не бывало, —
Венок бы нежностью дарил,
Цепочка прочность придавала.
Цветы и золото (как знать!)
Могли бы нас навек связать.
Но, Фанни, их сдружить нельзя
(А почему — лишь Небо знает),
Тускнеет ясная краса,
Когда их вместе съединяют.
Венок ли хрупко так сплетен,
Или же Цепь тяжеловата,
Но увядает сразу он,
Едва цветов коснется злато.
Уж лучше век любви не знать,
Чем так подругу привязать!
Она потупилась; потом
Вновь очи подняла в смущенье;
Я видел: над ее челом,
Как облачко, прошло сомненье;
Вздохнула, — словно аромат
Повеял — роз благоуханней.
Кто, окунувшись в этот взгляд,
Не угадал бы выбор Фанни?
«Венок, Венок, любимый мой,
Соединит меня с тобой».
Падение Гебы[12] Дифирамб перевод Р. Дубровкина
В тот день и час Сверкал неугасимо, как алмаз, Фиал священный олимпийцев вечных, Росою светозарной окроплен, Сочащейся из амфор искротечных, В чьи сумрачные недра Для душ иных при сотворенье мира[13] Струю животворящего эфира Владыка вседержавный пролил щедро! С востока, Багрово озаряя небосклон Безбрежным полыханьем, Тянулась облаков гряда златая И, все вокруг даря благоуханьем Садов Архипелага, Над спящею землей кружила, тая, И вниз Рассветная струилась влага. Мир ликовал в счастливом изумленье!Ликует все, когда смеется Дионис![14] Стопламенный венец едва касался Его амброзийных кудрей И, словно светоносная лоза, Вокруг чела любовно обвивался, Пуская пепелящие побеги. Чуть выше, окаймляя эмпирей, Мерцали сквозь узорчатые листья, Подобно зрелым гроздьям винограда, Огней волшебных кисти — Плоды божественного вертограда. На шкуру барсову склоняясь в кроткой неге, Киприда[15] возлежала, Прекрасная, как в тот блаженный миг. Когда впервые на лазурном бреге, В разрывах пены, Из моря облик царственный возник, И славу пели ей сирены! Божественность ей лик преображала И, сомкнутых коснувшись век, Осталась там навек, Оковами восторгов пленена! Сейчас небесноликая жена В объятьях сладостных почила, розовея, И, заслонив ладонью взор Лиэя[16] От пояса, струившего вокруг Отраду дерзких чар, Искрящийся нектар, Забвенный Вакхов дар, Покорно приняла из милых рук И трепетно пригубила, как вдруг Из глаз ее бездонных полились В звенящий кубок светлые потоки, И волны золотых ее волос, Атласные лаская щеки, Край кубка захлестнули и зажглись Огнем лучистым в глубине хрустальной, Подобно солнечной листве шафрана, Что, сочетаясь с ароматом роз Садов Кирены[17], Порой закатною пылает рдяно Над влажным серебром струн зеркальной!
Сосуд священный К сияющей вдали вершине неба, Где бьет не иссякая звездный ключ,[18] По светлым склонам эмпирейских круч Несла стремительная Геба И в тайном нетерпенье, Мечтая кубок свой наполнить поскорее, Гремящей влаги буйное кипенье Она дыханьем усмиряла нежным, Сродни зефирам в оперенье снежном, Какими дышат лишь Гипербореи[19] В краю, где счастье вечное царит, В краю, где не бывает зимних вьюг!
Но, Геба, Как велик был твой испуг, Когда под шепот ветреных харит, К Олимпу снеговерхому влекома, По тропке узкой ты ступала невесомо С фиалом пенным для властителя богов, И некая звезда, Из тех, что устилают полвселенной, Подобно мириадам жемчугов, К твоим стопам прильнула в ослепленье И прервала твой бег самозабвенный, И сонмы небожителей в смятенье Увидели, как тонут без следа Извивы столь пленительного тела В потоке благодатной синевы, По берегам которого в те дни Лежали боги, точно цвет благоуханный На пышном шелке луговой травы, В янтарных брызгах уходящей ночи; Или сродни толпе миртовенчанной, Что в кипарисовой тени Ликует у подножий Святилищ, где пафосская царица[20] Почиет в розах на алмазном ложе! Тут ветер-озорник, Что вслед за Гебой вздумал устремиться И кольца локонов ее воздушных Свивал и развивал в струях послушных, К ней под хитон проник И вмиг, Когда она упала с небосклона (О юный озорник!), Он вдруг взвился на крыльях шаловливых И приподнял проворно край хитона! И тысячам очей стыдливых Предстали чары девственной богини, Дотоле утаенные покровом, Подобно таинствам святым, что в Элевсине[21] От глаз непосвященных скрыты! …взгляд Геры своенравной Стал суровым, Улыбкой Афродиты Был тотчас награжден проказник юный, Пунцово вспыхнули ланиты Невинных аонид[22] — они сквозь струны Злаченых лир следили взором чистым За тем, как, опаляя небеса, Из кубка, оброненного богиней, Сквозь полог синий, Сиянием озарена лучистым, Струилась вниз жемчужная роса! Созданья неземные, кто из вас О Человеке вспомнил в этот час? Какой судеб заоблачных вершитель В нездешнем милосердье Смахнул сверкающие эти слезы С небес — на нашу тесную обитель? Бессмертие на дольний пролил мир! Божественный эфир Сбегал, играя, по лазурной тверди И на пути своем Вбирал тончайшие оттенки благодати, И, обновляясь в каждом аромате, Пылал все ярче он, все чудотворней! Вот, наконец, коснувшись лиры горней В звенящем поцелуе, Похитил душу Фебовых созвучий! И вниз увлек немеркнущие струи Амброзии кипучей, Овеянной дыханием планет, Чей жребий неминучий — Орбитам сомкнутым стремиться вслед В пустынности ночей! И боги, что с Атлантовой горы[23] Увидели, как бьет все горячей Ярчайший из Зевесовых ключей, Сочли, что целые миры Смели свою расплавленную ось И, сферы вышние пройдя насквозь, Обрушились — о, чудо из чудес! — Дождем столь ослепительных лучей!
Дитя зари[24] Еще дремало в сумрачной прохладе На листьях лотоса, когда с небес, Дробясь на просветленной глади, Стал падать ливень чудный и исчез За пеленою пурпурных завес И разметал младенческие пряди Вкруг чистого чела,— Так благовонная смола Течет на кудри юного Эрота! И вмиг дремота Свои полог приоткрыла, и поток, Багряный От влаги пряной, Отхлынувшей с его восточных щек, Разлился по сияющим лугам, Дари нектар назначенный богам. Благословен и трижды славен он, Цветок, что звездной влагой окроплен, И дерн, Зевесово познавший пламя! И лишь единожды благословен Росток, что семицветными крылами Богини солнечной[25] захвачен в плен!
Кольца и печати[26] перевод А. Шараповой
‘Ώσπερ σφραγίδεβ τά φιλήματα{12}Ахилл Татий[27]
— Оставь меня! — кричала дева,
В слезах от бешенства и гнева.—
Твои обеты, взор — скажи,
Что было в них, помимо лжи?
Уйди! Твоя душа превратна,
Возьми твои дары обратно!
Кольцо… Его и день и ночь
Носила я. А ныне — прочь!
Возьми печать. Ты в ночь святую
Ее мне дал для поцелуя:
«Будь заключенным родником!» —
Но ты мне изменял танком!
Так прочь подарки и обеты,
Мне мерзко, ненавистно это! —
Я взял печать, я взял кольцо —
И видел чистое лицо,
Глядевшее с немым упреком.
Так, встретившись с людским пороком,
Рыдает ангел. — Слушай, Фанни!
Ведь это половина дани.
Тебя лобзал я многократно —
Верни лобзания обратно.
Тебе хотел я больше дать,
Чем Соломонову печать.
Мои подарки были сладки —
Верни их мне — и все в порядке.
Верни их мне, верни назад!
Я видел, как черты и взгляд
Смягчались, млели постепенно…
Как солнце над пучиной пенной,
Огонь то вспыхивал, то гас
В лазури просветленных глаз.
Потом она мне улыбнулась,
Ее щека моей коснулась —
И возвратились к ней опять
Мои колечко и печать.
Женщина перевод Г. Усовой
Довольно, хватит — ты все та же:
Кокетство, ложь, фальшивый пыл!
Предался я постыдной блажи,
Твоим рабом так долго был!
Лишь показные совершенства,
А чувства нет в твоей крови.
Остыло сердце для блаженства
И бьется слабо для любви.
Ты над толпою жаждешь власти,
И для тебя всего важней
Разжечь дешевых фатов страсти,
Не дорожа душой моей.
Довольно! Хватит с ложью знаться.
О сжалься, боже всеблагой,
Ведь легче с жизнью распрощаться,
Чем жертвой стать любви такой!
Из «СТИХОТВОРЕНИИ ОБ АМЕРИКЕ»[28]
θυμος δε ποτ’ έμός*** ***μέ προσφωνεί τάδε' Γίνωσχε τ’άντρώπεια μή αέβειν άγαν{13}.Эсхил. Фрагмент
Стансы перевод Мих. Донского
На западе небо опять голубое,
Косматые тучи ползут на восток.
Упившись весельем ночного разбоя,
Усталые волны ласкают песок.
И я подчиняюсь пленительной власти
Покоя, — им сызнова мир осиян, —
Хотя вспоминаю минувшие страсти,
Как помнит о бурях былых океан.
Я думаю: предан одним наслажденьям,
Я жил суетою текущего дня!
Насмешливым я награждал снисхождением
Ровесников, бывших мудрее меня.
Сердца загорятся ли пламенем наши?
Смиримся ль, что холодно в них и темно?
Часы удовольствий! О, сколько в их чаше
Жемчужин призвания растворено!
Взмолился я к Духу, что правит вселенной:
Пусть огнь разгорится, мне вложенный в грудь!
Я жизнь получил как залог драгоценный,
Его незапятнанным должен вернуть.
И мнилось в природе самой мне участье:
Она улыбалась, покоем дыша.
О, дивный восторг!.. Словно схлынули страсти,
Грехи прощены, и омылась душа.
Гляжу в безмятежную синь небосвода,
Которую тучи скрывали с утра…
Ах, если б и в сердце прошла непогода
И зло отступило пред силой добра!
К мисс Мур (Из Норфолка, штат Виргиния, ноябрь 1803 г.) перевод Э. Шустера
О Кэт, когда все было ново
И в тишине родного крова,
Где грезил мой невинный ум,
Едва был слышен мира шум;
Когда постель еще без терний
Меня встречала в час вечерний,
В тот час, как узнает закат,
Готов ли к сну цветка наряд,
И мать крестом нас осеняла
И доброй ночи нам желала,—
В те годы, если дольше дня
Не обнимала ты меня,
Нам представлялось это мукой!
Но вслед за тягостной разлукой —
Припомни, — как ждала ты час,
Когда начнется мой рассказ!
Теперь меж домом тем и мною
Волна катится за волною;
Родиться надо лунам трем,
Чтобы конверт с твоим письмом
Достиг меня; увы, посланью
(В его строках внемлю дыханью
Родного дома, слышу вновь
Твою, сестра моя, любовь!)
Столь многие грозят невзгоды —
Пространство, время, непогоды,—
Что, может статься, в этот срок
Рука, что, тронув сей листок,
Его блаженством населила,
Давным-давно уже остыла!
Но, дорогая Кэт, поверь,
С хандрой покончено теперь!
Я прибыл и живу в покое,
Зеленый цвет кедровой хвои
Отрады больше мне дает,
Чем сам божественный наш Клод![29]
Коснулся наконец я сферы,
В какой для счастья нету меры:
Она — избранница свобод
И добродетели; здесь тот,
Кто гордо поднимает взоры,
Зрит грандиозные просторы,
В которых властелином — он,
Дух государства и закон!
Вне бурь Европы — сей форпост,
Вне сбившихся с дороги звезд,
Рожденных вспышкой божья гнева,
Что жгли направо и налево,
Пока в огне слепых бунтарств
Не рушились устои царств!
Здесь пахарем стал бывший воин,
Что победил и прав достоин,
Доставшихся ему в бою
За бога, дом свой и семью.
В его улыбке гордость скрыта,
Как в ножнах — меч, им не забытый!
Здесь мир с румянцем на щеках
Усердно трудится в полях,
Стирая вольными плугами
Следы, что выжгло битвы пламя!
Трикраты благодатный край!
И вправду для того он — рай,
Кто на чужбине ждет спасенья
От бедствий, зла и небреженья.
Надежда странника зовет
В страну, где каждый — патриот;
И вот пришлец под звуки гимна
Вступает в лес гостеприимный,
Что вскоре красоту свою
Отдаст жилищу и жнивью;
Беглец, сюда прибывший нищим,
Кого ни другом, ни жилищем,
Ни родиною не приветил рок,
Все обретет в недолгий срок!
Фантазии поддавшись чарам,
Себе картину эту — с жаром
Я рисовал от давних дней:
Свободный мир для всех людей!
Не спрашивай, насколь согласна
Мечта с реальностью бесстрастной,
Действительно ли предо мной
Век достоверно золотой —
Увы, в помине блеска нету!
Сильней юнца, что по портрету
Влюбился в некий чистый лик
И был сражен в тот самый миг,
Как разглядел он глаз совиный
Там, где сапфир горел картинный,
Я негодую, навсегда
С мечтами, что меня сюда
Призвали чуда приобщиться,
Теперь обязанный проститься!
Не дай в унынье, сердце, впасть!
Храм не суди, увидев часть,[30]
Отнюдь не все сооруженье;
Пускай осталась от строенья
Лишь паперть, а его притвор
Пусть грязью отвращает взор,
Но не поверить в храм священный
Греховным будет несомненно!
Ну а теперь, о Кэт моя,
С тобой (а мне судьба твоя
Важнее, чем любой Державы
Крах или умноженье славы)
Прощаюсь, но прими сперва[31]
То, чем дополнил я слова.
Мой опус прост, нестройны звуки,
Почти как дум моих излуки,
Чей ход разгадывал я, тщась
Установить меж ними связь.
Все было словно в сновиденье,
Где нежной музыки движенье,
В песнь превращая звуки вдруг,
Переселяет душу в звук!
О доме пел аккорд мне каждый,
Где был счастливым я однажды;
В волне рождающихся нот
Всплывало прошлое, и вот,
Созвучьями влекомый внятно,
Я возвращался в дом обратно.
О, песнь мою люби и пой,
Не разлучай ее с собой!
Ее сумбурный внемля шепот,
Поймешь ты, отчего мой ропот:
Увы, узнал я, радость — прах,
Она бытует лишь в мечтах;
Надежды умерли — отныне
Лежит вокруг меня пустыня,
Куда былых друзей, любви
Не возвратить, как ни зови!
Прощай, мой друг! Напев несложен
И стих — в конверт он тоже вложен.
Вот все, чем я дарить могу
Здесь, на Колумбовом брегу;
Когда же наконец прибуду,
Ведомый солнцем, на Бермуды,
Тебе цветы я стану слать —
В них любит Ариэль дремать,
И раковины с перламутром,
Росой наполненные утром.
Баллада ОЗЕРО УНЫЛОЙ ТОПИ Написано в Норфолке, Виргиния[32] перевод З. Морозкиной
Рассказывают о юноше, который потерял разумиз-за того, что возлюбленная его умерла, и потом исчез из среды друзей; после этого о нем никогда уже не слышали. Так как он нередко говорил в бреду, будто девушка не умерла, а ушла к Унылой Топи, то предполагали, что он отправился скитаться в эти мрачные дебри и умер с голоду или погиб в одной из страшных трясин.
La Poesie a ses monstres comme la nature.D'Alembert{14}
«Для горячей и верной души холодна
Могила была, как лед.
К Унылой Тони ушла она,
И всю ночь в огнях светляков одна
В каноэ белом гребет.
Я скоро увижу ее светляков,
Услышу всплески весла,
И мы будем вдвоем, а при звуке шагов
Я найду ей в ветвях кипариса кров,
Чтобы смерть ее не нашла».
Унылую Топь отыскать спеша,
Он уходит, и путь тяжел:
Сквозь густой можжевельник, сквозь лес камыша,
По болотам, где змеи плодятся, киша,
Где еще никто не прошел.
И когда, от усталости сам не свой,
Он пытался сомкнуть глаза,
Его осыпала жгучей росой
И точила по капле слезу за слезой
Несущая смерть лоза.
А рядом в кустах шевелилось зверье,
Над ухом шипела змея.
Но он пробуждался, твердя свое:
«О, скоро ли в белом каноэ ее
На озере встречу я?»
Он к озеру вышел. Сверкнул и погас
В вышине метеор золотой.
Он сказал: «Вот любовь моя! В добрый час!»
И окликнуло эхо ее сто раз
Над тусклой ночной водой.
Из коры берез он сделал челнок
И отплыл от берега прочь.
Вдаль, вдаль его след метеора влек.
Были тучи темны, и ветер жесток,
И его поглотила ночь.
Но индейцы-охотники, верно, не лгут,
Что в глухую ночь без луны
На озере видны то там, то тут
Эти двое, что в белом каноэ гребут,
Светляками озарены.
Стихи, написанные на море во время шторма перевод Э. Шапиро
Свод неба в этот мрачный час —
Не синий полог, благосклонный
К ночам любви;
И моря рокот исступленный —
Не вздох, что зажигал не раз
Огонь в крови.
И все ж я в этот страшный миг
В пустыне стонущей и грозной,
Средь рева волн
Спокойней, чем той ночью звездной,
Когда я к Джулии приник,
Любовью ноли.
О ночь! Священный твой покой
В зияющих разрывах тучи
Не дан страстям;
Мы внемлем с неба глас могучий,
И в сердце, полном тишиной, —
Безмолвья храм.
Пусть этот глас сулит беду
И смертный сон в холодном море,
В глубинах вод;
Ни дрожи сладостной, ни горя
В душе я больше не найду,
Там все уснет!
И пусть на ложе роковом
Мой сон лелеять будут волны,
Но не дано
Бальзама тем, кто кубок полный
На жизненном пиру своем
Испил давно.
Ждать смерть с улыбкой может он.
Утешь тогда, о Всемогущий,
Друзей его;
Ни жало зависти сосущей,
Ни грусть не тронут тихий сон,
Он чужд всего.
К Неа[33] перевод В. Микушевича
ΝΕΑ τύραννεĩ.Еврипид, Медея, стих 967{15}
Любовью не прельщай меня!
Давно прошел отрадный час,
Когда, неопытных маня,
Любовь могла бы сблизить нас.
Я столько пережил, скорбя,
Что для меня любовь — недуг;
И, даже повстречав тебя,
Я не хочу подобных мук.
Быть может, есть еще места,
Где неизвестна красота,
Где по ночам неведом жар,
Где спят, не зная лживых чар;
Больную душу край привлек,
Где пламень глаз, где розы щек
Сердец не могут истязать,
К земле не могут привязать.
Моя далекая любовь,
Как мало я тебя ценил!
Зачем же ты мне светишь вновь,
Как будто вновь меня пленил
Твой взгляд, как будто вновь с тобой,
Заворожен моей судьбой,
Не дорожу счастливым днем,
Считая жизнь блаженным сном.
В том, что была расточена
Моя мгновенная весна,
Виновна страсть, я не таю;
Она сжигала жизнь мою
В блестящих путах из цветов,
И я погибнуть был готов.
Могла бы ты, подобно той,
С моею совладать мечтой,
Когда сидеть мне дома трудно
В тоске подспудной, безрассудной?
Могла бы ты меня тогда
Простить, как в прошлом та, другая,
Чтобы сгорал я со стыда,
Всему тебя предпочитая?
Она одна, простив мой грех,
Могла навек меня пленить;
И на земле один из всех
Ее заставил изменить.
Ковчег, не годный для святынь, —
Моя покинутая грудь,
Меня заранее покинь
И осчастливь кого-нибудь.
Тебе я предан буду впредь,
Хвале моей не прекословь.
Могу весь век благоговеть,
Но полюбить не смею вновь.
Молю тебя, не приходи… перевод Р. Дубровкина
…Tale iter omne cave.Propert. lib. IV. eleg. 8{16}
Молю тебя, не приходи
Туда, где ветры и дожди
Терзают сирый брег,—
Лишь дружба связывает нас,
И встречи эти в поздний час
Погибельны навек.
Забудь раскаты грозных бурь,
И моря пенную лазурь,
И сонную волну,
Что льнет к утесам, как дитя,
Но равнодушно миг спустя
Уходит в глубину.
На той скале, как в западне,
Застыли мы в бездумном сне
Над гулом волн морских.
Полночный бор, заросший мхом,
Дышал таинственным грехом,
Незрим для глаз людских.
Я вздрогнул, покраснела ты.
Желанья наши и мечты
Скрывали мы едва.
Рассудка голос отзвучал,
Молчала ты, и я молчал,—
Любовь нашла слова!
И раковину, что в ночи
Струила звездные лучи,
Я подобрал с камней.
Ее нашли уста твои,
И я в блаженном забытьи
Приник, безумец, к ней!
О Неа, в этот день и час
Все в мире искушало нас
Обманом райских нег,
Погибель ждет нас впереди, —
Молю тебя, не приходи
На сирый этот брег!
Воспоминания хранят… перевод В. Микушевича
Воспоминания хранят
Малейший твой упрек;
Твою прическу, твой наряд,
Твой мимолетный нежный взгляд
Я в памяти сберег.
Манила ты мечту мою,
Насмешками дразня;
Твой смех в душе моей таю,
Как песню, спетую в раю
Однажды для меня.
Когда бы мог забыть я вдруг
Напрасную мечту!
Но лучше смерть, поверь мне, друг,
Неизлечимый мой недуг
Забвенью предпочту.
Пусть мною ты пренебрегла,
Отрадно помнить мне,
Чья красота меня зажгла,
Чтобы сгорающий дотла
Блаженствовал в огне.
Песня штурвального (Написанная на борту фрегата «Бостон» 8 апреля)[34] перевод Г. Кружкова
Когда нас свежий ветер мчит
По курсу, словно по струне,
И парус надо мной шумит,
И вымпел реет в вышине,
Руками прикипев к рулю,
Я не свожу с компаса глаз
И, вспомнив ту, кого люблю,
Крилу: Ребята, в добрый лас! —
Вперед, друзья!
Когда на море — мертвый штиль
Или когда навстречу — шквал,
Когда до порта — сотни миль
И бьет о борт за валом вал,—
Мне кажется, что бог морей
Восстал против моей любви,
И, думой устремляясь к ней,
Со вздохом говорю: Увы!
Друзья, увы!
Но снова, душу веселя,
Нам веет ласковый пассат,
И плещущие лиселя
Несут, как птицу, наш фрегат.
И верю я, что ветер вновь
Готов домчать судьбу мою
К тебе, к тебе, моя любовь! —
И, улыбаясь, я пою:
Смелей, друзья!
Послание лорду виконту Форбсу из города Вашингтона перевод Мих. Донского
Καί μή ταυμάαηιβ μήτ’εί μαχρότεραν γέγραψα τήο έπιιατολήν, μήδ’εΐ ή περίεργότερον ή πρεσβυτιχτερον είρήχαμεν έαυτή.{17}Исократ. Послания, IV
Когда б, сходя со сцены, поколенья
Свои с собою брали заблужденья,
Когда бы навсегда стирался след
Ушедших горестей и прошлых бед,
Когда бы новый век не знал былого
И для него все в мире было б ново,
Сияло счастьем нынешнего дня,
Как фениксу, что вышел из огня,—
Сколь счастлив, человек, твой был бы жребий:
Ты, прах топча, витал бы духом в небе,
Лелеял бы самозабвенно ты
О совершенстве дерзкие мечты,
И не догадываясь, что доселе
Глупцы давно от сих мечтаний млели.
Однако нам повсюду и всегда
Является все та же череда
Благих намерений — и преступлений,
Дурацких дел — и умных рассуждений;
Меняя облик свой из века в век,
По сути неизменен человек,
И старые болваны, в Лету канув,
Дают простор для молодых болванов.
Как странно: прошлого не помним мы!
Ждут даже величайшие умы,
Что люди, должную избрав методу,
Усовершенствуют свою природу.
Что ж, может статься, презирая плоть,
Душа, которую нам дал господь,
Велит несчастным думать о блаженстве
И грешникам мечтать о совершенстве?
Здесь, на брегах Потомака, увы,
Суждения мудрых тоже таковы,
Что может человек в порыве смелом
Взять верх над низменным своим уделом,
Что будет свергнут старой лжи кумир
И совершенным станет этот мир!
Мол, край на край здесь не пойдет войною,
Застлав поля кровавой пеленою;
Свобода, мол, как юный Геркулес,
Приявший мощь с рожденьем от небес
И вскормленный на истине и праве,
Сразив злых чудищ, поведет нас к славе!
Мол, будет жажду утолять душа
Не струйкой из казенного ковша,—
Но всем вероучениям на благо
С небес духовная прольется влага.
Трудам народным воздавая честь,
Искусства будут, мол, привольно цвесть,
Не опускаясь до корысти мелкой
И не грязня прекрасное подделкой.
Не будет Правосудье ни слепым,
Ни мягким лишь к любимчикам своим,
Но будет, зиждясь па иных началах,
Брать под защиту и больших, и малых, —
Равно питает животворный сок
И сердце, и ничтожный волосок.
О золотые грезы! Да и кто бы,—
Далекий от брюзгливости и злобы,
Не потерявший веру в род людской,
Ценящий мир, но без тщеты мирской,—
Кто был бы чужд сих пламенных мечтаний,
Кто им в душе не отдавал бы дани
И так же бы не грезил наяву
О приближенье смертных к божеству?
Тебе, мой Форбс, не чужды мысли эти:
Ты тоже полагал, что ход столетий
Шлифует наши чувства и умы,
Что близимся к чертогам горним мы.
Но так ли впрямь? Недаром мир прекрасный
Нам только в дымке предстает неясной:
Надеждам я не отрезаю путь,
Но ум свой не позволю обмануть.
Верь, друг, — обманчивы все грезы эти,
Что слишком очевидно в Новом Свете.
Америка в глаза пускает пыль,[35]
Но яд в ее цветке, а в сердце — гниль.
Юна, и все ж таит в себе заразу
Всех умирающих империй сразу;
Как девы нездоровой сей страны
Старообразна, хоть в поре весны!
Уже, от галлов получив уроки,
Она переняла все их пороки,
Тщету идей, безнравственность искусств —
Плод острой мысли и растленных чувств;
Так ядовитых гадов в дельте Нила
Плодит из грязи жаркое светило!
Уже все то, что свято было нам,
Она за жалкий почитает хлам;
Уже кладет нечистый отпечаток
На труд и на общественный достаток,
Подтачивает порчей каждый плод,
Что древо Добродетели дает.
Ах, если б это были заблужденья
От юной пылкости, от самомнения,—
Ведь чувства, распирающие грудь,
Порой уводят на неверный путь,—
Тогда бы утешались мы отчасти:
Что ж, — пусть перекипят младые страсти.
Нет, — юная распущенность берет
Здесь в компаньоны старческий расчет,
Здесь, в этом мире холодно-жестоком,
Скучая, предаются всем порокам!
Здесь правит алчность — тот мерзейший срам,
Та страсть, что остается старикам:
Когда уже их больше не тревожит
Все прочес, они богатства множат —
Крадут и грабят явно и тайком,
Чтоб умереть над полным сундуком.
Да, здесь страсть к скопидомству, как ни дико,
Присуща всем от мала до велика;
Над всем здесь демон Золота царит,
Продажность не считают здесь за стыд,
Есть рыночные цены — я свидетель —
На истину, честь, совесть, добродетель!
Уже в пределах вольной сей страны,
Где (как твердят французы) все равны,
А значит, крикунам и живоглотам
Мир предначертано вести к высотам,—
И здесь уж наловчился патриот
Класть в свои карман общественный доход,
О высшем праве распинаясь всуе,
Огнем священным, как шаман, торгуя.
О демагоги! Сколь кипуч ваш гнев!
Сколь ненавистен вам британский лев!
Еще бы: ведь республиканцам рьяным
Платить долгов не надо англичанам;
Патриотизм порой лишь на виду,
Копни — найдешь там уголь и руду.
Свобода!.. Ах, «Свобода», как теперь я
Здесь твоего объелся лицемерья!
Моим ушам приятней был бы рык
Охваченных безумием владык,—
То римский будь Нерон, иль русский Павел,
Чем трескотня лжецов бос всяких правил,
Мошенников, что восхваляют честь,
Невежд, чья цель — в сенаторы пролезть,
Грабителей, чья наглая орава
Вопит истошно про закон и право!
Какая пестрота, какая смесь:
Свобода — в сочетанье с плеткой здесь,
Дух независимости — с рабской цепью,
Нужда сопутствует великолепью…
И там, где все о равенстве твердят,
Лупцует негров белый демократ!
Чтоб человек хлестал — великий боже! —
Других, что с ним различны цветом кожи,
Но не душой бессмертной, и — о стыд! —
Хвалился, что свобода здесь царит!..
Нет, прочь отсюда! Лучше уж я стану
Служить самодержавному султану
В стране, где у влиятельнейших лиц
Одно есть право — право падать ниц,
Чем жить, влача бессмысленные годы,
Под знаменем ублюдочной свободы,
Что реет над невольниками, тщась
Прикрыть собою произвол и грязь;
Жить здесь, где всюду — взор куда ни кину
Скот правит, превратив людей в скотину.
Мой милый Форбс! По мере слабых сил
В посланье сем досаду я излил
На то, что в крае наблюдаю этом,
Где распустился грех столь пышным цветом
Впервые здесь измена процвела,
Французы же взрастили семя зла.
Прочтенное обдумай — и расчисли.
Но, зная, как высок твой образ мыслей,
Как мудрости ты доверять привык
Старинных песен и ученых книг,
Боюсь, что мне ты не поверить можешь,
И говорю себе: «Зачем тревожишь,
Зачем ты гонишь светлые мечты,
Те образы добра и красоты,
Что, словно феи возле колыбели,
Ему ласкали дух и сердце грели?»
Прости, мой Форбс, — я удручен и сам,
Что не дал воспарить твоим мечтам,—
А вера в ближнего, как ни печально,
Редка настолько же, сколь достохвальна.
Нет, береги душевное тепло
Для тех, — пусть их невелико число,—
С кем можешь ты найти родство и сходство,
Кому твой внятен ум и благородство.
Да, грешен мир и мрачен его лик,
Но тем ценней в нем каждый светлый блик.
Послание из Вашингтона Томасу Хьюму, эсквайру перевод Г. Русакова
Διηγήσοματ διηγήματα ἲσως ἃπιστα, χοινώνα ὡν πέποννα οὐχ ἓχων.{18}Ксенофонт. Эфес., 5
Смеркается. Дневная пыль и зной
Унесены закатной тишиной.
Уже, пыхтя сигарой, вертопрах
Красотке шепчет пламенное «ах!»,
И ей, признаться, страсть его сладка,
Хотя и не без вони табака.
Политик, в комитетах отсидев,
Уже спешит в объятья черных дев,
Чтоб мудрствовать, с рабыней согреша,
О том, что, мол, свобода хороша.
А мы, следя закат, поговорим
Да поглядим на этот новый Рим
Трибунов, подъяремного житья
И Тибром нареченного ручья.[36]
Ну, чем тебе не Рим! Вообрази
Тенистый сквер, к примеру, в той грязи,
За перелеском — храмы и дворцы,—
Поскольку щелкоперы и глупцы
Их видят там, где нынче невпролаз:
Им подавай дворцы — и весь тут сказ!
Но гаснет воздух, светом налитой.
Заснуло солнце в зыбке золотой,
И берега Потомака в тени.
Когда в свои младенческие дни
Природа создавала этот мир,
То с безоглядной щедростью транжир
Ему чудес отмерила впригляд:
Куда какое — после различат!
О край холмов, земля бескрайних рек!
Твоих лесов, твоих саванн разбег!
Тут бардам петь, тут рыцарям простор,
Тут девам ждать, в леса вперяя взор!
И этот край, прельстительный для глаз, —
Обитель орд, приют презренных рас[37],
Лишенных сил, рассудка, божества —
Зловонных блох в дремучей гриве льва?!
Земля, где впору жить полубогам,
Тупому быдлу брошена к ногам?
Так нет же, нет! Удвоив меру зла,
Судьба свое творенье отдала
Приблудной голи, рвани всех широт,
Чтоб попирал ее никчемный сброд,
Из трусости, без меры и стыда
Европой отряжаемый сюда!
Вон видишь холм, где сосны на ветру,
Где светляки затеяли игру?
Так вот, представь: немного погодя
Там вознесется статуя вождя[38] —
Того, что верность трону растоптал,
Был бунтовщик, ан, глядь, героем стал,
Чья шпага так ко времени пришлась:
Ух, то-то чернь до власти дорвалась!
Куда ж его причислить наконец?
И не солдат, и вроде б не мудрец.
Для полководца — слишком миролюб,
Хотя мужал под рев армейских труб.
Да, он был отлит для великих дел!
Да жаль — металл в опоке затвердел.
Одни судьбе диктуют свой закон,
А он судьбой к величью принужден.
И хоть порой фортуна и успех
Задаривают сослепу не тех.
Он и их щедротах видел лишь итог —
Но честолюбья, но того, что смог.
И долг его упорней славы звал
На достиженье цели, не похвал.
Да, он велик не в совершенном им —
Скорей предназначением своим.
Вон лунным светом бледно озарен
Державный купол, стены, ряд колонн.
Там, в этом доме… Хьюм, когда б и ты
Во имя чести, славы, правоты
Швырнул свое презрительное «нет!»
В ответ на пошлый галльский полубред
Той лжесвободы[39], чей преступный вид
Наш век растлить соблазном норовит!
Я верю, Хьюм, что воли гордый дух
В твоей груди с годами не потух,
И потому тебе презренен тот,
Кто, теша чернь, от черни ждет щедрот:
Авось кивком за службу одарит! —
И ей в угоду идолов творит.
Он там, в том доме… Но замкнем уста,
Чтя не его, так честь его поста!
Но мне пора… Давай прощаться, Хьюм.
Породнены возвышенностью дум,
Мы возле Темзы встретимся опять,
А то и над Потомаком — как знать!
Край демократов, гризли и болот,
Лягушек, янки и безбрежных вод,—
Ты сам его со мною обойдешь,
Дивясь ему, но презирая ложь.
Ну а пока я думы устремлю
К тебе, к земле, которую люблю,
Где над просторной зеленью полей
Ветра свободы чище и смелей,
Где мы, при полновластии своем,
Закон и трон над нами признаем!
Балладные строфы перевод О. Волгиной
В зеленые вязы вплетался дымок,
Мне весть подавая о близком жилье,
И сказал я: «Для тех, кто везде одинок,
Нет краше приюта па этой земле!» 5
В полуденном зное склонились цветы,
Нектаром насытив умолкнувших пчел;
Замерли звуки, недвижны листы,
Только дятел постукивал в буковый ствол.
Воскликнул я: «Здесь, средь безлюдных дубрав,
С подругой, усладою глаз и души,
Веселой, коль добр я, в слезах, коль не прав,
Я жил бы в блаженстве и умер в тиши!
Где от ягод рябины красен ручей,
Под кроной тенистой так сладок покой,
И губы, не знавшие ласки ничьей,
Я б дыханьем своим будил над рекой!»
Написано по время прохождения мимо острова Дедмен в заливе Святого Лаврентия перевод Г. Русакова
Поздний вечер, сентябрь 1804 г.
Гляди, как, неведомой силой влеком,
Корабль пролетает в просторе морском:
Не движутся воды, молчат небеса,
По полнятся ветром его паруса.
Откуда он вышел, куда и зачем,
Угрюм как могила, безлюден и нем?
Лишь звякает рында, лишь слышно порой,
Как парус полощется в хмари сырой.
У скал Лабрадора, в холодной дали,
На смертные камни снесло корабли.
И в лютую стужу не иней ночной —
Матросские кости блестят под луной.
Оттуда пришелец спешит в темноту.
Бессменное пламя горит на борту.
И в сумрачной пляске неверных теней
Вовек не видали команды бледней!
Вперед — через бури! Сквозь темень — вперед!
Приют Мертвеца[40] за туманами ждет.
Матросская служба скелетам легка.
Сжимает штурвал костяная рука.
О призрак, спеши! Привидение, прочь!
Уже на исходе короткая ночь.
Увидит тебя заалевший восток —
Навеки румянец сойдет с его щек!
Фрегату «БОСТОН», при отплытии из Галифакса в Англию перевод Г. Кружкова
Октябрь 1801
Νόστον πρόφασις γαυχεροῦ.Пиндар. Четвертая Пифийская ода{19}
Привет тебе, «Бостон»! С восторгом гляжу
На мощь парусов и, ликуя, всхожу
На палубу, что унесет меня вскоре
От скучного берега — в шумное море,
Туда, где мой остров цветет меж зыбей —
К отчизне свободных и смелых людей!
Прощай же, Америка! И не забудь:
Возвышенность цели — вот вольности суть;
Иначе — пусть будет свобода шумней,
Чем шквал грозовой над пучиной морей,
Но если ростки доброты не взошли
Над ширью очищенной бурей земли,
Такая свобода сердцам принесет
Лишь гибели и разрушения плод!
Прощаясь, последний привет передам
Немногим, зато незабвенным друзьям.
Пускай вспоминают порой наши встречи,
Веселые песни, полночные речи,
Когда я старался, как мог, отвечать
О бардах, которых пришлось мне встречать.
И, слушая мой немудреный рассказ
О тех, кем они восхищались не раз,
Чья слава, шагнувшая за океан,
Не раз освящала заздравный стакан,
Вдыхали они, сожалея о том,
Что доблесть их дней ускользнет, как фантом,
И канет в безмолвие веков, не воспета
Ни словом пророка, ни песней поэта.
Последний привет мой — немногим друзьям,
На этой звезде уж не встретиться нам.
Но думать отрадно, что, если порой
Я вспомнюсь им хоть мимолетной строкой,
Они меня снова представят таким,
Как прежде — восторженным и молодым,
Веселым, не знающим зла и забот,
Ни горьких обманов, ни тяжких невзгод.
Пока я стоял, погруженный в мечты,
О славный мой Дуглас[41], на мостике ты
Следил, как по небу скользят облака,
И мог я прочесть по глазам моряка,
Что ветер хорошую силу набрал
И скоро раздастся к отплытью сигнал.
Мой Дуглас! ты знаешь, что вместе с тобой
Готов я пуститься дорогой любой —
К полярным ли землям, где вечная тьма,
Где холодом лютым пугает зима,
Иль к знойным краям, к островам дикарей, —
Доверясь отваге и дружбе твоей.
С какою же радостью я поплыву
Теперь, когда вижу почти наяву
Вдали, в дружелюбном просторе морском,
Родимую землю и милый свой дом,
Где скоро я буду отца обнимать,
Где, плача от счастья, прильнет ко мне мать,
Где я прочитаю во взглядах сестер
И радость свиданья, и нежный укор.
Но хлопает парус и в путь пас зовет.
Прощай же, Америка! — Полный вперед!
Ирландские мелодии[42]
Шествуй к славе бранной перевод А. Голембы
Шествуй к славе бранной,
Только, мой желанный,
Помни обо мне.
Встретишь ты стройнее,
Краше, веселее:
Помни обо мне.
Ярче будут платья
И смелей объятья
В дальней стороне!
Только, друг мой милый,
С прежней, с давней силой
Помни обо мне!
Меж цветов и терний
Под звездой вечерней
Вспомни обо мне!
Без огня и света,
Твоего привета,
Вянут розы лета
В сумрачном окне.
Я их вышивала,
В них любовь вплетала:
Помни обо мне!
В миг, когда в просторах
Грустен листьев шорох,
Вспомни обо мне!
И когда ночами
Спит в камине пламя,
Вспомни обо мне!
Вечером угрюмым,
Весь предавшись думам
В горькой тишине, —
Вспомни, как, бывало,
Я тебе певала,—
Вспомни обо мне!
Военная песнь отважного Брайена славу воспой! перевод А. Голембы
Отважного Брайона славу воспой,[43]
Хоть в полузабытом бою
Погиб под Мононией этот герой,
Покинув Кинкору[44] свою.
Он пал — и его закатилась звезда,
Но нам его светят дела,
И славы частица его — навсегда
В мечи нашей битвы вошла!
Монония! Нивы и горы вдали,
Далекие отблески гор…
Кто знал, что тиран в прах родимой земли
Впечатает рабства позор?
Нет! Вольность сияет и нынче, как встарь;
Так датчанам молвить успей,
Что лучше возлечь на Отчизны алтарь,
Чем сгинуть в железах цепей!
Соратников раненых память жива,[45]
Когда в поражения дни
От крови их стала багряной трава,
Сражались без жалоб они.
То солнце, что наши ласкает мечи,
И их озаряло тела,—
Под Осори пали… О них не молчи,
Их гибель не тщетной была!
Ирландия, смех твои и слезы в глазах перевод А. Ревича
Ирландия, смех твой и слезы в глазах,
Как яркая радуга на небесах.
Сияя росинками горя,
Печалясь в лучистом просторе,
Светила твои, твои зори
Восходят в слезах.
Ирландия, слез не иссякнет река,
Твой смех будет грустен, улыбка горька,
Пока все цвета в твоей гамме
Не выстроят арку над нами
И радугой — Мира Вратами
Не станут пока.
О, не шепчи его имя[46] перевод М. Алигер
О, не шепчи его имя, пускай оно в сумраке спит, Там, где холодный, бесславный прах его бледный зарыт. Смутны, тихи и печальны, катятся слезы из глаз, Словно роса, что ложится на могилу в полуночный час.Но от студеной росы, что плачет во мраке ночей, Ярче могильные травы встанут в сиянье лучей; Так и печальные слезы, которые тайно мы льем, Делают ярче в душах вечную память о нем.
Когда сын твой ушел, не признав клеветы[47] перевод А. Шараповой
Когда сын твой ушел, не признав клеветы
И оставив Вселенной печаль,—
Над развенчанным разве не плакала ты
И тебе его не было жаль?
Ты рыдала, и все прегрешенья мои
Ты смывала горячей слезой.
Пусть я грешен во многом пред ликом Судьи,
Но я чист до конца пред тобой!
В ранней юности был я тобой ослеплен,
Я мечтал о тебе много дней
И хочу, чтобы вновь звуки наших имен
Были рядом — в молитве моей.
О слепцы и безумцы, кто мыслит, любя,
Красотой на земле овладеть.
Нет, Всевышний назначил мне смерть за тебя —
И я рад за тебя умереть.
Молчит просторный тронный зал перевод А. Голембы
Молчит просторный тронный зал,
И двор порос травой:
В чертогах Тары[48] отзвучал
Дух музыки живой.
Так спит гордыня прежних дней,
Умчалась слава прочь,—
И арфы звук, что всех нежней,
Не оглашает ночь.
Напевы воинов и дам
В руинах не слышны,—
Но иногда витает там
Звук лопнувшей струны:
Как будто Вольность, не воспев,
Отпев свои права,
Спешит сказать, сквозь боль и гнев,
Что все еще жива!
Останься! перевод Э. Шапиро
В этот час, дорогая, останься со мной,
Когда радость, подобно фиалке ночной,
От палящего дня отвернувшейся прочь,
Расцветает для юношей, любящих ночь,
И для девушек в бликах луны.
Пусть в душе навсегда сохранится тот миг,
Когда мир красоты в лунном свете возник,
И на зов его мягкий о берег устало
Бьют приливы и пенятся влагой бокалы.
Так побудь же со мною, побудь!
Ночь не скоро волшебною сетью опять
Оплетет нас. Ее так мучительно рвать,
Что сердца жгучей болью полны.
О, останься! В Сивахе[49] в полуденный зной
Бил когда-то источник струей ледяной.
Но, казалось, лишь вечер медлительный гас,
Духи радости в нем поселялись тотчас,
И тогда он пылал как в огне.
Пусть подобно ему взгляды женских очей
Будут днем холодны, словно зимний ручей,
Пока вновь с воцарением мрака ночного
Удивительный пламень не вспыхнет в них снова.
Так побудь же со мною, побудь!
О, когда-нибудь разве видала заря,
Чтоб сияли глаза, светом счастья горя,
Как твой взор, обращенный ко мне?
О, только не думай, что весел всегда я перевод А. Преловского
О, только не думай, что весел всегда я,
Что вечно беспечен, как нынче кажусь,
Что радость, сегодня меня покидая,
Наутро ко мне не вернется, как грусть.
Нет! Жизнь — это бремя напрасных усилий,
Которые розами редко цветут,
И сердце, где радости прежде гостили,
Печали, как тернии, жалят и жгут.
Так чашу по кругу и счастье ловите,
Пусть радует путника набранный путь,
А горькие слезы в улыбке топите —
И пусть упадут они смехом на грудь.
Лишь богу известно, какой бы постылой
Нам жизнь без любви и без дружбы была;
И если б лишился я друга и милой,
То знал бы наверно, что смерть подошла.
Тот истинно счастлив, кому не придется
Рыдать над могилою страсти своей,
Кому до скончания дней удается
Не ведать предательства верных друзей.
Так чашу по кругу: пока по упала
На молодость тень суеты и клевет,
Молю, чтобы солнцем любовь нам сияла,
А дружба — луною на старости лет.
Хоть в слезах я глядела на Эрин вдали перевод А. Голембы
Хоть в слезах я глядела на Эрин вдали,
Звуки арфы твоей и мою душу вошли,
А спешил ты в изгнанье мне душу пленить,
Чтоб родную Ирландию мне возвратить.
Мне б вернуться на берег скалистый морской,
Где тебя не настигнет чужак никакой;
Я прильнула бы к прядям желанным волос[50],
Что угрюмому ветру трепать довелось!
И не бойся, что локон — в ночной тишине —
Затрепещет подобно стозвучной струне:
Злобным саксам тех струн золотых не украсть,
Что сумели воспеть нашу гневную страсть!
Браслеты броско блестят на ней[51] перевод Г. Усовой
Браслеты броско блестят на ней,
Колец сверканье и блеск камней.
Всего прекрасней ее лицо,
Оно любое затмит кольцо.
«Ах, леди, как в этот поздний час
Тропа в лесу не страшна для вас?
Неужто мужчины вашей страны
На женщин и золото не жадны?»
«Сэр рыцарь! Спокойна я вполне:
Ирландцы ничуть не опасны мне.
Сэр рыцарь! Грехи за ними есть,
Но в них сильней добродетель и честь».
Потом она улыбнулась чуть-чуть
И продолжала по острову путь,
Доверясь опасной порой ночной
Чести и гордости Эрин родной.
Луч ясный играет[52] перевод И. Козлова
Луч ясный играет на светлых водах,
Но тьма под сияньем и холод в волнах.
Младые ланиты румянцем горят,
Но черные думы дух юный мрачат.
Есть думы о прежнем: их яд роковой
Всю жизнь отравляет мертвящей тоской;
Ничто не утешит, ничто не страшит,
Не радует радость, печаль не крушит.
На срубленной ветке так вянет листок!
Напрасно в дубраве шумит ветерок
И красное солнце льет сладостный свет:
Листок зеленеет, а жизни в нем нет!
Слияние рек[53] перевод Г. Ефремова
Нету в мире огромном долины милей,
Тут сливается Эвон с Эвокой моей.
О! скорее остынет и станет золой,
Чем расстанется сердце с родимой землей.
Я совсем не о том, что украсили даль
Изумрудная зелень и чистый хрусталь,
Нет! к чему описанья красы неземной —
Здесь друзья мои верные были со мной.
По весенней долине любимые шли,
Травы льнули к ногам и деревья цвели;
И поляны, и заводи, милые мне,
В их глазах отразясь, хорошели вдвойне.
О, когда бы теперь оказаться я мог
Среди старых друзей, вдалеке от тревог,
От вражды и беды, — у стечения рек,
Где, как воды, сливаются души навек!
Как я люблю последний отблеск дня перевод Ю. Левина
Как я люблю последний отблеск дня,
Над тихим морем солнца угасанье;
Былые сны встают вокруг меня,
И шепчет свой укор воспоминанье.
Последние лучи по лону вод
Текут на запад пламенной рекою,
И хочется идти по ней вперед
И знать, что там — заветный край покоя.
Не родилась строка (При возвращении неисписанного альбома) перевод А. Шараповой
Не родилась строка,
Альбом остался чист…
Мудрейшая рука
Заполнит лист.
Пускай, подобно дню,
Легенда слов светла —
Я предал их огню
И сжег дотла.
Но чтобы не избыть
Всех мыслей о былом,
Позвольте мне хранить
Пустой альбом.
Его листы под стать
Сиянью ваших дней:
Их может запятнать
Язык страстей.
Но вдруг, в чужом краю,
Раскрыв пустой альбом,
Я вспомню жизнь мою,
Родимый дом.
Мысль повлечет меня
Туда, за вами вслед,
Не будет в ней огня,
А только свет.
Как иногда моряк
Находит путь домой,
Увидев тайный знак
Над глубиной,—
Так по моим словам
Поймете вы тогда,
Что путь держу я к вам,
Моя звезда.
Завещание[54] перевод Д. Веденяпина
В тот день, когда забудусь вечным сном,
Мой друг, к моей возлюбленной приди!
Скажи, жила весельем и вином
Душа, как угль, пылавшая в груди.
Пусть горем не туманятся глаза,
И будет мир в душе ее разлит.
И винограда чистая слеза
Пусть сень моей могилы оросит.
В тот день, когда навеки отпою,
В том старом доме, где не гаснет свет,
Повесьте арфу верную мою,
Что правдой мне служила столько лет.
И если струны, тронуты певцом,
Сольются снова в незабвенный хор,
Пусть думы о хозяине былом
Улыбкою наполнят милый взор.
Устройте пир и позовите всех,
Пусть брага, пенясь, льется, как вода.
По я прошу, чтоб не было там тех,
Кто красоту не славил никогда.
А если кто-то, страстию томим,
Возлюбленной здоровье будет пить,
Мой дух незримо воспарит над ним,
Чтоб каждый мог его благословить.
Как часто Бенши взывала перевод Э. Шустера
Как часто Бенши[55] взывала!
Как часто смерть разрывала
Любви сладчайшие узы
И Славы рвала союзы!
Мир всем, кто пал и в могиле спит,
Мир всем, кто помнит их и скорбит;
Без срока другу и милой
Вздыхать над героя могилой!
Нам выпало мрачное время:
Все наше звездное племя;
Сгорало за именем имя
Над пажитями земными.
Черной слезой обливается тот,
Кто без надежд и веры живет;
Но светлой слезы достоин
Только погибший воин.
Нет светочей вас нетленней,
Герои Сотни сражений![56]
И вас, что несли народу
Истину, мир и свободу!
Нет с вами нас, но пока в нас есть
Память, и скорбь о погибших, и честь,
Вас Эрин будет, поверьте,
Помнить в жизни и смерти.
Нам прельстителен мир… перевод Г. Русакова
Нам прельстителен мир, как юнцам на пиру —
Расписной карамельки минутная сладость.
Мы к востоку крыла устремим поутру,
Если запад приелся и больше не в радость.
Ну а если и впрямь самый редкостный дар —
Дар улыбчивых глаз и души окрыленной,
То довольно заморских соблазнов и чар:
Нас одарит с лихвою наш остров зеленый.
Так что помни: когда твоя чаша полна,
На восток ли, на запад ли путь выбирая, —
Пей до дна! За улыбки любимых — до дна!
За улыбчивых женщин родимого края!
Вон в Британии ханжества скучный дракон
Пущен в Сад Красоты для надзора и бденья.
Он свиреп, да, признаться, сонлив испокон —
Право, прок невелик от такого раденья!
А у Эрин в саду — только вереск стеной
Заслоняет цветы от нескромного взгляда.
Как волнует, как манит их запах хмельной!
На мгновенье коснулся — и это награда.
Так что помни: когда твоя чаша полна,
На восток ли, на запад ли путь выбирая, —
Пей до дна! За улыбки любимых — до дна!
За улыбчивых женщин родимого края!
У француженки сердце — непрочный челнок,
В океане замужества ветром гонимый.
Но уж больно он хрупок: порыв — и потек,
А любовь без оглядки проносится мимо.
Ну а дочери Эрин любимым верны.
Улыбаясь, избранник встает у кормила.
Хоть и вёдро, и бури в пути суждены,
Только милый навеки останется милым.
Так что помни: когда твоя чаша полна,
На восток ли, на запад ли путь выбирая, —
Пей до дна! За улыбки любимых — до дна!
За улыбчивых женщин родимого края!
Эвелин перевод В. Иванова
Этой ночью тайком
К бедной Эвелин в дом
Вероломно пробрался барон, будто вор;
И сокрылась луна,
Облаков пелена
Обронила слезу на девичий позор.
Вновь глядит с вышины
Лик безгрешной луны,
Звезд на небе холодном и чистом не счесть;
Но, увы, на века
Те сошлись облака,
Что окутали мглой бедной девушки честь.
По тройнике лесной
Шел барон к ней домой,
И лежал на земле белоснежный покров;
И на белом снегу,
На замерзшем лугу
Отпечаталась четко цепочка следов.
Свет забрезжил сквозь тень,
И пришел новый день,
Чтоб следы на тропе растопить и заместь;
Но иной — горний луч,
Проглянув из-за туч,
Смоет грязь, замаравшую девичью честь.
Если б край мои к былому душою приник[57] перевод А. Голембы
Если б край мой к былому душою приник,
До предательства трусов презренных,
Вспомнил Молаки[58], что золотой воротник
У захватчиков вырвал надменных.
В бой под стягом зеленым вели короли
Алых рыцарей в блеске багрянца[59],
Прежде чем Изумруды Закатной Земли
Увенчали главу чужестранца!
А теперь — предвечерней порой — рыболов
В ясных водах, где отмель Лох-Нига[60],
Видит башен руины, остатки валов:
То былого раскрытая книга!
Горделивого сердца возвышенный сон,
Отсвет канувшей в море державы…
Так вот можно увидеть сквозь волны времен
Скорбный мир увядающей славы!
Песня Фионуалы[61] перевод Н. Булгаковой
Смолкни, о Мойл! Пусть твой шум затихает,
Ветры, усните на зыбкой воде.
Голосом тихим дочь Лира вверяет
Скорбную повесть полночной звезде.
Скоро ли лебедя звучное пенье
Смерть в этом мире свою предречет?
Колоколов неземное реченье
Скоро ль мой дух к небесам призовет?
Грустно, о Мойл! Быть послушною тенью
Вод твоих повелевает мне рок.
Медлит Ирландии пашей спасенье,
Бледен еще предрассветный восток.
Скоро ли, солнце, твое появленье
Землю согреет, покрытую мглой?
Колоколов неземное реченье
Скоро ль мой дух призовет на покой?
Сдвинем кубки!.. перевод Ю. Петрова
Сдвинем кубки! И пусть тугодумный мудрец
Спорит с бойким тупицей, чья вера нужней,
Слишком дорог сей миг, чтоб найти свой конец
В запыленных трактатах ученых мужей.
Алый кубок иль синий — не все ли равно,
Ведь из чаши одной мы наполнили их,
И того не одарит блаженством вино,
Кто считает свой кубок красивей других.
Да неужто мне мысли бойца проверять,
С кем за благо людское мы вместе умрем?
Да неужто мне верного друга предать,
Если молится он пред иным алтарем?
Неужели от милой, презревшей канон,
Мне уйти вслед за взором холодно-святым?
Нет! Будь проклят судья, если меряет он
Честь, любовь и отвагу законом таким!
Услышан Свободы был звучный набат…[62] перевод Э. Шустера
Услышан Свободы был звучный набат;
Испанцы очнулись и жаждой горят
Отмстить, показать чужеземцу, что живы.
Свобода, порыву угаснуть не дай;
Как бриз, оживляет он западный край;
Скажи всем, кто страждет, что может опять
В венке твоем, Эрин, трилистник[63] блистать,
Соседствуя с ветвью испанской оливы![64]
Коль славностью предков мы с вами равны
И верно, что предки — устои страны,
Что боль наша — все, кто бесчестны и лживы,
Тогда, иберийцы, вы братья для нас.
И пробил высокий воистину час
Для всех благородных отчизны сынов,
И каждый из них все на свете готов
Отдать за трилистник с испанской оливой!
О’Доннел и Блейк, чьи отцы не за страх
Сражались, покой обретая в краях,
Далеких от родины их несчастливой,
Вставайте в надежде — а что если вдруг
И в Эрин огонь запылает вокруг;
Простим Альбион, что, пунцов от стыда,
Грозит нам, и вырвем из рабства тогда
Трилистник ирландский с испанской оливой!
Господь нам поможет! — и как не успеть,
Когда хоть одно может сердце гореть,
Отчизне своей посвятивши порывы?!
Тогда каждый мученик будет святым!
И Слава перстом нам укажет своим
Туда, где сереют могил бугорки,
Туда, где Свобода возложит венки
Трилистника Эрин с испанской оливой!
Поверь, если прелести юной твоей перевод Г. Кружкова
Поверь, если прелести юной твоей,
От которой мне больно вздохнуть,
Суждено, как подаркам насмешливых фей,
Из восторженных рук ускользнуть,
Все ты будешь любезной для взоров моих,
Словно времени бег — ни при чем,
И желанья мои вкруг руин дорогих
Обовьются зеленым плющом.
И пусть слезы цветущих не тронули щек,
Пусть прекрасна ты и молода,
Но не думай, что верность и жар — лишь на срок,
Что любовь охлаждают года.
Нет, любовь настоящая вечно жива,
Лишь дороже от лет и невзгод,—
Так подсолнух глядит на закат божества,
Как глядел поутру на восход.
Эрин, о Эрин! перевод М. Алигер
Как яркий светильник, озаряющий сумрачный храм,
Сияющий издали людям в глухую ненастную ночь
Горячее сердце стучит, не сдаваясь скорбям,
И дух победительный бедам осилить невмочь.
О Эрин, о Эрин, от пролитых слез не потух
За долгие ночи неволи твой неиссякающий дух.
Усталые нации гибли, но был твой восход молодым,
Твоя восходила заря, а другие клонились в закат.
Тяжелое облако рабства повисло над утром твоим,
Но яркие полдни свободы вокруг негасимо горят.
О Эрин, о Эрин, в тени миновали года,
И сгинули все гордецы, но твоя не бледнеет звезда.
Спит белая лилия, покуда на свете зима.
Дожди не остудят ее, не разбудят ветра.
Наступит весна, и она встрепенется сама,
Свобода согреет ее, и солнце шепнет ей: «Пора!»
О Эрин, о Эрин, зимы твоей кончится срок.
Надежды, осилившей зиму, наконец развернется цветок.
Заздравное перевод Г. Симановича
Пей за нее, поэт,
За деву, что когда-то
Вдохнула в твой сонет
То, что дороже злата.
О женские сердца!
К иным вы равнодушны,
Лишь голосу певца
Созвучные послушны.
Так за нее, поэт,
За деву, что когда-то
Вдохнула в твой сонет
То, что дороже злата!
Вот к Красоте в чертог
Бард и Богач однажды
Явились на порог,
Полны любовной жажды.
Набитая сума
Ключом не стала к сердцу:
Талант и блеск ума
Раскрыли эту дверцу.
Так за нее, поэт,
За деву, что когда-то
Вдохнула в твой сонет
То, что дороже злата!
Войдя к Богатству в дом
И благ возжаждав бренных,
Любовь умрет, как гном
В пещерах златостенных.
Певца ж любовь вольна
И перлов не алкает
И, девой пленена,
О небе лишь мечтает.
Так за нее, поэт,
За деву, что когда-то
Вдохнула в твой сонет
То, что дороже злата!
Свободного барда презреньем не мучай перевод А. Голембы
Свободного барда презреньем не мучай,
Коль славит услады, отбросив свой меч:
Быть может, рожден он для участи лучшей
И пламень святой мог бы в сердце сберечь?
Струна, что провисла на лире поэта,
Когда б пробудились Отчизны сыны,
Могла б прозвенеть тетивой арбалета,
А песня любви — стать напевом войны!
Но слава Отчизны его увядает,
И сломлен ее несгибаемый дух,
И дети ее на руинах рыдают:
Измена и Смерть торжествуют вокруг!
Нам велено доблестных предков стыдиться,
Томись, и казнись, и во тьме умирай,—
Спасем же огонь, озаряющий лица,
Пока не погиб наш ограбленный край!
Пускай наслаждений полны его вежды,
Он жаждет избыть беспредельную боль, —
Оставь песнопевцу хоть проблеск надежды,
Во мраке скитаться ему не позволь!
Прости ему сладость любовных мелодий,
Лишь только б он сердце высоко держал:
Не так ли Аристогитон и Гармодий[65]
Цветами увили отмщенья кинжал.
Пусть слава прошла и надежда увяла,
Жив край тот в словах наших гневных стихов;
И пусть в них веселье порой ликовало,
Певец не забыл наших бед и грехов!
Мила чужеземцу тоска наших жалоб,
Грянь, арфа, укором живым прозвучи,
Ведь робость презренная вас не сковала б,
Коль не были б сами себе палачи!
Селена улыбалась мне перевод М. Редькиной
Селена улыбалась мне,
Но от луны отвел я взор
Туда, где в горней вышине
Горел миров ночной узор.
Очень уж горда
Дальняя звезда —
Нет тепла от ее огня.
Мне милей луна,
Что кротка, нежна
И с улыбкой глядит на меня.
О Мэри, будь всегда со мной!
Мне чужд игривый, яркий взгляд,
Я так люблю взор лунный твой —
Мой путь благословить он рад.
В туманных ливнях день поник;
Уже полночным полусвет
Залил бледнеющий цветник,
Страдальцу ниспослал привет.
Глядя, как ручей
От луны лучей
Улыбался, промолвил я:
«Пусть очам луны
Сто ручьев видны:
Есть одна лишь луна для ручья».
Одни у нас с тобой мечты —
В тебя влюбленным нет числа,
Но знаю, Мэри, только ты,
Одна ты в сердце мне вошла.
Дурные приметы перевод Р. Дубровкина
В час, когда еще звезды в полумраке блестели
И дремали лучи под хрустальным прудом,
Вся залившись румянцем, Китти встала с постели,
Чтоб навеки покинуть родительский дом.
Ибо тот, кто владел ее сердцем отныне,
Стать ей преданным мужем дал священный обет,
Ну а если уж сердце отдала ты мужчине,
Как за сердцем своим не помчишься ты вслед!
Взяв со столика зеркальце в тонкой оправе —
Разве есть у красавицы преданней друг? —
Мотылька, что к ночной прикоснулся отраве,
На стекле помутневшем заметила вдруг.
Взмах неловкой руки, и, к нежданной досаде,
Злополучный повеса упал недвижим.
«Ах, — вздохнула невеста, — наших прихотей ради
Мы душою безвинною не дорожим!»[66]
Но, едва выйдя в сад, позабыла тревоги,
Средь фиалок и роз, напоенных росой,
И к кустам, что росли в стороне от дороги,
Поспешила, пленясь их волшебной красой.
Но нагнулась — увы! — слишком неосторожно,
Так, что пояс у ней развязался, и вновь
Истомленное сердце забилось тревожно:
«Ах, всех этих волнений не стоит любовь!»
Перед битвой перевод А. Голембы
Вестник завтрашней суровой
Битвы здесь; он тут как тут!
Ждут нас вольность иль оковы?
Жизнь иль смерть заутра ждут?
Только ведайте, друзья,
Что в неволе жить нельзя!
Как звезда во мгле сырой,
Так в могиле спит герой,—
И народ его приют
Оросить слезой готов:
Люди будущих годов
О судьбе его поют.
Кто опочил в победный час,
Тот жил не зря, погиб за нас!
Озарен костром багряным,
Враг — он нынче бел, как мел;
Здесь сражались мы с тираном,
Чтоб тиранить нас не смел!
Не скует нам больше он
Злую цепь былых времен!
Громкий рог звучит войной:
Победив, мы мед хмельной
В рог нальем — и пустим в круг!
Тот, в ком ярость горяча,
Может сгинуть от меча;
Что — для мертвых — горна звук?!
Но блажен, кто пал в бою
За Ирландию свою!
После битвы перевод А. Голембы
Захватчиков укрыла ночь,
Зарницы блещут на холмах,
И мы не отступили прочь,
И чужд нам был презренный страх.
Надежды воинов в пыли,
Тяжка для патриотов весть,—
Но что утратить мы могли,
Коль с нами наши жизнь и честь?
Исчезли вольности мечты,
Что жили в череде веков;
Блистает солнце чистоты
На стягах гибнущих полков.
И пусть мы все обречены,
Что ж, значит, такова судьба, —
Смирятся ль родины сыны
С позорной участью раба!
Как сладко думать перевод М. Редькиной
Как сладко думать, что в дальних краях
Мы отраду для сердца найдем непременно!
И к чему тосковать о любимых устах,
Если к близким устам мы приникнем блаженно?
Льнуть к опоре привыкла душа искони —
В одиночестве ей не расцвесть, не раскрыться,
И нет счастия редкостней в юные дни,
Чем с душой совершенной и родственной слиться.
Хорошо сознавать, что в далеких краях
Мы отраду для сердца найдем непременно!
Ни к чему тосковать о любимых устах —
Ведь и к близким устам мы приникнем блаженно.
Если полон цветами душистыми сад,
Только розе — не им поклоняться пристало,
Но глазами прекрасными свет так богат,
Что любить только раз нам покажется мало.
Как похожа любовь на павлинье крыло,
Что меняет цвета при ином освещенье!
Новый луч красоты засверкает светло —
Новым отблеском вспыхнет любви оперенье.
Хорошо сознавать, что в далеких краях
Мы отраду для сердца найдем непременно!
Ни к чему тосковать о любимых устах —
Ведь и к близким устам мы приникнем блаженно.
Ирландский крестьянин — своей госпоже[67] перевод Э. Шустера
Улыбку ловил я твою, бедствуя по дорогам,
Пока не рождались цветы надежд на терне убогом;
Чем злей была наша судьба, тем любовь — вдохновенней,
Пока униженье и страх не обращались в рвенье;
Был раб я, и лишь в тебе сподобился дух мой свободы,
И я восхвалил тогда сближавшие нас невзгоды.
Сопернице — честь и почет, участь твоя — иная,
Твоя корона — из терний, на ней — корона златая;
Она завлекала в храм, чахла ты под землею,
Она — господину друг, ты же всегда — изгою;
Но я предпочту с тобой в земле покоиться стылой,
Чем изменить тебе, вступивши в союз с постылой.
Клевещут во злобе, что непрочны твои обеты,
Но бледность откуда твоя, если верны наветы?
Лжецы говорят — увы, ты пожила в оковах
И оскудела ты от этих тягот суровых;
Все — ложь, никакая тебя сломить не может невзгода;
Где твой воссияет дух, там воссияет свобода.[68]
К музыке[69] перевод Н. Булгаковой
Счастья нет на этом свете,
Наша жизнь морочит нас.
Песни юности, развейте
Звуками печали час!
Музыка, в твоем дыханье
Пробужденье тайных дум,
Глаз заплаканных сиянье
И приветный детства шум.
Легкий ветер умеряет
Зной восточных цветников,
Так мелодия ласкает
Юности ушедшей зов.
Нежен ветерок с цветами,
А цветы обречены.
Над умершими мечтами
Юности витают сны.
Музыка! Перед тобою
Слаб, беспомощен язык.
Но не ты, а од душою
Чувства выражать привык!
Дружба наша — лепетанье,
Поцелуи часто лгут.
Музыка, в твоем дыханье
Свет и истина минут!
Та слеза[70] перевод Г. Усовой
Та слеза, что над свежей могилой прольем,
На прощание другу даруя,
Не вместит нашей скорби великой о том,
Кто ушел в эту землю сырую.
Но в грядущем, когда-нибудь, в горестный час
Друг его не забывший заплачет,
И печальная тень опустится на нас,—
Та слеза, она многое значит.
В просветленных скорбью душах людей
Его образ высокий остался,
Станет Истина ярче, а Правда — светлей,
Ради них он жил и сражался.
На могиле его свеж цветов аромат,
И на всем — его отблеск ясный,
И сердца наши нынче вольней стучат,
И наш друг погиб не напрасно.
Рождение арфы[71] перевод А. Ревича
По преданию, арфа, чьей внемлешь струне,
Встарь сиреной жила в голубой глубине,
Вечерами всплывала она среди скал
И на берег брела, где возлюбленный ждал.
Но однажды ушел он и счастье, унес,
Ночью слезы струились на золото кос,
И несчастная, небо растрогав тоской,
В лиру вдруг превратилась из девы морской.
Нежно перси вздымались, круглилась щека,
Рамой плавною стан изогнулся слегка,
Расплетенные волосы, падая с плеч,
Стали струями струн, чтобы музыкой течь.
Вышло так: эти струны с давнишних времен
Слили с речью любовною горестный стон,
Ты созвучья разъяла и учишь их вновь
Петь в разлуке печаль, а при встрече любовь.
Былые увлеченья перевод А. Шараповой
Нет в помине тех дней, когда Красота
Мне цепь ковала,
Когда ночью и днем роковая мечта
Ко мне взывала.
Дни отцветут,
Мечты войдут
В спокойное теченье.
Но жизнь уже вовек не повторит
Былые увлеченья,
О, никогда она не повторит
Былые увлеченья.
Слава явится к барду, когда весна
Ему изменит,
И Мудрость, взыскательная жена,
Его оценит…
Растает сон
Былых времен.
Блеснут лучи златые.
И припомнит он дни, когда страстный напев
Звучал впервые,
И подруга внимала ему, покраснев.
О дни былые!
Так вновь воскрешает свою любовь
В мечтах влюбленный.
На руинах памяти вырос вновь
Росток зеленый.
Едва возник —
И вновь поник.
Отвсюду веет хладом.
И никогда не засияет свет
Над водопадом.
О, никогда не засияет свет
Над водопадом.
День престолонаследника[72] перевод В. Топорова
Сегодня ни слова о нашей печали,
Улыбка сквозь слезы, как радуга в небе,
И если б монархи себе выбирали
За верность народ — то на нас пал бы жребий.
Та цепь, что сначала
Чуть-чуть полегчала
И наши надежды тем самым взрастила,
Вдруг новым звеном,
Как льдом и огнем,
Недавнюю радость жестоко сдавила,—
Недолго костру разгораться на льду,—
Но искру последнюю в нас не убила:
Престолонаследник, твой день раз в году!
В честь принца Уэльского задан веселый
Смутьяном отъявленным праздник народу.
Но разве не высшая верность престолу —
Любить в равной мере престол и свободу?
Льстецы и притворы
Посеют позора
Трусливое семя в военном аду.
Ура легионам
Под стягом зеленым!
Они-то не дрогнут под натиском вражьим,
Поднимутся разом в едином ряду
На славу и гибель. Мы это докажем,
Престолонаследник, в военном году!
Престолонаследник, наш остров родимый,
Наш остров зеленый ты любишь открыто,
Страной исстрадавшейся и нелюбимой
Такое вовеки не будет забыто!
Горит изумруд —
И пусть разобьют,—
Зеленым осколок любой заискрится —
Лишь ярче сторицей
Из каждой крупицы.
Так Эрин расколота ныне на части,
И все же, сквозь слезы, тоску и беду,
Сверкает красой и надеждой на счастье,
Престолонаследник, пусть в этом году!
Рыдайте! перевод А. Шараповой
Рыдайте! Миновал ваш час,
Свободы нет в помине.
Цепь фатума сковала вас —
Вы не народ отныне.
Напрасно умирал герой,
Вотще мудрец трудился.
Свобода! Вспыхнул факел твой,
Но свет не возродился.
Рыдайте! Может быть, потом
Вас вспомнят добрым словом...
Послужите вы образцом
Каким-то людям новым,
И сыновья произнесут
Над павшими отцами:
«Кто учинил неправый суд
Над гордыми сердцами?»
Но все судьбой предрешено.
Толпа врагов вас смяла —
Их ненависть свела в одно,
Любовь не устояла.
Пути народа разошлись
Перед оплотом Веры:
Когда один велел «Молись!»,
Другой хулил без меры.
Очи Лесбии светлы перевод М. Яснова
Очи Лесбии светлы —
Но кому их свет лучится?
Взгляд ее острей стрелы —
Где ж та цель, куда он мчится?
Нет, дороже мне стократ
Очи ласковые Норы —
Мне подчас они дарят
Удивительные взоры!
Нора милая моя,
Моя безропотная Нора!
Взгляды яд
Порой таят —
Но никогда не лжешь ты, Нора!
Носит Лесбия наряд,
Подобающий богине.
Ткани золотом горят —
Простоты же нет в помине.
Словно горный ветерок,
Шелестят одежды Норы,
А красу ее сберег
Легкий, чистый луч Авроры.
Нора нежная моя,
Моя пленительная Нора!
Твой наряд
И прост, и свят —
Он дан тебе Природой, Нора!
Ум у Лесбии подчас
Гибче лезвия стального —
Оттого ли ранит нас
Ею брошенное слово?
В сердце Норы спящий свет
Не пленен игрой и ложью.
Лишь увядшей розы цвет
Тверд на мягком этом ложе.
Нора тихая моя,
Моя приветливая Нора!
Ум — и тот
Не превзойдет
Тепла души твоей, о Нора!
Порою юности твоей перевод В. Лунина
Порою юности твоей
Не мог представить я,
Что, кончив счет годов и дней,
Прервется жизнь твоя, Мэри!
Ты неподвижна. Льется свет
И холодно, и зыбко.
Но ничего живее нет,
Чем мертвая улыбка, Мэри!
Как златоносная река,
Что медленно течет,
Скрывает часто на века
Богатства темных вод, Мэри,
Так твой лучистый дух сиял
Под внешней простотой.
Но он всегда и всех пленял,
Кроме тебя самой, Мэри!
Будь в горних высях благодать,
Ты к нам пришла б едва ли.
Умей мы души сохранять,
Тебя б не потеряли, Мэри!
Хотя прекрасные черты
И видим мы подчас,
Но их не помним. Только ты
Вопламеняешь нас, Мэри!
К озеру, где берег дик[73] перевод В. Лунина
К озеру, где берег дик,
Где не слышен птичий крик,
Где высок обрыв крутой,
Кевин выбрался святой.
И шептал он: «Никогда
Кетлин не прийти сюда!»
Видно, он не знал дотоле,
Сколько силы в слабом поле.
Думал он, что Душу спас
От прекрасных Кетлин глаз!
Он бы с ней счастливым стал,
Но любовь грехом считал.
Где б ни шел он, влюблена,
Всюду следом шла она,
И куда б он ни смотрел,
Всюду Кетлин взор горел.
Только здесь на крутизне
Смог заснуть он в тишине,
И во сне был защищен
От улыбки Кетлин он.
Но для Кетлин мал весь свет —
Для любви преграды нет.
И теперь, пройдя сквозь тьму,
Плачет, клонится к нему.
Страх презрев, не зная зла,
Вновь она его нашла.
И когда святой проснулся,
Кроткий взгляд его коснулся.
Как жесток святой, о боже!
Встал он с каменного ложа,
К бедной девушке шагнул
И с горы ее столкнул.
Глендалу, для Кетлин милой
Вскоре стало ты могилой!
Понял вдруг тогда святой
Чувство девушки простой,
Грустно вымолвил: «Должна
Обрести покой она».
И тотчас, покинув тело,
Ввысь душа ее взлетела.
Далека сторона…[74] перевод Ю. Левина
Далека сторона, где младой ее друг
Спит, сокрытый землею сырою.
Но любовники тщетно вздыхают вокруг:
Ее сердце в могиле героя.
И поет она песни, любимые им,
Милой родины скорбные звуки.
И не знает никто, что с напевом родным
Разрывается сердце от муки.
Для любимой он жил, и он пал за народ,
Обретя полноту своей жизни.
И недолго она без него проживет,
И не будет забыт он в Отчизне.
Схороните ее, где, пророча рассвет,
Луч закатный блеснет из-за моря,
Словно остров родимый пошлет ей привет —
Край любви ее, счастья и горя.
Родная моя, не считай перевод В. Лунина
Родная моя, не считай, бога ради,
Что в кубке любовь свою утоплю.
Поверь мне. На бровки сердитые глядя,
Я даже сильнее тебя люблю.
Хоть напиток хорош,
Хоть он светел, но все ж
Ярче свет, излученный твоею душой.
Чары взглядов твоих,
Чары вздохов твоих
Все сильней освящают мой кубок хмельной.
Поэтому дух твой напрасно страдает,
Что сладкую грезу похитит вино.
Как в страннике силу родник пробуждает,
Любовь мою пробуждает оно.
Слыхал я, любовь в своем доме заветном
Имела две розы, рожденные богом.
Одну окропил он дождем многоцветным,
Другую обрызгал искрящимся грогом.
И, пройдя все препоны,
Появились бутоны.
На первой бутон был и бледный, и хилый.
Но зато на второй
Яркой краской живой
Светился бутон, как лицо моей милой.
Поэтому дух твой напрасно страдает,
Что сладкую грезу похитит вино.
Как в страннике силу родник пробуждает,
Любовь мою пробуждает оно.
Сверкая во гневе[75] перевод Э. Шустера
Сверкая во гневе, вонзится меч Эрин
В тирана, что Усны убил сыновей;
Позор, что для близких слезами измерен,
Оплатит нам кровью из сердца злодей.
На облаке рдяном, накрывшем берлогу,
Где Конор сгубил трех уладов, наш цвет,
На волнах войны, что растут понемногу,
Явились герои на берег побед.
Клянемся отмстить их! — пусть скорбь в нашем круге,
Пусть арфа молчит, дева мужа пусть ждет,
Пусть дом наш замрет, пусть не вспомним о плуге,
Пока не разрушим убийцы оплот.
Как сладко нам все, что оставлено дома,
Как сладко нам слезы прощальные лить,
Как сладость надежд нам и дружбы знакома,
Но сладкого слаще — тирану отмстить!
Как пчела, что хмурой чащей перевод Р. Дубровкина
Он. Как пчела, что хмурой чащей
На заветный мчится луг,
Чтоб собрать нектар пьянящий,
Я спешу к тебе, мой друг.
Она. Как скала, что в пене снежной
Внемлет шепоту ручья,
Голос твой призывно-нежный
Я ловлю, любовь моя.
Но, испив нектар желанный,
Вновь пчела умчится вдаль,
И волне непостоянной
Скал оставленных не жаль.
Он. Берега и те не вечны,
Луг увянет до зимы:
Миг блаженства быстротечный
Упускать не вправе мы!
Любовь и послушник перевод Г. Ефремова
«Мы здесь пребываем в мечтаньях о Свете,
Здесь ангелы внемлют глухим голосам
И звуки молитв и дыханье соцветий,
Слиясь воедино, летят к небесам.
Любовь, ты тревожишь сердца и умы!
Ты нам не являйся среди полутьмы,—
Пред этим соблазном бессильны и мы».
Любовь улыбнулась — она была рядом,
И эти диковинки ей не во вред:
Овеяла юношу благостным взглядом,
А крылья в небесный окрасила цвет.
«Кто мог бы подумать! — послышался глас.—
Что может любовь обходиться подчас
Без машущих крыльев и ранящих глаз?»
Любовь безраздельно владеет тобою,
Послушник, ты думаешь только о ней,
Лишь к ней обращаешься с жаркой мольбою
И с каждой минутою любишь сильней.
Любовь благодатная всем суждена!
И ангелов гостьей была бы она,
Когда б к ним вошла благочестья полна.
Всю жизнь чередуются счастье и горе перевод О. Татариновой
Всю жизнь чередуются счастье и горе,
Как шквалы и спады глубинной волны;
Глаза наши, зеркало этого моря,
Блестят, то слезами, то счастьем полны.
Так тесно сплетаются наши волненья,
Что слезы не высохли — смех уж звенит.
Упасть не успеет слеза сожаленья,
Как новая прихоть ее упразднит.
И чашей земною не дам я обета
Черпнуть только счастья иль только ума;
Люблю, когда грусть, вдруг исполнившись света,
Блеснет прихотливо, как радость сама.
Так Гил[76], полупив роковое заданье,
Отправился с урной искать ручеек.
В пути увлекло его жизни сиянье —
Обет свой исполнить он так и не смог.
А тем, кто, как я, черпал в юности воды
Святых родников с философских глубин,
Грозило утратить цветущие годы,
Священный свой опустошая кувшин.
Так дайте мне чашу цветенья земного —
Гирлянды плодов помогает сплести
Не разум — он слеп к бликам мира живого,
А свет на листве, что я смог обрести.
О трилистник[77] перевод О. Волгиной
Среди дубрав,
Медовых трав,
Любовь и Честь гуляли,
И фея Мысль
Метнула ввысь
Сто стрел, что воссияли.
Нежней цветка
Три лепестка
Взросли, росой одеты,
В следах богов,
В прохладе мхов
Они — как самоцветы.
О добрый Трилистник, зеленый клевер
Певцом воспет,
Вождям завет,
Ирландский дикий клевер!
И молвит Честь.
«Цветов не счесть,
Ко мне с зарей идущих!»
Любовь в ответ:
«Со мной их свет,
В моих лугах цветущих».
Но листьев смысл
Постигла Мысль:
«Пусть лист с листом сольется!
Вовек хранить
Святую нить
Пусть наш союз клянется!»
О добрый Трилистник, зеленый клевер
Певцом воспет,
Вождям завет,
Ирландский дикий клевер!
Тропа одна,
И цель ясна
Для всех троих отныне.
Где май цветет,
Там Мысль найдет
Наряд небесно-синий.
Среди шипов
Ростки цветов
Таят предвестье.
Победный шаг,
Свободы стяг
Пусть будет верен Чести!
О добрый Трилистник, зеленый клевер
Певцом воспет,
Вождям завет,
Ирландский дикий клевер!
Ровно в полночь[78] перевод С. Таска
Ровно в полночь, когда звезды плачут,
лечу я
В ту долину, что ты так любила,
и внемлю:
Если души спускаются с неба
на землю,
Чтобы вспомнить былое, — и ты с ними,
жду я,
Прилетишь, той любви так же сильно
взыскуя.
И долину призыв оглашает мой
страстный,
И молитвы мои возвращает мне
Эхо,
В нем звучат отголоски любимого
смеха,
Как в то лето, когда мы смеялись
согласно.
Этот голос и там все такой же
прекрасный!
Прощальный бокал перевод Э. Шапиро
Прощальный бокал! — хоть немало
Мы пили за этим столом,
Но время разлуки настало:
Мы к чаше горчайшей прильнем.
Всю сладость минуты пьянящей
Постичь мы не в силах, пока
Не скажет нам миг уходящий
О том, как потеря горька.
Быть может, из этих мгновений
Все счастье земное сплелось;
Рождаясь в груди Наслаждений,
Найдут они смерть в кубке слез.
И если в пути мы устали,
Зеленых лугов островки
Нас дарят улыбкой сквозь дали
Дремотной песчаной тоски!
Но Время, угрюмый возница,
Спешит те минуты вспугнуть, —
О! Время тогда только мчится,
Когда устлан розами путь.
Быть может, из этих мгновений
Все счастье земное сплелось;
Рождаясь в груди Наслаждений,
Найдут они смерть в кубке слез.
Мы знаем, что солнце печально
Расплавится в золоте вод.
Пускай же, как отсвет прощальный,
Прощальная влага блеснет.
Мы знаем, что в миг умиранья
Луч света зажжется в волне,—
Нальем же! Пусть наше прощанье
Пылает, как солнце в вине.
О, только из этих мгновений,
Быть может, все счастье сплелось;
Рождаясь в груди Наслаждений,
Найдут они смерть в кубке слез.
Последняя роза лета перевод А. Голембы
Этой розе — последней
Томиться дано:
Все подруги ее
Отпылали давно.
И любимый далек:
Предвещают беду
Безответные вздохи
В осеннем саду.
Не покину тебя
В дни любви и тоски!
Оброню и рассыплю
Твои лепестки.
Оброню их небрежно
В объятья травы,
Где подруги твои
Безуханно-мертвы.
А ведь скоро остынет
Бурливая кровь,
Скоро дружба исчезнет,
Увянет любовь.
Только, верной любви
Потеряв благодать,
Кто захочет
В ночном этом мире страдать?
Луна во тьме горит перевод В. Лунина
Луна во тьме горит, любовь,
И нам огонь дарит, любовь,
С тобой всегда
Я в час, когда
Над миром сон царит, любовь!
Проснись! Луна ярка, мой друг,
Пусть будет ночь сладка, мой друг
У тьмы для нас
Похитим час,
День удлиним слегка, мой друг!
Сном целый мир покрыт, любовь,
Лишь звездочет не спит, любовь,
Да я, кому
Звезда сквозь тьму
Свой свет в окно стремит, любовь!
Проснись, сольем сердца, мои друг,
Но бойся мудреца, мой друг,
Он сможет впредь
Средь звезд узреть
Свет твоего лица, мой друг!
Сын менестреля[79] перевод А. Н. Плещеева
Он на битву пошел, сын певца молодой,
Опоясан отцовским мечом;
Его арфа висит у него за спиной,
Его взоры пылают огнем.
«Все тебя предают, — барда слышится речь, —
Страна песен, родная страна,
Но тебе до конца не изменит мой меч,
И моя будет арфа верна!»
Пал он в битве… Но враг, что его победил,
Был бессилен над гордой душой;
Смолкла арфа: ее побежденный разбил,
Порвал струны он все до одной.
«Ты отвагу, любовь прославлять создана, —
Молвил он, — так нс знай же оков.
Твоя песнь услаждать лишь свободных должна,
Но не будет звучать меж рабов!»
Песня О’Рарка, князя Бреффни[80] перевод В. Топорова
Вновь места завиднелись родные,
Где оставил жену я мою,
Но нахлынули мысли иные,
Тяжко душу волнуя мою.
Не увидел в окне я лампады
(«Той, что ждет тебя, мой пилигрим!»).
Был мой замок темнее ограды,
Безучастно стоявшей пред ним.
Я рванулся в покои — что с нею?
Но покои стояли пусты.
Ах, и смерть не сразила б вернее!
Вероломная, сгинула ты!
Арфа брошена в спешке побега,
А персты, что бежали по ней
(О, какая волшебная нега!),—
В подлой скачке торопят коней.
Было, было, красавица, время,
Когда Бреффни в неравной борьбе
С целой ратью сразился б — со всеми,
Кто хоть слово б сказал о тебе.
А теперь — неизбывным позором
Ты покрыта во веки веков.
Знай, мы грянем отмщением скорым
В новый дом твой, в Отчизну врагов!
Будь ты проклята именем рода
И заветами нашей страны!
Не найдется в преданьях народа
Большей кары и большей вины!
На корабль — и в заморскую область!
Трепещи, чужеземный тиран!
С нами — наша ирландская доблесть,
С вами — только полки англичан!
О, был бы у нас наш сияющий остров перевод А. Преловского
О, был бы у нас наш сияющий остров, отдельный,
Затерянный в летних морях, в синеве беспредельной,
Где б в зелени вечной сады увяданья не знали
И пчелы на пышных цветах круглый год пировали;
Где б солнцу легко отдыхалось
От нежного груза огня
И ночь никогда не сгущалась
В предчувствии нового дня;
Где б славно жилось — от сознанья того, что на свете
живем,
Что в мире мы рая другого — искать не искать — не
найдем.
Там с пылкой душою, прекрасны, как горы и реки,
Мы б жили в любви, будто бы в золотом, незапамятном
веке,
И воздух целебный, сиянием солнца согретый,
Сердца бы наполнил, чтоб было в них вечное лето.
С любовью к теплу и свободе,
Как свежая зелень садов,
С надеждой, в родном хороводе,
Как пчелы в раздолье цветов,
Мы жили бы, жизнь принимая за долгий и радостный день,
А смерти приход — за ночную, святую и мирную, тень.
Прощайте! Но если случится порой перевод А. Ревича
Прощайте! Но если случится порой
Вам весело петь на пирушке ночной,
Вздохните о друге, который не раз
Печали свои забывал среди вас.
И пусть от невзгоды ему не уйти,
С последней надеждой расстаться в пути,
Вовек не забудется радостный час,
Когда удавалось побыть среди вас.
В ту ночь, когда радость наполнит ваш дом,
В сердцах заискрится и в кубках с вином,
Какая б скитальцу не вышла стезя,
Душа моя к вам устремится, друзья,
За вашим столом отдохнув от забот,
Мне ваших улыбок лучи принесет,
Коль кто-то шепнет: «Жаль, что здесь его нет!» —
Я эти слова восприму как привет.
Пускай мне наносит удары судьба,
Убить мою память не может — слаба,
И милые лица из лучших времен
В печальные ночи приносит мне сон.
И пусть в моем сердце хранятся мечты,
Как запахи в вазе, где были цветы,
Разбейте ее — не умрет аромат,
Дыхание розы осколки хранят.
Поверь перевод А. Ревича
Поверь — конец проказам
И жизни без забот,
Отныне строгий разум
Огонь мой стережет.
Пусть отшумел рассвет мой ранний,
Пусть многие меня трясли,
Лишь лепестки коснулись дланей,
А для тебя плоды взросли.
Поверь — конец проказам
И жизни без забот,
Отныне строгий разум
Огонь мой стережет.
Пускай со страстью прежней
Не в силах арфа петь,
Мой жар — он все безбрежней,
Но речь должна неметь.
И шмель поет неутомимый,
Он в нежных песнях знает толк,
Но вот, найдя цветок любимый,
Припал он к чаше — и умолк.
Поверь — конец проказам
И жизни без забот,
Отныне строгий разум
Огонь мой стережет.
Красавицей Эллен считалась по праву перевод М. Бородицкой
Красавицей Эллен считалась по праву,
К ней сватались лучшие парни села,
Но пришлый бедняк был ей больше по нраву,
И Эллен супругом его назвала.
Любовь им светила в лачуге убогой,
Трудились они от зари дотемна,
Но Вильям весною взглянул на дорогу
И грустно сказал: «Собирайся, жена».
И Эллен простилась с родной стороною,
И шли они долго в ненастье и зной,
И как-то дождливой вечерней порою
Увидели замок средь чащи лесной.
«Укроемся здесь этой ночью ненастной,
Мы нынче иззябли и еле стоим»,—
И юноша в рог протрубил громогласно,
И стражник в воротах склонился пред ним.
«Входи же в свой дом госпожой горделивой, —
Промолвил ей Вильям и в замок повел,—
И замок, и лес, и озера, и нивы —
Твои! Ты хозяйка теперь в Розна-Холл!»
…И в девушку, что бедняка полюбила,
Все так же влюблен именитый сеньор,
И та же любовь, что в лачуге светила,
Их пышный дворец озаряет с тех пор!
Что мне плакать об утратах перевод В. Топорова
Что мне плакать об утратах,
Если ты еще со мной,—
О неверных провожатых
И о зависти людской?
Ты со мной всегда и всюду
На дороге долгих лет,
И твоей улыбки чудо
Превращает ночь в рассвет.
Не страшны мне испытанья,
Кроме связанных с тобой,
Не нужны очарованья,
Кроме названных — тобой.
Ты приснишься на мгновенье —
И счастливей этот сон
Неземного упоенья
Нескончаемых времен!
И хоть вышел срок надежде,
Торопившей душу в путь,
Я уверенней, чем прежде,
Побреду куда-нибудь.
Свет надежды перетлеет —
Озарят дорогу мне
Тот огонь, что в сердце зреет,
И заря в твоем окне.
Факел путника задует
Ветер яростный ночной;
Ночь окружит, околдует
Темнотой и тишиной;
Бедный путник затрепещет —
Уж не сбился ли с пути,
Но луна над ним заблещет,
Подсказав, куда идти.
Над бездной морского перевод И. Копостинской
Над бездной морского,
Дева, со мною
Бежим сквозь солнце, снег, ураган.
Год за годом пройдет,
Но вовек не солжет
Сердце, что светит в шторм и туман.
Пусть хмурится рок. — Мы вместе, любя.
Ты моя жизнь. Но смерть без тебя.
Над бездной морского,
Дева, со мною
Бежим сквозь ветер далеких стран.
Год за годом пройдет,
Но вовек не солжет
Сердце, что светит в шторм и туман.
Лишь в море, не скрою,
Свободны герои,
А берег в тюрьмах и кандалах.
Мир рабства полн,
Но среди волн
Любовь и Свобода в наших руках.
Здесь никто не следит и не выдаст друг,
Земля далеко. Лишь небо вокруг.
Ужель омрачили печали[81] перевод Р. Дубровкина
Ужель омрачили печали,
Как синюю даль — облака,
Ту юность, что не омрачали
Когда-то ни боль, ни тоска?
И время коснулось бесстрастно
Груди твоей хладным крылом,
И ты над судьбою невластна, —
Приди, мы поплачем вдвоем!
Ужель для души твоей чистой
Не больше Любовь, чем рудник[82],
Где свет золотой и лучистый
Не гаснет порой ни на миг?
Но если, прельстившись поживой,
Породу мы сколем киркой,
Как сон мимолетный и лживый,
Исчезнет металл колдовской.
Ужели была так жестока
Надежда к безвинной судьбе,
Как птица из сказок востока,
Что перстнем манила к себе?
Ее настигала ты чудом
И мнила своею, как вдруг,
Желанным сверкнув изумрудом,
Она ускользала из рук.
О, если подобно надежде,
Что так бессердечно лгала,
Умчалась и юность, что прежде
Была даже в горе светла,
И мир прикоснулся бесстрастно
К груди твоей хладным крылом,
И ты над судьбою невластна, —
Приди, мы поплачем вдвоем!
Не жажду больше перевод О. Волгиной
Не жажду больше волшебного пенья,
Звенящей волной всколыхнувшего сон,
Когда в мятежный миг пробужденья
Я словно хором небес окружен,—
А голос дальний сердце тревожил
Сквозь долгий сон, остудивший кровь,
Отклик печальный в душе моей ожил
На ласку нежной мелодии вновь.
О сладость неги! голос твой легок,
Так летний ветер в ракушках пел,—
И, грудь наполнив, отзвук был робок,
Сливался с ветром и с песней летел.
Струились лучи водой живою,
Пусть будет мука, уйдет любовь,
Пусть кану во тьму, но глаза открою
От ласки нежной мелодии вновь.
В ту пору наших первых встреч[83] перевод Г. Русакова
В ту пору наших первых встреч
Ты был так юн и страстен,
Что я дала себя увлечь,
Не усомнилась в счастье.
Ты охладел, но и тогда,
Покорная надежде,
Я повторяла: «Не беда —
Он верен мне, как прежде».
И сердцу моему
Теперь за все расплата.
Так поделом ему:
Само же виновато!
Тебя клеймили кто как мог
За лживость и двуличье.
А мне малейший твой порок
Был отсветом величья.
Тебя покинули друзья,
Ловила зависть в сети.
С тобой осталась только я —
Одна на целом свете.
Но, может, и тебя
Не минет чаша эта:
Наплачешься, любя
Любовью без ответа!
Увяли розы юных лет,
И ты не в прежней силе.
Вчерашних див простыл и след,
Льстецы отлебезили.
Прошла пора былых утех,
В дому — рабы, не гости.
Вглядись: их вымученный смех —
Веселье на погосте.
Твой блеск — обман для глаз,
Тщеславие пустое.
Он для меня сейчас
Слезы и той не стоит.
Но не спасет и эта ложь,
И эта связь прервется.
Тогда-то к прошлому взовешь,
Да зря: не отзовется
Та, что любила и ждала,
Как ни одна другая,
Что благодарно б умерла,
Тебя оберегая.
Теперь не время для обид.
Да и куда мне в судьи!
Не я — тебя осудит стыд
Суровее, чем люди.
Муза истории[84] перевод А. Шараповой
Покуда История гимны поет
Всему, что сплетается пальцами Славы,
Ирландия слезы горячие льет,
Читая кровавые, смутные главы.
Но — Боже! Слеза загорелась огнем:
В той книге, печалью веков омраченной
И покрытой стыдом,—
Лучезарным пером
Муза вывела имя ее Веллингтона.
«Звезда моя, здравствуй!» — богиня поет,
Лучи посылая все ниже и ниже,—
В потемках веков, где забвенье и гнет,
Я имя героя лишь изредка вижу;
Гиганты рождались во все времена,
И я назову их теперь поименно.
Все же жизнь их грешна,
Но не сыщешь пятна
На победном венце моего Веллингтона.
Отважный, я вправе гордиться тобой:
Прекрасен, кто гибнет за чуждые страны,
Но трижды прославится в мире герой,
Врачующий родины тяжкие раны.
Так запомни, герой, бедный край, что стоит
У твоей колыбели и трона.
И над морем обид
Пусть победно горит
Яркой радугой жизнь моего Веллингтона.
Безрассудство перевод Г. Симановича
Блеск женских взоров страстно
Ловил я ежечасно,
Я им дарил
Сердечный пыл,
Но сердце жег напрасно.
Рассудку отвечал я,
Что с ним всегда скучал я,
И вместо книг
Любви дневник,
Глупея, изучал я.
Как Эльф в долинах темных
Под взором дев нескромных,
Я цепенел,
Когда глядел
В глаза красавиц томных.
Как он, Красой пленялся,
Но если отклонялся
Лучистый взгляд —
Был только рад
И прочь, как ветер, мчался.
Пора безумств прошла ли,
Иль по-иному стали
Глаза блистать?
Могу ль считать,
Что поумнел? Едва ли!
Увы, все та ж услада
Пленительного взгляда
Волнует кровь,
И Разум вновь
Для Чувства не преграда.
О, есть ли такой невольник? перевод В. Лунина
О, есть ли на свете такой
Невольник с презренной душой,
Что из году в год
В оковах бредет,
Смирясь со своею судьбой?
Найти ли такого глупца,
Что лжи разрешит до конца
Свой дух растоптать
До того, как предстать
Ему перед ликом творца?
Прощай же, Ирландии славный народ,
Скорбящий от наших невзгод!
Вот лавр, весь покрытый листвой.
Он не обладает ценой.
Но дорог листок,
Вплетенный в венок,
Которым увенчан герой.
Страну мы покинули сами,
Но флаг ее реет над нами.
Друзья в этот час
За спиною у нас.
Жестокий наш враг — перед нами.
Прощай же, Ирландии славный народ,
Скорбящий от наших невзгод!
Покинута всеми перевод А. Ибрагимова
Покинута всеми, о бедная лань,
Напрасно себя не терзай и не рань.
Прильни мне на грудь, не скрывая лица:
Здесь дом твой, здесь сердце — твое до конца.
Любовь неизменна; себе лишь верна,
И в счастье и в горе все та же она.
Не знаю, виновна ли ты предо мной,—
Тебя я люблю той, что есть, — не иной.
«Мой ангел», — я помню, меня ты звала.
О да, я твой ангел, храпящий от зла.
Мы в пламя с тобою бесстрашно войдем
И вместе спасемся — иль сгинем вдвоем.
Исчез навсегда перевод А. Ревича
Исчез навсегда этот луч, он родился
Подобный заре довременных небес,
Когда человек в первый раз пробудился
И свет прославлял, пока тот не исчез.
Исчез. Только блики мерцают в начале
Той ночи, где рабство нас ждет и печали,
Все царства во тьме, но едва ли встречали
Такую, Ирландия, как над тобой.
Надеждою жил ты, о край мой суровый,
Когда пробивалось мерцанье из туч,
А истина в гневе срывала оковы,
И реяло знамя, как солнечный луч.
Пред этой минутой померкли невзгоды,
И если бы разом запели народы,
Тогда бы возник первой нотой свободы,
Ирландия, клич, вознесенный тобой.
Тиранам позор и кичливому сброду
Завистливых высокородных зверей,
Которые юную нашу Свободу
Крестили в крови у своих алтарей!
Тот светоч растаял виденьем лучистым,
Но, нет, вопреки всем насмешкам и свистам,
Надолго таким он запомнится чистым,
Ирландия, как воссиял над тобой.
Я видел, как розовым утром качался[85] перевод А. Н. Плещеева
Я видел, как розовым утром качался
В волнах прибывавших у берега челн;
И вновь я пришел, когда мрак надвигался,
Челнок был все там же, но не было волн.
Я так же охвачен был счастья волною,
Как этот песком занесенный челнок…
Отхлынули волны, и, полон тоскою,
Остался у берега я, одинок.
Зачем говорите вы мне в утешенье,
Что слава должна услаждать мой закат…
Отдайте мне бурную смелость стремленья,
Отдайте мне юности слезы назад!
До краев нальем! перевод А. Ревича
До краев нальем!
От одной росинки
На челе твоем
Сгладятся морщинки.
Молний горячей
Острословье наше,
Если у речей
Терпкость полной чаши.
До краев нальем!
От одной росинки
На челе твоем
Сгладятся морщинки.
Мудрый в царстве звезд
Молнию арканит,
Схватит — и за хвост
В дол ее притянет.
Всяк средь нас таков:
Выпив на здоровье,
Ловим вспышки слов
В высях острословья.
Спросишь, старина:
Как наш дух однажды
Возалкал вина,
Причастился жажды?
Знай: в один из дней,
Если верить сказке,
Выкрал Прометей
Пламя без опаски.
Но беспечным был,
Совершил оплошку,
Для углей забыл
Взять с собою плошку.
Вдоль небесных зал
Он блуждал, но — чудо! —
Перед ним фиал,
Вакхова посуда.
Кто-то не допил,
И глоток остался:
Так душевный пыл
С пламенем смешался.
Оттого сильна
Власть вина над нами,
И в душе она
Разжигает пламя.
До краев нальем!
От одной росинки
На челе твоем
Сгладятся морщинки.
Во тьме я обрел тебя, арфа Отчизны[86] перевод А. Голембы
Во тьме я обрел тебя, арфа Отчизны,
Тебе был навязан молчанья обет,
Но, гордый, услышав твои укоризны,
Я голос вернул тебе, вольность и свет.
Я вновь пробудил в тебе нежности звуки,
Веселые песни любви и тепла,
Но долго впивала ты возгласы муки
И часто их отзвуком горьким была.
О арфа Отчизны! Порывом влекомый,
С тобой расстаюсь я до лучших времен, —
Спи в славе, овеяна сладостной дремой,
Нарушу не я твой задумчивый сон.
Сердца патриотов, солдат иль влюбленных
Вошли в наши песни земной чистоты,
Но я был как ветер в скитаньях бессонных,
И то, что я спел, подсказала мне ты.
Моя нежная арфа перевод Г. Симановича
Я снова сладостные звуки
В тебе, о Арфы, пробудил.
Мы вместе, но, как в час разлуки,
Не плакать не хватает сил.
Тебя нашел под сенью ивы
В плену у скорбной немоты:
Все арфы ныне молчаливы,
Что волю славили, как ты.
Давно аккорды отзвенели,
И миновал блаженный час,
Когда надеждой пламенели
Сердца, — теперь их пыл угас;
Но и когда под небесами
Чудотворила тишина,
Увы, лишь новыми слезами
Бывала ты омрачена.
И кто утех искать решится
С тобой, о горестный мой друг?
Когда в неволе гибнет птица,
Кощунствен птичий гам вокруг!
Коснусь ли дерзкими руками
Вольнолюбивых струн твоих:
Я украшал тебя венками,
Но, как в цепях, ты стонешь в них.
Но если дух твой угнетенный
Воспрянет — я найду слова,
Чтоб мир, сетями оплетенный,
Узнал, что ты еще жива,
Что рабства тяжкая препона
Тебе не может помешать
Подобно статуе Мемнона
В пустыне музыкой дышать!
На заре нашей жизни перевод А. Ревича
На заре нашей жизни безоблачны шири,
Нет забот, только радости в блеске зари,
И живем в нашем собственном пламенном мире,
Где рождается светлый простор изнутри,
Но, поверь, легковесна любовь в эту пору,
В этот солнцем весенним наполненный час,
Стойкость чувства приходит на смену задору,
Жар сильнее тогда, когда пламень угас.
Когда блекнет сияние юности бурной,
Словно лист, уносимый теченьем ручья,
Когда чаша блаженства становится урной
И темнеет вино, словно пепел, горча,
Наступает пора, когда верность возможна,
А глубины души неоглядны, как даль.
Порожденная счастьем любовь ненадежна,
Лишь вкусивши печали, верна, как печаль.
В южных странах, где дивны цветочные чаши,
Ценность запахов сладостных невысока,
А на Острове Ливней, на родине нашей,
Ничего нет дороже, чем запах цветка.
Дух любви нам является в полном накале
Не тогда, когда радость и солнце в глаза,
Свет улыбок его пробуждает вначале,
Но дарят ему сладость печаль и слеза.
Как медлит шлюп перевод С. Таска
Как медлит шлюп: родной маяк
Уже почти не блещет,
Оборотившись к дому, флаг
Отчаянно трепещет,
Нет сил у нас порвать со всем,
Что с детских лет знакомо,
И сердце рвется, рвется к тем,
Кто остается дома.
И, сидя в дружеском кругу,
Пустив вино по кругу,
Чтоб не остаться вдруг в долгу,
Мы прошлое друг другу
Напомнить рады бы сквозь смех,
Но грустно так поем мы,
Как только и поют о тех,
Кто остается дома.
В иных широтах повстречав
Красивейшие земли
К грезя средь пьянящих трав,
Пичугам райским внемля,
Задремлешь в этой красоте,
Но, знаешь, слаще дрема
Была бы, окажись здесь те,
Кого оставил дома.
Как моряки, когда закат
Лег на воду печально,
На запад обращают взгляд,
Где брезжит луч прощальный,
Так мы, закат встречая свой,
В последний путь влекомы,
Оборотим лицо домой:
Ведь мы остались дома.
Твой возлюбленный спит в могиле сырой перевод Ю. Петрова
Твой возлюбленный спит в могиле сырой,
Ты прости его нрав и грехи отпусти,
Если с них будут сняты покровы — накрой
Их опять и над ними одна погрусти.
Если память напомнит тебе, что порой
Далеко уходил он от светлых путей,
Ты с отрадою вспомни: была ты звездой,
Указующей к дому дорогу во тьме.
Красота чистоты возвестила о том,
Что отныне любви поклоняется он,
Веры свет он обрел и отверг со стыдом
Тех кумиров, к которым он шел на поклон.
Водны моря житейского, тьмы торжество
Отступили пред силой лучей золотых;
Если счастьем овеяло вечер его —
От тебя этот свет согревающий был.
А когда он вступал на неправедный путь
И безумье былое к пороку звало,
Лишь в глаза твои он успевал заглянуть —
И, как тень, исчезало коварное зло.
Словно Солнца Жрецы, лишь при свете дневном
Возрождавшие блеск своего алтаря,—
Он, когда иссякало все доброе в нем,
От тебя, как от солнца, добро возжигал.
Не забуду тебя перевод А. Ибрагимова
Только б сердце в груди не устало стучать,—
Не забуду тебя, одинокая мать.
И в печали твоей, и в дожде, и во мгле
Нет прекрасней тебя никого на земле.
Если б стала великой, свободной ты вдруг,
Первой розой среди пышноцветных подруг,
Я тебя прославлял бы, ликуя, но верь:
Горячее не мог бы любить, чем теперь.
Нет, залитая кровью, под гнетом цепей
Ты дороже еще для твоих сыновей:
Их сердца, как в пустыне — птенец, вновь и вновь
Пьют по капле из ран материнских любовь.
Укрась бокал! перевод Ю. Петрова
Бокал обвей
Души своей
И разума соцветьем;
Мы полетим
И воспарим
Над серым миром этим.
Да будет вновь
Вокруг любовь!
Явись нам, радость наша!
Постыдный страх
Потерпит крах,
Когда налита чаша.
Бокал обвей
Венком речей
С любовью и искусством;
Мы полетим
И воспарим
Над миром этим тусклым.
Из звонких чар
Вкушал нектар
Юпитер с Аполлоном;
Ты сей бальзам
Составишь сам
По древним тем канонам:
Сверкать вино
В лучах должно
Веселья золотого,
Шути и пой
Над влагой той —
И вот питье готово!
Но для чего
Песок в него
Всыпает Время быстро?
Вину — не тлеть,
Ему гореть,
Разбрызгивая искры.
Шутя, смеясь,
Мы выпьем всласть,
До дна бокал осушим,
Струей двойной
Польется зной —
Прильнет к телам и душам.
Бокал укрась —
Да будет связь
Меж духом и бокалом!
Мы полетим
И воспарим
Над миром этим вялым.
Перед улыбчивостью взгляда[87] перевод Г. Русакова
Перед улыбчивостью взгляда,
В котором все — восторг и свет,
Подобно небу, где ни града,
Ни даже туч покуда нет,
Я с горькой трезвостью всезнанья
Определяю наперед,
Что отволнуются желанья,
Восторг до времени замрет.
Да, время щедро на подарки:
Надежда лжет, клевещет друг,
Любовь — то лед, то пепел жаркий,
Порхнувший на ветер из рук.
Ты, юность, чище снежной глади,
Не смятой тяжестью дождя.
Но он придет, слезами градин
Твои равнины бороздя…
Когда ты со мной перевод О. Татариновой
Когда ты со мной, все сокровища мира
У ног твоих я сложить готов;
Поет нам сладчайшей надежды лира
Мелодии самых прекрасных снов,
Где все для нас, если с нами любовь!
Цветы расцветают, когда мы проходим,
И глас божий слышен в каждой звезде;
Небесный мир мы с собою приводим,
Земля перед нами подобна мечте,
Что в наших глазах, если с нами любовь!
Такие к нам мысли текут, чьи истоки
Скрываются в недрах небесных холмов,
Сердец наших чаши чисты и глубоки,
Наполнены водами тех родников,
Нетленно в нас все, если с нами любовь!
Все это творит светлый дух любви
Со всяким, в кого он способен вселиться, —
Так небо дарует владенья свои,
И здесь, на земле, оно хочет продлиться:
Мы строим его, если с нами любовь!
К женским взорам[88] перевод Н. Григорьевой
От сотен женских взоров, друг,
Пойди — уйди, пойди — уйди!
Но ту, что всех милее, друг,
Пойди — найди, пойди — найди!
Как светят звезд лампады
В небесной мгле, в небесной мгле,
Так светят эти взгляды
Здесь, на земле, здесь, на земле.
Любой бокал наполни, друг,
И пей до дна, и пей до дна!
Люби, кого полюбишь, друг,—
Любовь одна, любовь одна.
Одни глаза умеют
Вести сквозь мрак, вести сквозь мрак,
Как нас ведет и греет
В пути маяк, в пути маяк.
Зато другие, боже,
Сбивают с ног, сбивают с ног;
Не верьте им, по все же —
Прости нм бог, прости им бог!
Любой бокал наполни, друг,
И пей до дна, и пей до дна!
Люби, кого полюбишь, друг, —
Любовь одна, любовь одна.
Иные лгут беспечно,
Как зеркала, как зеркала,
И нас не к ним, конечно,
Любовь вела, любовь вела.
Так пусть дойдет до цели
Любой простак, любой простак.
И все, о чем мы пели,
Да будет так! Да будет так!
Любой бокал наполни, друг,
И пей до дна, и пей до дна.
Люби, кого полюбишь, друг, —
Любовь одна, любовь одна.
Запомни: здесь лучшие пали перевод Г. Русакова
Запомни: здесь лучшие пали.
Здесь поле их вечного сна.
И с ними в могильном отвале
Надежда их погребена.
Прорваться бы к ним через годы
И к жизни из тлена вернуть!
И сладостный ветер свободы
Опять перед боем вдохнуть…
О, если б судьба нам судила —
В той битве оковы сорвать!
Клянусь — и небесная сила
Нас вновь не могла б заковать!
Воспет победитель неправый
Всей ложью преданий и книг.
Но нету бесславнее славы,
Оплаченной рабством других!
Уж лучше тюрьма да могила,
Где прах патриотов почил,
Чем почести, слава и сила —
Ценою бессчетных могил!
Жизнь бранят перевод А. Ревича
Жизнь бранят, но, привязанный к этому свету,
С дня рожденья встречаю добро наяву,
Может быть, мне покажут счастливей планету,
А пока я на этой еще поживу.
И пока предо мной твои нежные взоры,
Без которых не жить мне минуты одной,
Пусть другие о звездах ведут разговоры,
Друг мой, нашей планеты нам хватит с тобой.
Взять Меркурий — там в ярком потоке мгновений
Бьют лучи, светоч разума бьет, как струя.
Там и нимфы милей и певцы вдохновенней,
Но из них ни один так не любит, как я.
И покуда любовно звучит моя лира
И ее пробуждает твой взор неземной,
Пусть болтают о рае нездешнего мира,
Друг мой, нашей планеты нам хватит с тобой.
На Вечерней звезде, под которой в безлюдье
Мы гуляли не раз до густой темноты,
Есть, возможно, прелестницы с нежною грудью,
И они в полумраке прекрасны, как ты.
Будь прекрасней они и самой королевы,
Той, чей остров плывет в вышине голубой[89],
Ни к чему мне все эти небесные девы,
Друг мой, нашей планеты нам хватит с тобой.
А для дальних окраин, где мерзнут светила,
Где лучи и улыбки бледнее, чем лед,
Душ холодных немало земля накопила
И охотно на эти планеты пошлет.
Мы бы зажили в солнечном мире недурно,
Если все ненавистники жизни земной
Вознеслись бы к безрадостным кольцам Сатурна
И оставили землю, мой друг, нам с тобой.
Где вы, мечи минувших лет? перевод Г. Усовой
Где вы, мечи минувших лет?
Носили их титаны,
И перед блеском их побед
Склонялись все тираны.
Тогда не знали жалких слов,
Не знали люди лести,
Что превращает их в рабов,
Навек лишая чести.
Где вы, мечи минувших лет?
Носили их титаны,
И перед блеском их побед
Склонялись все тираны.
Где короли былых времен,
Которых все любили?
На верности держался трон,
А не на гнусной силе.
Там честным, любящим сердцам
Всегда была свобода,
Предателям и подлецам
Там не давали ходу.
Где короли былых времен,
Которых все любили?
На верности держался трон,
А не на гнусной силе.
Святой Сенан и женщина[90] перевод С. Таска
Св. Сенан
— Вернись, о дерзкий шлюп, домой,
Пока священный остров мой
Лежит во тьме. Ясна уловка —
Там женская головка!
Покуда жив, на этот брег
Не ступит женщина вовек.
Женщина
— Не отсылай мой шлюп, отец!
Начнется шторм — и мне конец.
Я жажду, чтоб мы вместе, отче,
Молились днем и ночью.
Не оскверню я, видит Бог,
Святой песок, священный мох.
Мольбу ее отверг Сенан,
И шлюп ушел в морской туман.
А дева — прочитал я где-то —
Осталась ждать рассвета
И благочестием своим
Жизнь оправдала со святым.
Не следи за часами перевод Г. Усовой
Не следи за часами — пускай свой клад
Делит Время, как желает.
Минуты, что золотом звенят,
Лишь Радость нам ссужает.
Когда б счет секунд добавлял наслажденья,
Я б вечно считал их — без спора.
Но, как ласки любовные, эти мгновенья
Летят легкомысленно скоро.
Так наполни же чашу — пусть новый круг
Мерит Время ежечасно,—
Часы волшебные, наш досуг,
Лишь Радости подвластны.
Радость минутам счет не ведет,
Пока Забота тенью
По циферблату не скользнет
В знак предостереженья.
Но Радость любуется солнечным светом,
Не видя в цветах циферблата:
Пускай Забота скорбит об этом
И ждет тревожно заката.
Так наполни же чашу — пусть новый круг
Мерит Время ежечасно,—
Часы волшебные, наш досуг,
Лишь Радости подвластны.
Лети, корабль[91] перевод А. Ибрагимова
Лети, корабль, вперед лети,
Вверяясь ветреной надежде.
Куда бы ни вели пути,
Не знать нам горше мук, чем прежде.
Рокочут пенные валы:
«Пусть смерть — в пучине нашей зыбкой,
Не так бездушны мы и злы,
Как те, кто лгал тебе с улыбкой».
Вперед, корабль, сквозь свет, сквозь тьму
Лети — ни мига промедленья!
Что грозный ураган тому,
Кто испытал хулу, глумленья?
Быть может, в утреннюю рань
Ты встретишь берег безымянный,
Тогда прерви свой бег, пристань.
Наш дом — лишь там, где нет обмана.
Сходство[92] перевод З. Морозкиной
Да, ты злосчастная из дочерей Сиона,
Всю чашу бедствия испившая до дна,
В стыде и горечи души опустошенной
Ты нас признать детьми, наверное, должна.
Моя страна, как ты, повержена, разбита.
Венец с ее главы упал в недобрый час.
Ее отчаянье ни от кого не скрыто.
«Еще не кончен день, а солнца свет угас»[93].
Как ты, изгнанница мечтает о возврате.
Вдали от родины жизнь или смерть равны.
Твоим подобные, рыдая об утрате,
Не могут прежний блеск забыть ее сыны.
Как ты, она сказать «Покинута!» могла бы[94].
Погибли храбрые, цепь гордые влачат.
И голоса певцов, и струны арф их слабы
И ветра заунывнее звучат.
И все же у тебя еще осталось мщенье.
Сквозь тьму увидишь ты, что новый день возник,
И скипетр, что тебе принес порабощенье,
Вдруг переломится, как высохший тростник,
И чашу горестей, что гордая столица
Готовила другим, испить придется ей,
И, ею попранный, весь мир возвеселится[95],
Вняв стон в ее стенах и вопли с кораблей.
И над спесивыми небес проклятье грянет,
Над произволом их, над алчностью купцов,
И, разоренная, червей добычей станет[96],
Во прах повержена, столица городов[97].
Вот эта чаша! перевод Г. Кружкова
Вот эта чаша! Пейте со мной,—
Смертную думу развеет веселье;
Вспомним Елену с чашей хмельной,
Залпом осушим дивное зелье!
Хочешь о миро мрачном забыть —
Только пригубь этой влаги целебной,
Хочешь к бессмертным богам воспарить —
Выпей до капли напиток волшебный!
Чашу — по кругу! Пейте со мной, —
Смертную думу развеет веселье;
Вспомним Елену с чашей хмельной,
Залпом осушим дивное зелье!
Чары могучие в этом вине;
Поздней осенней порой урожая
В добром тепле, в золотой тишине
Вызрела сила его колдовская.
Светом своих благодатнейших дней
Щедро Природа его напоила,
Чтобы кипящей струею своей
Влага заветная вас оживила.
Пейте, друзья! Пейте со мной! —
Смертную думу разгонит веселье;
Вспомним Елену с чашей хмельной,
Залпом осушим дивное зелье!
Может быть, даже — у ведьмы в котле,
Самою темною полночью года,
В час, когда ветер свистит по земле,
Варится средство такого же рода!
Горечь в нем? — Горечь испьем до конца, —
Значит, года отгорели недаром.
Знаю я: есть в этом мире сердца,
Столь же богатые светом и жаром.
Вот эта чаша! Пейте со мной,—
Смертную думу развеет веселье!
Вспомним Елену с чашей хмельной,
Залпом осушим дивное зелье!
Колдунья перевод В. Топорова
Ночною порою ко мне приходи,
Как все, что ко мне приходили;
Я знаю, что будет с тобой впереди,
Созвездья мне это открыли.
Но только о том, что скажу я, молчи —
Иначе слукавят светила,—
Меж мной, и тобою, и небом в ночи
Лишь тайны живительна сила.
А если луна не уйдет в облака,
Я вызову призрак из бездны
Заклятьем, рожденным в седые века, —
То твой воздыхатель любезный.
Будь с ним непременно нежна и мила,
И сам он не будет жестоким,
Чтоб ты его, бедная, спутать могла
С живым во плоти, но далеким.
Он, робко вздыхая, при свете луны
Падет пред тобой на колена,—
Мечтала ли ты, что настолько нежны
Скитальцы по темной вселенной?
А если не сбудется то, что прочла
Я в Книге Судеб величавой,—
Созвездья и очи слиявшая мгла
Да будет покойной державой!
Мертвецы!..[98] перевод В. Топорова
Мертвецы!.. мертвецы!.. вас нельзя не распознать
По очам, горящим хладом, — хоть восстали вы опять —
Почему? Почему? —
Из могил в ночную тьму,
Из могил, где рыщут черви, словно черные жнецы.
Почему вы снова — с теми,
Чьей потери тяжко бремя,
Кто с любимыми в разлуке — сами словно мертвецы?
Не таим!.. не таим!.. мы печальны и темны!
Не таим!.. не таим!.. Мы мертвы и холодны!
Но как раз мертвецов
Тянет, манит внятный зов
Тех цветов, что на поляне расцветают майским днем.
И тогда — на миг, на век ли —
Мы, забыв о мрачной Гекле,
Бродим, смотрим, и вдыхаем, и мечтаем, что живем!
Возлюбленная О’Донохью[99] перевод Г. Усовой
Все месяцы года, один за другим,
Проносятся в пляске под небом седым.
Светлый май, светлый май всех приятнее мне.
Над озером ранние встанут лучи,—
И тот, кто лежал, погребенный в ночи,
Милый друг, милый друг возвратится ко мне.
Все гладкие воды прозрачных озер
Хранят в себе солнца улыбку и взор.
Всех милей, всех милей это озеро мне.
Как только апрель потихоньку угас,
Наяды коня оседлают тотчас,
Для того, для того, кто лежит там, на дне.
Все гордые кони носили в седле
Лихих седоков по воде и земле.
Белый конь, белый конь всех стройнее в стране,
Копыта всех звонче и поступь легка,
Весною опять он несет седока:
Милый друг, милый друг снова скачет ко мне.
Все легкие лодки над синей водой
По белому парусу взяли с собой.
Легкий конь, легкий конь, гриву ты по волне[100]
Развеял, как парус, — и плаваешь ты.
Озерные духи кидают цветы[101]
Туда, где любимый мой мчится ко мне.
Все юные девы, чей жребий суров,
Чей милый в волнах отыскал хладный кров,
Смерть зовут, смерть зовут для себя по весне.
Как только придет мая нежного свет,—
Тебе и коню твоему кинусь вслед…
Милый мой, милый мой, смерть придет и ко мне.
Как нежно Эхо повторяет… перевод И. Копостинской
Как нежно Эхо повторяет
Зов музыки ночной,
Когда рожку иль арфе отвечает,
И словно отблеск исчезает,
Озерной полнясь тишиной.
Но эхо, что любви признанья
Дарит в ответ,
Милей, чем в звездном мирозданье
Рожку иль арфе в подражанье
Прозрачный отголосок вслед.
Так вздох, исторгнутый душою,
Того, кто юн,
Услышан был душой родною,
Чей вздох ответный над землею
Нежней, чем отзвук струн.
В чаду пиров не ищи забвенья[102] перевод О. Волгиной
В чаду пиров не ищи забвенья:
Сойди в мой чахлый осенний сад, —
Здесь ощутишь ты прикосновенье
Бессильной старости и утрат.
И пусть печальную тризну нашу
Почтут товарищи прошлых лет;
И не одну мы наполним чашу
За тех, кого уже с нами нет.
И пусть ветвей одинокий шорох
На этом скорбном пиру теней
Напомнит нам о былых раздорах,
О пылких клятвах минувших дней.
И, словно лавр посреди кладбища,
Бесславья горечь испив до дна,
Мы вновь застынем у пепелища,
Где доблесть наша погребена!
Тебе, тебе одной перевод Р. Дубровкина
И днем, и полночью угрюмой
Я одержим все той же думой
Лишь о тебе, тебе одной.
За кубком пенистым, когда
Повсюду дружеские лица, —
Веселью светлому чужда,
Во тьме душа моя томится
Лишь по тебе, тебе одной.
И мысль всегдашняя о славе
Оставлена — мечтать я вправе
Лишь о тебе, тебе одной.
Как берег за бортом ладьи,
Бегущей вдаль неутомимо, —
Мелькнув, уходят дни мои,
К ним равнодушный, мчусь я мимо
Лишь за тобой, тобой одной.
В признаньях я ищу отраду
И боль приемлю как награду
Лишь от тебя, тебя одной.
Без заклинанья кто из нас
Заговоренного разбудит! —
Так сердце, знавшее не раз
Печаль и гнев, разбито будет
Тобою лишь, тобой одной.
Что же, арфе умолкнуть?[103] перевод С. Таска
Что же, арфе умолкнуть отныне навеки,
Коль земной его путь до конца отмерен?
Мне ли молча скорбеть о таком человеке,
О последнем твоем патриоте, о Эрин?
Лебединая песня его отзвучала,
Как душа, его музыка отлетела,
Но последний аккорд мы подхватим сначала,
До конца доведем его кровное дело!
Этот лик, как в скале, в нашей памяти врублен,
Ему равного не было, да и нету.
Эпицентром всех бурь стал при нем Дублин,
А волны захлестывали планету.
Не сыскать в мире нации многострадальней,
Но в анналах истории будет страница,
Что заполнена им, и свет ее дальний
Ни с чем, даже с молнией, не сравнится;
Одно лишь мгновенье, короткая вспышка —
И вмиг рассеялся мрак столетий.
О долгожданная передышка!
В лицо Свободу увидеть при свете!
Так и он зажигал своим красноречием,
Ведь этот источник из Эрин питался,
Он собой напоил бы любого быстрей, чем
Тот жажду свою утолить попытался.
Красноречья поток разбегался на тыщи
Ручейков и ручьев, как перо по бумаге,
И не знали мы влаги прозрачней и чище,
И не знали мы драгоценнее влаги.
Не часто ему выпадало время
Неспешно пройтись по аллее старинной,
И склонялись дубы к нему ветками всеми,
Сплетая венки для него, гражданина.
Те, кому посчастливилось знать этот гений
В минуты скорби его и величья,
Не разменявший и в годы гонений
Свое лицо на чужие обличья,
Те, кто мерил себя его жизнью святою,
Кто вовек не забудет дней его славных,
Застыли сейчас над могильной плитою:
Он был и останется первым средь равных!
Нет зрелища краше перевод В. Топорова
Нет зрелища краше,
Чем воинство наше:
Герои стоят,
Сверкает булат,
И вьются плюмажи.
Бойцы в нетерпенье,
И, как в исступленье,
Фанфары поют.
Погибнуть в бою,
Но не в отступленье!
Нет зрелища краше,
Чем воинство наше:
Герои стоят,
Сверкает булат,
И вьются плюмажи.
Рассвет над холмами…
Не только мечами —
Мы духом сильны.
Свободу должны
Добыть себе сами!
Нам роскошь презренна.
Хотим неизменно
Свободы одной.
Какою ценой?
Свобода бесценна!
Нет зрелища краше,
Чем воинство наше:
Свободу свою
Добудем в бою…
И вьются плюмажи…
Иннисфоллен[104] перевод И. Копостинской
О Иннисфоллен, остров мой,
Прощай на долгие года,
Тебя, твой солнечный покой
Я буду воспевать всегда.
О Иннисфоллен, словно сон,
Останься в памяти моей,
Вечерним светом озарен,
Улыбкой солнечных лучей.
Я обречен среди сует
Скитаться вновь, печали полн,
Сменить твой незабвенный свет
На грубый торг житейских волн.
Сквозь жизни горький океан
Мне без тебя до смерти плыть,
Твой светлый кров был небом дан,
В мечтах твой образ будет жить.
И хорошо, что плачет даль
В прощальный час, и всюду мгла
Тебя скрывает, как вуаль
Черты прекрасного чела.
Был легок, как летний туман, этот сон[105] перевод Г. Усовой
Был легок, как летний туман, этот сон,
Поэту, как музыка, грезился он.
В грядущем бродила поэта душа,
Привольная жизнь там текла не спеша.
Могучие звуки неслись над водой —
Он пел их когда-то в честь Эрин родной,
Он пел о лишеньях и рабстве тогда —
Ту песню теперь отражала вода.
Вдоль горных вершин ввысь мелодия шла,
Помедлила чуть у гнездовья орла,—
Растаял в горах той мелодии звук,
Лишь эхо печально откликнулось вдруг.
Почудилось: вновь этот дивный аккорд
Возник в небесах, благороден и горд.
Душа той мелодии на небесах
Опять воспарила на мощных крылах.
Бард слушал, и всякий ему бы простил,
Что вдруг он бессмертье свое ощутил,
И в нем поднимался уверенный глас:
«Так славен же станешь в торжественный час
Ты это виденье в уме не храни,
Оно оживится в грядущие дни,
И вспомнит страна среди радостных дней
Тебя и мелодию песни твоей».
Давай-ка за спиной… перевод Г. Русакова
Давай-ка за спиной
Прочней крыла приладим,
Чтоб воздух островной
Нас нес по синей глади.
Ей-богу, Ариэль[106]
И тот не видел чуда
Пленительных земель,
Открывшихся отсюда:
В полях еще весна,
Но, судя по приметам,
До слез доведена
Единоборством с летом.
Утесы мирт облек,
Вот-вот уступы скроет:
Ни дать ни взять венок,
Венчающий героя.
Землей таких красот
Приманутая птица
Спускается с высот,
Глядит не наглядится.
Она с тобой самой
Своим влеченьем схожа:
И ты на голос мой
Сошла на землю тоже.
Озера спят вразброс,
Глубинный жемчуг пряча[107].
Гляди, алмаз пророс
От слез твоих горячих.
По шхерам от ветров
Спешат укрыться воды.
Заливы дарят кров
Искателям свободы.
Теперь, когда и ты
В твоем полете птичьем
Постигла с высоты
Родной земли величье,
Как, видя этот рай,
Не застонать от боли:
Благословенный край
Молчит в тисках неволи!
Спеши! У нас всего мгновенье перевод А. Преловского
Спеши! У нас всего мгновенье,
Наполни кубок круговой;
Час пробил, и без промедленья
Должны мы путь продолжить свой!
Уходит время: тем скорее
Ты должен радости ловить,
Ведь даже песнею Орфея
Секунды не остановить.
Так что ж! у нас всего мгновенье,
Наполни кубок круговой;
Час пробил, и без промедленья
Должны мы путь продолжить свой!
Взгляни на кубок, он пылает
Глубоким жаром юных сил,
Как будто Геба подставляет
Тебе уста, чтоб ты вкусил.
По постыдись и думать даже,
Что день в безделье проведешь,
Что жаркие уста и чаши
Ты, не пригубив, обойдешь.
Спеши! У нас всего мгновенье,
Наполни кубок круговой;
Час пробил, и без промедленья
Должны мы путь продолжить свой.
Ужель этот миг перевод С. Таска
Ужель этот миг не восполнит сторицей
Все долгие годы бесплодных скитаний?
Счастливые, непостаревшие лица,
Какие запомнились при расставанье.
Пусть иней, когда мы стоим у оконца,
Блеснет на висках, — что же делать, седеем!
Как Альпы в лучах заходящего солнца,
Мы снова, друзья, в этот миг молодеем.
И тени былого, желанные тени
Внезапно глаза увлажняют слезами,
Забытые образы, как в сновиденье,
Роятся вокруг и кружатся над нами.
Иное письмо, когда почерк невнятный,
Раскроется вдруг, поднесенное к свету:
Являют границы размытые пятна,
И видно так ясно любую примету.
Ладья нашей памяти нас увлекает
Туда, где раскинулись детства пейзажи,
И пусть среди волн то и дело мелькает
Опознанный контур давнишней пропажи,
Фантазия, эта прекрасная фея,
Уже берега вмиг осыпала мятой,
И, в этот обман не поверить не смея,
Мы жадно вдыхаем ее ароматы.
Недолог он, век наш. Мгновение ока,
И все, что нам дорого, прочь унесется,
И кто-то умрет, как и жил, одиноко,
Коль эхо на зов его не отзовется.
А значит, надеяться надо на чудо:
Что было началом, попыткой, зачатьем,
Потом повторится, продлится, покуда
Не станет бессмертной улыбкой, объятьем.
А здесь, пока живы, приветствовать будем
Любое, пускай мимолетное, счастье
И помнить, что лето красно многолюдьем,
А все расставанья приносит ненастье.
И полную чашу мы пустим по кругу,
Чтоб слезы и радость изведать с избытком,
И чувство извечного братства друг другу
Пускай передастся с волшебным напитком!
Фея гор перевод В. Топорова
Вдали от страхов и суеты
Жил юный отрок, не зная беды.
Но свет затмился с тех самых пор,
Как ему привиделась Фея Гор.
Когда однажды при свете Луны
Он берегом шел, обходя валуны,
Пред ним на песке проступил узор —
Следы заколдованной Феи Гор!
Когда он лежал, склонясь над водой,
Пронизанной солнцем и золотой,
Его ожег нестерпимый взор —
Он увидел в том зеркале Фею Гор.
Он обернулся, скрывая испуг.
Но дух ускользнул! — и нежнейший звук,
Как птичья трель, огласил простор —
Так пела волшебная Фея Гор.
Однажды, превозмогая бред,
Он, встав в ночи, набросал портрет.
Вгляделся, узнал и тотчас же стер
Черты несравненные Феи Гор.
«О ты, влюбленный во тьму нелюдим! —
Раздался голос, не слышанный им. —
Оглянись и гляди!» — Был горяч и скор
Поцелуй очарованной Феи Гор.
«Все духи земли и глуби морской,—
Он прошептал, — не сравнятся с тобой!
Навещай и впредь сей ветхий шатер,
Неземная, любимая Фея Гор!»
Ирландия побеждена[108] перевод О. Волгиной
Ирландия побеждена,
И плач стоит над Бойном,
Но прежних стрел река полна,
И нет исхода войнам.
«Когда придет конец вражде?
Я хоронить устала!» —
Так плачет Родина в беде,
Но стрелам крови мало.
Рыданья тщетны над рекой —
Ведь Время слез не знает:
И вновь под вражеской рукой
Волна шипит и тает:
И оперенье смертных жал
На древках почерневших,
И только Недруг ликовал
Средь лиц окаменевших.
О, сколько в горьких реках слез,
Над злом не властны волны
И ветер стрелы не унес,
И Недруг сил исполнен.
«Конец, о господи, пошли!» —
Кто этот плач забудет?
Но вечный голос там вдали
Кричит: «Конца не будет!»
Песня Десмонда[109] перевод М. Яснова
Полуночною мглою,
Точно валом морским,
Был я брошен судьбою
К светлым окнам твоим.
И когда, ослепленный,
Я шагнул за порог,
«Ты погиб!..» — непреклонный,
Прошептал мне мой Рок.
Я любовью щемящей,
Как тоскою, объят,
Но найдется ли слаще
И желаннее яд?
Эту чашу печали
Я бы выпил без мук,
Лишь бы нам ее дали
Выпить вместе, мой друг.
А того, кто в гордыне
Мне бесчестьем грозит,
Пусть постигнет отныне
И презренье, и стыд.
Ведь, рожденный во мраке,
Полон светом алмаз,
А цветок и в овраге
Расцветает для нас.
Родословное древо —
Твоя гордость, глупец.
Очи ясные девы —
Твоя гордость, мудрец.
Властелин просвещенный
Лишь от смертных рожден.
А Любовью рожденный
Ближе к небу, чем он.
Им сердце мое не понять… перевод И. Копостинской
Им сердце мое не понять, дорогая,
Коль верят, что в нем хоть пылинка земная
Тебя оскорбит, что, любуясь тобою,
Как юным цветком, окропленным росою,
Я мог бы, смеясь, словно солнечный луч,
Тебя иссушить, беспощаден и жгуч.
Нет… Свет, что твои озаряет черты,—
Свет сердца, далекого от суеты,
А нежный румянец невинных ланит
О тихо расцветшей душе говорит,—
Так небо, своей красотой увлекая,
Все ж дорого светом небесного рая.
Хочу у озера брести[110] перевод М. Редькиной
Хочу у озера брести,
Где грешники свое «прости»
Сказали миру суеты
У смертной роковой черты.
Вдали от мира тяжких пут,
На озере найду приют.
Хоть там мне суждено страдать,
Надежда не предаст опять.
Пустое небо, скорбный плеск
Озерных вод, их темный блеск
И лист, дрожащий надо мной,
Как дух, отринувший покой, —
Да, это душу отлучит
От обольщений и обид,
К могиле помыслы склонив
Печальные, как ветви ив.
Когда душа утомлена,
Мы гасим свет у ложа сна.
Надежды, что тревожат грудь,
Мы гасим, чтоб навек уснуть.
Пускай же сердце никогда
Не тронет радость иль беда,
И, как в потоке ледяном,
Пусть жизнь окаменеет в нем!
Ты пела о любви перевод М. Бородицкой
Ты пела. Вечер чуть дыша
Бросал на струны отблеск алый,
И лиры чуткая душа
В лучах заката трепетала.
Касался луч твоей щеки,
Ласкал уста, что тихо пели,
Как алой розы лепестки,
Когда бы розы петь умели.
Но с приближеньем темноты
Лучи заката отгорели…
Казалось мне: твои черты,
Как этот вечер, потускнели.
Из глаз, как будто догорев,
Свет жизни тихо изливался,
И только призрачный напев
Из уст поблекших раздавался.
Кто знал любовь, тот, верно, знал
Разлуки вечное проклятье.
К тебе я в страхе подбежал
И заключил тебя в объятья.
И я воскликнул: «О любовь!
Весны сиянье благодатной!
Неужто ты померкнешь вновь
И догоришь, как луч закатный?!»
Пой — пой — нас песнь закружила перевод С. Таска
Пока Красота — нет ее прелестней —
Юнцов обвораживает на балу,
Шутник Купидон, напевая песню,
Вонзает ей в сердце свою стрелу.
Пой — пой — нас песнь закружила,
Чтобы страсть распалить и разжечь веселье,
Все — от жучка до дневного светила —
Захвачено музыкой карусели.
Когда Венера качала крошку,
Она не будила его, любя.
Шептала: «Тсс! Подождем немножко,
Разбудит он песней сам себя».
Так пой — пой — нас песнь закружила,
Чтобы страсть распалить и разжечь веселье,
Все — от жучка до дневного светила —
Захвачено музыкой карусели.
Малыш во сне замурлыкал что-то,
И, собственной песней заворожен,
Вдруг улыбнулся он сквозь дремоту,
И вправду глаза открыл Купидон!
Так пой — пой — нас песнь закружила,
Чтобы страсть распалить и разжечь веселье,
Все — от жучка до дневного светила —
Захвачено музыкой карусели.
Хоть скуден обед… перевод В. Васильева
Хоть скуден обед, на который готов тебя
Позвать я, лишенный богатства пиит,
Однако в укромном жилище Любовь тебя
Надежной и щедрой рукой одарит.
Пусть даже родится в тебе ощущение,
Что ныне Фортуна презрела певца,
Ты дар в нем найдешь всех даров драгоценнее,
Которым возносятся наши сердца,—
Он мыслит свободно, и перед невеждою
Покорнейше спину не станет он гнуть;
Он ввысь, легкокрылый, со светлой надеждою
И с чистою совестью держит свой путь;
Он честь не порочит, он чувствует радость в ней,
В душе его высшие ценности есть,
И ветер в саду ему кажется благостней,
Чем великолепьем взращенная лесть.
Прими приглашенье! Добавить спешу еще,
Что, кроме хозяина, в доме его
Улыбкой приветливой, речью волнующей
Премилое встретит тебя существо.
Пой, арфа сладостная, пой! перевод В. Васильева
Пой, арфа сладостная, пой!
Ты в памяти моей
Зажглась утраченной мечтой
Давно минувших дней.
Во имя чести прозвучи,
Ее сменил позор.
Угасла слава, чьи лучи
Слепили прежде взор.
Пой, арфа, путь окончен, пой
Мне песню прежних дней.
Всё в прошлом. Мы живем с тобой
Лишь в памяти моей.
Не молкнет твой тоскливый зов,
Дрожащий в хладном воздухе.
Ты ждешь: далеких голосов
Не прозвучат ли отзвуки.
Но безымянно барды спят,
Когда-то столь блиставшие,
Вожди в сырой земле лежат,
Забыто их бесстрашие.
О арфа, тщетным будет зов,
Дрожащий в хладном воздухе:
Отныне смолкших голосов
Не раздадутся отзвуки.
Когда бы предки из могил
Могли попасть в тот зал,
Где твой напев им дорог был,
Сердца им волновал,
Как застенал бы духов рой,
Увидя в рабстве нас!
Хоть их, свободных под землей,
Пусть не томит наш глас!
Рыданья, арфа, прекрати
О вольности святой
Иль дай в могилу мне сойти
Под звон печальный твой!
Песня накануне битвы (Время — девятый век) перевод А. Преловского
Мы завтра, друг, пойдем с тобой
На поле битвы, в смертный бой,
Где победим врага или умрем!
Звезда рассвета зажжена,—
Еще один глоток вина,
Еще глоток, и мы идем, идем, мой друг, идем,
Еще глоток, идем.
И на суровые глаза
Порою набежит слеза,
Когда друзей припомним мы своих;
Не плачь о том, кто не придет…
Бокал, смотри-ка, слезы льет!
Давай, не пряча слез своих, мой друг, смешаем их,
Давай смешаем их.
Вот и дневной крадется час —
Последний, кто увидит нас
В кругу детей, где смехом полон дом.
А завтра — боже сохрани! —
Где будем мы и где они?!
Но все равно, бери свой меч, и мы идем, идем,
Бери свой меч, идем!
Пусть те, кто страхом обуян,
Под властью саксов и датчан
Судьбу влачат сегодня, как вчера.
На дом родимый посмотри,
Молитву сердцем сотвори —
И в бой за дело Эрин смело, в бой, ура! ура!
За Эрин в бой, ура!
Странствующий бард перевод М. Бородицкой
О, сколь блаженна жизнь певца!
Его скитанья без конца —
Как певчей птицы перелет,
Что музыку в себе несет,
Как горных вод немолчный ток,
Как вольный ветерок.
Ему весь мир — лужок лесной,
Где эльфы пляшут под луной;
Увянут травы — стайка фей
Спешит к другим, что зеленей;
Так и певец: чуть мир пред ним
Поблек — летит к иным.
Не бард ли сбережет для нас
Угасший свет прекрасных глаз?
Луна, как сказки говорят,
Копилка всех земных утрат;
Так в песнях живы и слышны
Все чары старины.
Не бард ли воскресит для нас
Минувшего блаженства час?
Взмах чародейского жезла —
И радость прежняя взошла
На небо музы, как звезда,
Чтоб нам светить всегда.
Да встретят странника-певца
Гостеприимные сердца,
Куда б его ни занесло
Чудесной выдумки крыло,—
И барды в радости земной
Нуждаются порой.
Издалека и свысока
На зов земного маяка —
На добрый свет веселых глаз —
С небес он спустится тотчас,
Когда его любви магнит
Притянет и пленит.
В толпе скитаюсь, одинок перевод А. Голембы
В толпе скитаюсь, одинок:
За что меня карает рок?
Зачем безвременно угас
Свет этих милых женских глаз?
Так, рок ужасный сокрушил
Все, что любил я, чем я жил, —
Впивал я нежности слова,
Теперь моя любовь мертва!
Прелестниц много есть вокруг,
Чужих услад, чужих подруг,
Но и тебя они дарят,
Им по душе твой робкий взгляд.
Ах, где же ясное чело?
Где голос милый? Все прошло
Бесследно — иль утрачен след?
Молчанье — жалобам в ответ!
Зачем души немая речь
Не в силах прошлого сберечь?
Зачем исчез, зачем угас
Зной милых губ, свет милых глаз?
Нет, навсегда остыла грудь,
Услад блаженных не вернуть, —
Блаженство кануло давно,
Очам воскреснуть не дано!
Хочу открыть тебе секрет перевод О. Татариновой
Хочу открыть тебе секрет — но не теперь,
Когда вокруг весь мир земной шумит;
Я буду ждать, а ты мне слух доверь
На берегах, где дух покоя спит.
Где затихает плеск морской волны,
Где даже феям не расслышать звук полной,
Где соловей, вздохнув средь тишины,
От розы слышит: «Тише, дорогой!»
Тогда, в тот поздний час, покой таков,
Что слышно звезды в океанской глубине,
И ты сама в тиши среди лугов
Безмолвно перст к губам приложишь мне,
Подобно богу вещей немоты,
Что лотосом рожден в цветочной нише,
Когда, качаясь на волнах средь темноты,
Земле и небесам поет он: «Тише!»
Песнь об Иннисфейле перевод Д. Сильвестрова
Быстрей за кормой бежит волна,
Закатный морской простор
Влечет паруса, и не видна
Испания с коих пор!
«О, где ж этот остров?[111] В наших снах
Надежда и смерть слились».
Так пели они, и вдаль в лучах,
За солнцем, ладьи неслись.
Но вот изумрудом вспыхнул вдруг
Седой горизонт вдали,
Где как бы всплывал зеленый луг
Из недр на краю земли.
«О Иннисфейл, это, верно, он!» —
Вознесся клич в небеса.
И эхо росло со всех сторон,
И ветер бил в паруса.
Пылал над волнáми божий зрак,
С небес изливая свет,
И луч за лучом давал им знак,
И волны горели вслед.
И не предвещали им тревог
Ни слезы листвы, ни тень,
Когда их Остров Судьбы[112] у ног
Простерся в тот первый день.
Ночной танец перевод Э. Шустера
Ударим по струнам! Луна поднялась,
И, верные ей, как приливы морские,
Призыву и ласке ее подчинись,
В движенье приходят сердца молодые.
И вот первый звук — он легко воспаряет
Туда, где ночное светило блистает.
Опять и опять!
О, если б раздался волшебный мотив
Здесь, в Городе Статуй, мечте фантазеров,
Ведь камень, взволнован, воспрял бы, ожив,
И статуи стали б толпою танцоров.
Зачем же нам медлить под звуки спи,
Когда Красота нас в свой сад допустила,
И звезды забыли петь сферы свои —
Так наша их песня с земли восхитила?
Опять! — Без томленья не внять этим звукам,
Сулящим замедлить наш бег к смертным мукам, —
Опять и опять!
О, радость — на танец смотреть молодых,
Когда, словно Время — под музыку Мая,
Танцуют они, будто крылья у них,
Свет солнца в ткань песни волшебной вплетая.
Повсюду — смех, повсюду — пенье перевод Г. Кружкова
Повсюду — смех, повсюду — пенье,
Огнями ночь озарена,
И голоса, как наважденье,
Зовут из каждого окна.
Ах, как легко в былыелота
Душа летела в сладкий плен,
Не слыша мудрости совета,
На эти голоса сирен!
Звенят серебряные ноты,
И ночь сияет ярче дня…
Но нет, в душистые тенета
Вам, нимфы, не завлечь меня!
Ужель, не покорясь тиранам
И гнету вспыльчивой судьбы,
Поэт помчится за обманом,
Отдастся прелести в рабы?
Так пел поэт, певец мятежный,
Но нимфы, в круг объединясь,
Лукавых взоров цепью нежной
Его опутали, смеясь.
Ведь бард подобен от рожденья
Обломку тех друидских скал,
Что, не сдаваясь принужденью,
Прикосновенью уступал!
О Арранмор, мой Арранмор! перевод Ю. Петрова
О Арранмор, мой Арранмор,
Не раз на склоне дней
К тебе я обращал мой взор
И к юности моей.
Познал я множество дорог
В густых садах услад,
Но счастлив быть я так не мог,
Как много лет назад.
Тогда стоял на скалах я
В потоках ветровых,
И сердце билось, как ладья
На гребнях волн твоих;
Иль в час, когда небесный край
Был солнцем озарен,
Искал певцов ирландских Рай[113] —
Мечту былых времен.
Тот Рай, где живы храбрецы,
Герои старины,
Чьи над волной твоей дворцы
В закатный час видны…
Ах, истине в лицо взгляни:
Те замки над водой
Светлы, пусты — они сродни
Надежде молодой!
Пусть его похоронят с булатным мечом[114] перевод М. Бородицкой
Пусть его похоронят с булатным мечом,
Что упал возле мертвой руки
И, недвижный, указывал острым концом
Вдаль, где вражьи бежали полки.
Неразлучные в жизни, отныне вдвоем
Пусть вкушают загробный покой:
Верный меч с непогнувшимся острым клинком
И несломленный смертью герой.
Но почудилось мне, будто вдруг зазвучал
Внятный шепот в тиши гробовой,
Тот же глас, что когда-то рабов поднимал
Кличем яростным: «Цепи долой!»
Он промолвил: «Могила вождя глубока,
Вечным сном суждено ему спать,
Но победную мощь боевого клинка
Не спешите, друзья, закопать!
Славный меч мой! Когда на твою рукоять
Недостойная ляжет рука,—
Оставайся в ножнах, чтоб не мог отстоять
Ты в неправом бою чужака.
Но как только почувствуешь руку бойца,
Что достоин сражаться тобой,—
Прочь из пожен скорей! С ним иди до конца
За свободу отечества — в бой!»
Не прополоть ли нам с тобой… перевод М. Бородицкой
Не прополоть ли нам с тобой
Весь мир, как палисадник твой?
Колючки, сорняки — долой,
Одни цветы растить!
Ах, это будет сущий рай,
Живи себе, не унывай!
И даже ангелы в наш край
Слетятся погостить.
Как светоносные жуки,
Летающие светлячки,
Свои живые огоньки
Зажгут, когда хотят,—
Так будет жить в сердцах у нас
Лучистой музыки запас,
Придет охота — и тотчас
Мелодии взлетят!
Как неразлучны тень и свет,
Так счастья без тревоги нет;
У нас же — ни теней, ни бед
Не будет, милый друг!
Одна лишь озорная тень,
Которой танцевать не лень
На солнцепеке в ясный день,
Чаруя все вокруг…
За чашей[115] перевод Д, Сильвестрова
Бойцы коротают за чашею дни,
Но чтó им хмельные утехи!
Средь Алмхинских стен[116] томятся они,
И праздно висят их доспехи.
Но чу! У ворот
Страж тревогу бьет:
«К оружью! Датчане здесь будут вмиг!»
Вождь сзывает бойцов,
И со всех концов
«К бою! К бою!» — несется фениев крик[117].
Что золото, арфа в руках певца!
Отвагою песнопенья
Певец выхватывает сердца
Из сладостного забвенья.
Меч пронзает щит,
И копье звенит,
Стяг лучистый реет поверх голов.
Нет! Рабов удел
Не для тех, кто смел,
И «Свобода! Свобода!» — фениев зов.
Норманны, как тучи ненастным днем,
Алмхинскою шли долиной,
Но Эрин стяг вдруг взвился огнем
Пред самою их лавиной.
У прибрежных скал
Так дробится вал,—
Смерть спешила врагов настичь.
И, в предсмертной мгле
Их клоня к земле,
Плыл «Победа! Победа!» — фениев клич.
От дымки тех дней перевод С. Таска
От дымки тех дней давно уж нет
и следа,
Успех твой стер все, чем ты пленяла
тогда,
На цепи твои Надежда свет свой
лила,
К Свободе придя, ты все спалила
дотла.
Ужель так остры былого рабства
зубцы,
Что и без цепей видны на теле
рубцы,
И плод тех свобод, к которым дух рвался
твой,
Рассыпался в прах, едва вкушенный
тобой?
За Правдой стремясь вверх по ступеням
крутым,
Светилась тогда сияньем вся
золотым.
На куполе ты! О, святотатство
и срам!
Разбиться честней, чем осквернять
этот храм.
С той поры, как в знак признанья… перевод М. Редькиной
С той поры, как в знак признанья
Душу я вручил тебе,
Я и радость и страданье
Разделю в твоей судьбе.
Сильные тебя хранили,
Свет не смел тебя презреть.
Если ныне изменили,
Я ль тебя покину впредь?
Коль ты в огненном горниле,
В том огне и мне гореть.
Не беда, что волны моря
Брег приветный не сулят:
Свет во тьме забрезжит вскоре,
Жизнь надежды возродят.
Мне припомнилась былая
Слава на челе твоем.
Ты скорбишь, страна родная,
Изнываешь под ярмом,
Но воспрянешь вновь, блистая,
Полнясь светом и добром!
В наших пышных залах…[118] перевод Ю. Петрова
В наших пышных залах мрак и тишина.
Песни Сын! Ты путь прошел свой до конца,
И твоя вотще зовет тебя страна —
Ей в ответ не прозвучит напев певца.
С арфой вольного Эола сходен ты,
Что уснула в предзакатный светлый час,
Когда ветер, струны тронув с высоты,
Утомился, притаился и угас.
Но твой дух вершит волшебный свой полет,
Чудом музыки и слова пробужден,
Ибо имя, с песней слитое, живет
И чарует до скончания времен.
Даже храм хранит твой образ чистый весь,
Когда душу к небесам влечет хорал,
Ибо звонкий твой напев впервые здесь,
Отдаваясь гулким эхом, прозвучал.
Где тот день, что был так радостен и тих,
Где тот вечер, милый сердцу и уму,
Когда тот, кто пишет горький этот стих,
Робким пеньем вторил пенью твоему?
Но когда, как на тебя, и на меня
Смерть наложит нерушимую печать,
Каждый звук тех несен, нежностью маня,
Славой взысканный, всегда будет звучать.
Эрин, родина, отечество! Твоя
Эта слава — разделен с тобой венец;
Ты сияла барду в буднях бытия,
И у ног твоих теперь лежит певец.
Песнь прощальная его — Свободы дочь —
Вдохновенно устремилась в небосвод,
И сейчас, когда скрывает лиру ночь,
Пусть твой луч на струны лиры упадет.
Из «Мелодий разных народов»[119]
Вечерний звон[120] (Колокола Санкт-Петербурга) перевод И. Козлова
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.
Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!
Когда иссякнут шалые мечтанья (Португальская мелодия) перевод А. Спаль
Когда иссякнут шалые мечтанья,
Поющие сейчас в твоей груди;
Когда, коснувшись хлада мирозданья,
Оставишь дни веселья позади;
Когда друзья, которых предпочел ты
Тому, чьей мудрой властью был храним,
Умчат, как птицы мая, без заботы
И предадут тебя забвенью зим,—
О! Вот тогда твой друг, тобой забытый,
Придет тебя в час скорби утешать,
Тогда, бродяга, горестями сытый,
Ты припадешь к груди его опять.
Как птицы перелетные, мы знаем,—
Того, кто нас покинул летним днем,
Декабрь остудит ледяным дыханьем,
Но снова отогреет отчий дом.
Милой скажу наконец, прощай! (Сицилийская мелодия) перевод О. Волгиной
Милой скажу наконец, прощай!
Нежность угасла, и страсть не та;
Милая, ты хороша, но знай,
Погубит тебя красота.
Уста шептали святые слова,
Не в них ли обман звучал?
Притворство глаз, угадав едва,
Я верой своей венчал.
Но милой скажу наконец, прощай!
Нежность угасла, и страсть не та;
Милая, ты хороша, но знай,
Погубит тебя красота.
Ласковы очи, покоя полны,
Отблески звезд хранят;
Щеки обету любви верны,
Краской смущенья горят.
А сердце изменит, и снова поет,—
О как же умеет лгать!
Любовью дышит все тело твое,
Лишь в сердце нечем дышать.
Но милой скажу наконец, прощай!
Нежность угасла, и страсть не та;
Милая, ты хороша, но знай,
Погубит тебя красота.
Пока я в тишине (Шотландская мелодия) перевод Н. Тимофеевой
Пока я в тишине
Ночной не скован дремой,
Являет память мне
Свет прежних дней знакомый,
Давнишний зов
Любовных слов,
Улыбок, слез забытых,
Сиявших глаз,
Чей блеск погас,
Сердец, теперь разбитых.
Так, ночью, в тишине,
Пред наступленьем дремы,
Являет память мне
Свет прежних дней знакомый.
И, вспомнив о друзьях,
Рассеянных повсюду,
Я вижу только прах,
Увядших листьев груду.
Один, с трудом
Бреду в пустом
Когда-то пышном зале,
В густой тени
Чадят огни,
И все венки увяли.
Так, ночью, в тишине,
Пред наступленьем дремы,
Являет память мне
Свет прежних дней знакомый.
Любовь и Надежда (Швейцарская мелодия) перевод Г. Кружкова
Пригожим солнечным деньком
У моря как-то раз
Любовь с Надеждою вдвоем
Под благодатным ветерком
Гуляли в ранний час.
Но солнце обожгло песок,
И юная Любовь
С улыбкой прыгнула в челнок:
«Я ненадолго, на часок,
Я возвращуся вновь».
Но вот уж ночь невдалеке,
Надежда все ждала
И имя милое в тоске
Чертила пальцем на песке
И все Любовь звала.
Вот мчится парус, ветра полн,
Из темной синевы,
Богатства золоченый челн
Летит, горя, меж бурных волн,
Но не Любовь — увы!
И снова парус меж зыбей,
То Дружбы крепкий бот.
Приветен свет его огней,
Но у Любви — огонь нежней,
Когда же он блеснет?
Как быстро темноты покров
Одел прибрежный край!
Нет больше ярких парусов,
Блаженных юношеских снов, —
Любовь, навек прощай!
Когда мы встретились впервые (Кашмирская мелодия) перевод С. Таска
Когда мы встретились впервые,
Не отвести мне было глаз.
Черты любил я неземные,
Но душу… душу лишь сейчас.
Пору любовного Томленья
Сменила Зрелости пора:
Тогда все было откровенней,
Сегодня строже, чем вчера.
Тогда казалось все иначе,
Сгорал, казалось, я в огне.
Пусть стал я не такой горячий,
Зато я зоркий стал вдвойне.
Огонь, который был во взоре,
Сейчас горит в моей крови.
Любовь была когда-то море,
Но много ль солнца в той любви?
О, мир тебе, куда б ты ни склонилась![121] (Шотландская мелодия) перевод А. Бородина
О, мир тебе, куда б ты ни склонилась!
Будь жизнь твоя веселым, летним днем;
Все, что душе невинной полюбилось,
Иди с тобой безоблачным путем!
И если грусть души твоей коснется,
Пройди она дождем весенних дней!
Пусть для того лишь тучка пронесется,
Чтоб солнца блеск был ярче и сильней!
Уносит все безжалостное время,
Все радости один влечет поток,
Но для тебя легко годов будь бремя:
Не бойся их! Твой жив и свеж венок!
Меж темнотой и светом пролегает
Стезя земли: нет блеска ей вполне;
О, пусть судьба взор милый обращает
Всегда к одной, блестящей стороне!
Здравый ум и гений (Французская мелодия) перевод Г. Кружкова
Лаврами певца
Славного увейте,
Притчу до конца
Вы уразумейте.
Как-то перед сном
Здравый ум и Гений
Шли гулять вдвоем
Под луной осенней.
Лаврами певца и т. д.
Здравый ум шагал,
Здраво рассуждая,
Гений же блуждал,
На луну взирая.
Тот смотрел вперед,
На тропинку прямо,
Этот — в небосвод
Пялился упрямо.
Лаврами певца и т. д.
Но — ручей блеснул
Поперек дороги,
Здравый ум скакнул,
Не забрызгав ноги.
Ну а тот чудак
Вверх глядел — и с ходу,
Продолжая шаг,
Рухнул прямо в воду.
Лаврами певца и т. д.
Здравый ум до слез
Над юнцом смеялся —
Что, как мокрый пес,
Дрог и отряхался.
Ум ушел назад —
Спать; а Гений вскоре
Умер, говорят,
От простудной хвори.
Лаврами певца и т. д.
Услышь, молю, хотя б теперь (Французская мелодия) перевод О. Татариновой
Услышь, молю, хотя б теперь
Любви погубленной признанья —
Я сколько б ни считал потерь,
Все не вернуть очарованья.
О, кто бы знал в дни первых встреч
О краткой радости своей,
О том, что охладеет речь
И взгляд, сиявший столько дней!
Услышь, молю…
Мир вам, почившие братья![122] (Каталонская мелодия) перевод М. Михайлова
Мир вам, почившие братья!
Честно на поле сраженья легли вы;
Саваном был вам ваш бранный наряд.
Тихо несясь на кровавые нивы,
Вас только тучи слезами кропят.
Мир вам, почившие братья!
Смерть приняла вас в объятья.
Дуб, опаленный грозой, опушится
Новою зеленью с новой весной;
Вас же, сердца, переставшие биться,
Кто возвратит стороне вас родной?
Смерть приняла вас в объятья.
На победившем проклятье!
Вечная месть нам завещана вами.
Прежде чем робко изменим мы ей,
Ляжем холодными трупами сами
Здесь же, средь этих кровавых полей.
На победившем проклятье!
Сети и клетки[123] (Шведская мелодия) перевод В. Иванова
Садитесь, девушки, кружком
Послушать мой рассказ,
Рассказ веселый, но притом
В нем грусть видна подчас.
Мне скажет Мудрость, что бежит
Любовь цветистых слов;
Пусть так, но Правда говорит
На языке цветов.
Так сядьте, девушки, кружком
И слушайте рассказ,
Рассказ веселый, но притом
В нем грусть видна подчас.
Так ловко Хлоя Голубкам
Умела ставить сети,
Что Голубки, скажу я вам,
Шли стаей в сети эти.
А у Сюзанны нрав смирней,
Она не торопилась:
Закрывшись в комнатке своей,
Над клеткою трудилась.
Садитесь, девушки, и проч.
Исправно ловит птичек сеть,
А все ж удачи нет:
Их не успеешь разглядеть,
Как их простыл и след.
Непрочно сеть та сплетена
И держит еле-еле,
И вот все птички, как одна,
От Хлои улетели.
Садитесь, девушки, и проч.
А клетка диво как крепка,
И наконец словила
Сюзанна Чудо-Голубка
И дверцу притворила.
Запомните же мой совет,
Вы, милые кокетки:
Плесть сеть приятно — спору нет,
Но лучше делать клетки.
И пожелаю каждой жить
Спокойно и светло я,
Веселой, как Сюзанна, быть
И не грустить, как Хлоя.
Прощай, Тереза! (Венецианская мелодия) перевод А. А. Фета
Прощай, Тереза! Печальные тучи,
Что томным покровом луну облекли,
Еще помешают улыбке летучей,
Когда твой любовник уж будет вдали.
Как эти тучи, я долгою тенью
Мрачил твое сердце и жил без забот.
Сошлись мы — как верила ты наслажденью,
Как верила счастью, — о боже!.. И вот,
Теперь свободна ты, диво созданья,—
Скорее тяжелый свой сон разгоняй;
Смотри, и луны уж прошло обаянье,
И тучи минуют, — Тереза, прощай!
Здесь бард уснул (Шотландская мелодия) перевод С. Таска
Здесь бард уснул. Умел, как Аполлон,
Из сладкозвучной раковины он
Легко извлечь любые переливы —
То грозны вдруг, то снова шаловливы.
Теперь он спит. А шторм и легкий бриз
Над ним все так же огибают мыс:
Шторм — песнь твоя, исполненная гнева,
А бриз — твои любовные напевы.
О, не чаруй![124] перевод А. Курсинского
О, не чаруй! Любовь в груди моей
Ты не зажжешь на склоне дряхлых дней!
В осенний день вернешь ли ты
На потускневшие цветы
Всю прелесть их угасшей красоты?
Нет, не чаруй! Любовь в груди моей
Ты не зажжешь на склоне дряхлых дней.
Встреть я тебя в дни силы и страстей,
Наполнить жизнь я б мог красой твоей,
Но ты, как луч, отрады ноли,
Взошла над пеной бурных волн,
Когда уж вал разбил мой бедный челн.
Нет, не чаруй! Любовь в груди моей
Ты не зажжешь на склоне дряхлых дней.
Храните любовь перевод М. Бородицкой
Храните любовь, как нежнейший росток,
К которому холоден мир и жесток;
Согрейте его, дайте в силу войти —
Он будет весь век благодарно цвести.
Любовь берегите от дремы и сна,—
Застынет во сне и не встанет она!
Пусть лучше рыдает она по ночам:
Вскормленной слезами, ей слезы — бальзам…
Но пусть, когда Время своей пеленой
Затянет нам небо, как дождь обложной, —
Любовь проникает из мрака и туч,
Как будто последний, негаснущий луч!
Как мне тебя завоевать? перевод С. Таска
Заговорю как друг с тобой,
Холодным называешь,
Займу любовною игрой,
За дерзость упрекаешь.
Зачем меж этих двух огней
Мечусь я постоянно?
Я друг, коль так угодно ей,
А нет — любовник рьяный.
Так кем из двух себя назвать,
Чтобы тебя завоевать?
Любовь щебечет, словно чиж,
Едва на ветку села.
Почистит перышки…глядишь,
Уж нету, — улетела.
А Дружба ходит все пешком;
Коль двери распахнете,
Придет и посидит молчком,
Пока Любовь в отлете.
Какую же из двух призвать,
Чтобы тебя завоевать?
Когда ни первым, ни вторым
Тебе не сделать чести,
Из них мы третье сотворим,
Соединив их вместе.
Не оскорбим мы чувств земных
С тобою, безусловно,
Любви дав прочность дружб иных,
А Дружбе — пыл любовный.
Обеих надо бы призвать,
Чтобы тебя завоевать.
Баллады, песни[125]
Вечерний выстрел[126] перевод М. Ю. Лермонтова
Ты помнишь ли, как мы с тобою
Прощались позднею порою?
Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали…
Тогда лучи уж догорали,
И на море туман густел;
Удар с усилием промчался
И вдруг за бездною скончался.
Окончив труд дневных забот,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.
И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу, я томим тоской
И умереть желаю с ними…
Голос перевод С. Таска
Сквозь дрему услышала Голос она,
Забытой любви всколыхнулась волна;
К блаженству ее возвращая назад,
Зовет и зовет он сойти к нему в сад.
— Ах, — слышится вздох, — но ведь это обман!
Тех губ еще помню я сладкий дурман,—
Но холодны губы, и сон их глубок,
Возьми же голубку к себе, голубок!
Зарылась в подушку, но снова пред ней
Виденье возникло, стал Голос слышней.
Бедняжка к окну — погребальная тишь,
Лишь волны шумят и прибрежный камыш.
— Спаси меня, сон, от такого конца,
Спаси меня, сои, от него, мертвеца! —
Но только успела забыться на миг,
Как вздрогнула — вновь ее Голос настиг.
— Иду! — шепчет дева. — В раю ли, в аду,
Откуда б ни звал ты, к тебе я иду! —
Дрожащая, бледная, в лунную ноль
Скользнула, все страхи сумев превозмочь.
Все тихо окрест, так же плещет прибой,
И Голос все так же зовет за собой…
Куда она скрылась, открывши окно,
Навек, навсегда — нам узнать не дано.
Один часовой, что стоял на посту
У замка и в полночь спустился к мосту,
Потом говорил, что на быстром коне
Те два седока возносились к луне.
Геро и Леандр[127] перевод А. Спаль
«Гудит Геллеспонт под седым небосклоном,
Ни звездочки, ветер вздыхает со стоном,
В тумане луна не мелькнет,
Но все же, сияя во тьме совершенной,
Твой светоч, зажженный любовью блаженной,
К тебе, свет мой — Геро, ведет!»
Он так говорил, в пенный вал погружаясь,
Но все еще взором в тот лучик вперяясь,
Который погас, на беду;
И даже под шквалом, всех шквалов жесточе,
Шептал он: «Живой или мертвый, а к ночи
К тебе, свет мой — Геро, приду!»
Но мчат все свирепее дикие волны;
Любовь! В час беды чем глаза твои полны?
Ты слышишь предсмертный привет?
Он бьется, он тонет, и буря сурово
Срывает прощальное с губ его слово:
«О Геро, я гибну, мой свет!»
Старик и юнец перевод С. Таска
— Любовь… а что это? — Юнец
Спросить решился наконец.
— Игрива, словно солнца блик:
Пока гонялся — стал старик.
Страданья! Страданья!
Кто знал Любовь, тот к ним привык.
— И все же… какова Любовь? —
Юнец вопрос свой задал вновь.
— Любовь — беспечный ветерок,
Пронесся — и увял цветок.
Страданья! Страданья!
Вот что вас ждет, лишь минет срок.
Юнец опять ему вопрос:
— В ней счастья больше ведь, чем слез?
— Любовь мила, пока цветет,
Но помни — горек будет плод.
Страданья! Страданья!
Беги же прочь ее тенет…
Но тут Любовь, увы и ах,
Порхнула мимо, в двух шагах.
Юнец за нею припустил.
Старик кричал что было сил:
— Страданья! Страданья! —
Смешно! Того и след простыл.
Волшебное зеркало перевод М. Бородицкой
«В своем зерцале колдовском
Представь мне, славный чародей,
Мою любовь в саду густом,
Где я в тоске расстался с ней».
И видит рыцарь, как она
Грустит в беседке при луне.
Он счастлив: «Дева мне верна,
Она вздыхает обо мне!»
Но дверь открылась, и тотчас
В беседку юный паж вбежал.
«Вот милый мальчик, что не раз
Меня к любимой провожал».
Тут дева влажный от росы,
Нежнейший сорвала вьюнок.
«Всегда в рассветные часы
Ты посылала мне цветок!»
Она цветок дает пажу,
И взглядом просит: «Поскорей!»
«Бедняжка тешится, гляжу,
Игрою, будто милый с ней…»
Но паж уже спешит назад…
О, муки ада! Рядом с ним
Красавец рыцарь; он объят
Любовию… и он любим.
«Вот, — вскрикнул рыцарь, — как со мной
Играла та, кого любил!»
И рукавицею стальной
Зерцало в ярости разбил.
МоральКолдун бы зеркало сберег,
А юный рыцарь — свой покой,
Когда б никто узреть не мог,
Что смертным не дано судьбой.
Иначе это назови перевод Г. Кружкова
Иначе это назови:
Ведь Дружба — звук пустой,
А жадной нынешней Любви —
Подай алтарь златой!
А Страсть — как солнце жарким днем,
Лучи его палят,
Но, все дотла спалив огнем,
Уходят на закат.
Найди или придумай вновь
Название верней,
Чем Дружба, Страсть или Любовь
Для нежности моей.
И если среди слов земных
Такого не сыскать,—
Спроси у ангелов самих,
Как это чувство звать!
Глаза голубые и черные перевод Н. Григорьевой
От ран без конца
Погибают сердца,
Чернооким покорные женам,
А лазоревый взор,
И сражая в упор,
Сулит исцеленье сраженным.
О Фанни! О Фанни!
Лазоревый взор,
Сражая в упор,
Сулит исцеленье сраженным, о Фанни!
Тот, кто бросился раз
В омут дьявольских глаз,
Вновь и вновь о любви умоляет;
А лазоревый взгляд,
Не взыскуя наград,
Влюбленным любить позволяет.
О Фанни! О Фанни!
Лазоревый взгляд,
Не взыскуя наград,
Влюбленным любить позволяет, о Фанни!
Но ты, чьи глаза —
Сама бирюза,
Закон синевы отвергая,
Упорное «нет!»
Твердишь мне в ответ.
О Фанни, за что, дорогая?
О Фанни! О Фанни!
Упорное «нет»
Твердишь мне в ответ.
О Фанни, за что, дорогая? О Фанни!
Любовь и время перевод Д. Сильвестрова
Поэтами возвещено,
Что было, как известно,
Любви и Времени дано
Лишь два крыла совместно.
В волненьях страсти юный пыл
Не ищет воздаянья,
Оставив старцу пару крыл
В миг первого свиданья.
И, прочь устремлено,
О Время! Как летит оно!
Но чем безудержней порыв,
Тем менее он длится.
И вот уже, крыла раскрыв,
Любовь летит, как птица.
Увы, так день сменяет ночь,
Бесплодны все усилья.
И Время ковыляет прочь,
Свои утратив крылья.
Любовь же чуть видна, —
Как мчится, как летит она!
Но есть прелестница, чьих уз
Благословенно бремя:
Вступили, видно, с ней в союз
Равно Любовь и Время.
Она и сочетает их
Желаньями своими.
Крыла? Любовь не знает их,
А Время — вечно с ними.
И, радости полно,
Как мчится, как летит оно!
Военная песня Лузитании[128] перевод Н. Голя
Да будет эхом греметь песня войны кровавой,
Пока влачим проклятый ярем,
Пока под игом тирана живем,
Пока хозяйкою входит в дом
Измена — и души поит отравой.
Песен иных да не будет у нас,
Пока не наступит сладостный час,
И Победа, в двери стучась,
Не осенит нас лучами славы!
Да будет эхом греметь голос вражды кровавой,
Пока не раздастся Свободы глас:
«Дым отлетел, и огонь угас,
Свет Любви снизошел на вас,
На ваши тропы, на ваши травы!»
До этого дня не будет у нас
Песен иных, но наступит час,
Когда Победа, в двери стучась,
Горы разбудит лучами славы.
Грезы о доме перевод Н. Голя
Кто, уходя, не поглядит
На отчий дом, свой отчий дом?
Он в думах странника царит
В любой стране, в краю любом.
Нездешний свет горит во мгле
За той волной, за тем холмом,
Но что дороже на земле,
Чем отчий дом, твой отчий дом?
Скажи, моряк, когда вода
В пути струится под веслом,
Что шепчет нежная звезда
Ночной волне? — Там отчий дом!
К своей любимой и друзьям
Вернешься, скован сладким сном,
Но сердце ты оставил там,
Где отчий дом, твой отчий дом.
Марш возвращения перевод Г. Русакова
Не бейся, сердце, помолчи:
Он скоро будет дома.
Вдали запели трубачи,
И слышен марш знакомый.
Чу! Солдатский шаг
Загремел в горах,
И полям веселее стало.
Даже лось, и тот,
Затаившись, ждет,
Чтобы эхо отгрохотало.
Не бейся, сердце, не беги —
Все не идет любимый.
Звучат веселые шаги,
Да только мимо, мимо…
Знакомый марш почти затих.
Шаги отшелестели.
Нет, нынче радость у других,
В чужом дому веселье!
Снова слышно мне,
Будто в страшном сне,
Как уходят шаги по склонам.
Даже марша медь
Перестала петь
И звучит похоронным звоном.
Утихни, сердце, не боли!
Порадуйся в печали
За тех, чьи милые пришли,
Кого не зря встречали…
Над нами занимается заря… перевод Н. Голя
Заря над нами занялась,
Светило встает из тьмы.
День света, целый день для нас,
Так чем займемся мы?
Нас лес зовет, нас манит бриз,
Любой исполнится каприз.
О, лишь бы нежная заря
Не промелькнула зря!
День света, целый день для нас,
Светило встает из тьмы.
Заря над нами занялась,
Так чем займемся мы?
Но посмотри: покуда
Мы медлили в мечтах,
Не медлили минуты
На солнечных часах.
Кто знал, — зари недолог миг,
Казалось, день еще велик.
Но не смутимся мы с тобой
Полдневною жарой!
Всё впереди, для нас весь день.
Смотри: небеса чисты!
Так чем, пока не пала тень,
Займемся я и ты?
Увы! Закат над нами.
Чуть освещает он
Прощальными лучами
И дом, и лес, и склон.
Смотри: уходит день от нас,
Уже последний луч угас
И благодать рассветных грез
От нас с тобой унес.
Урока в песне этой нет,
А просто спать пора,
И завтра встретим мы рассвет
Всё те же, что вчера.
Стихотворения разных лет
Неся дозор в Пафийском понте перевод Г. Русакова
Неся дозор в Пафийском понте,
Любовь — заправский адмирал —
Глядит: корабль на горизонте!
Откуда, чей? Свистать аврал!
Любви не писаны законы.
«А ну, в погоню, купидоны!»
Тотчас матросы друг за другом
Взвились, крылаты, роем пчел.
И парус мощно и упруго
Цветком магнолии расцвел.
Любви не писаны законы.
«Вперед, не мешкать, купидоны!»
Нагнали — с этим дело просто.
Товар к досмотру! Так и есть;
Сплошь контрабанда! Вот прохвосты!
Конфисковать и все учесть!
Любви не писаны законы.
«Ищите лучше, купидоны!»
В глубинах трюмов из пакетов
С клеймом «Изделья из стекла!»
Немало редкостных предметов
В тот день таможня извлекла.
Любви не писаны законы.
«Ну и добыча, купидоны!» —
Фальшивых локонов запасы,
Румянец ложного стыда,
Для престарелых ловеласов —
Вставные зубы хоть куда! —
Любви не писаны законы.
«А это что там, купидоны?»
В мешках — набор притворных вздохов
(Товар лапландских мудрецов),
Чтоб ложью ахов или вздохов
Пленять доверчивых юнцов,—
Любви не писаны законы.
«Конца не видно, купидоны!»
А снизу — то, что поценнее:
Охапки дротиков и стрел —
Вооруженье Гименея,
Что в них весьма понаторел.
Любви не писаны законы.
«Стыд, да и только, купидоны!»
К тому ж, дурача неумело
Вдовиц и старцев при деньгах,
Глупцы не раз пускали в дело
Самой любви пароль и флаг!
Любви не писаны законы.
«Но это слишком, купидоны!»
«Давно пора сквитаться с ними! —
В крик адмирал. — Я им задам!
Хулить мой сан? Позорить имя?
Эй, канониры! По местам!»
Любви не писаны законы.
«Готовь запалы, купидоны!»
У пушек замерли расчеты.
«Огонь всем бортом!» Залп — и вот,
С бесчестной жизнью кончив счеты,
Пират исчез в пучине вод!
Любви не писаны законы.
«Хвалю за службу, купидоны!»
Скептицизм перевод Г. Симановича
Пред тем как Вечности нектар
Психея[129] трепетно вкусила,
Сомненья каплю — тайный дар —
В нем растворила Злая Сила.
И, чашу осушив до дна
В пылу любовного пожара,
Она была удивлена
Горчащей сладостью нектара.
Меж нег, даривших забытье,
Стал мучить страх, что Смерть не минет
И даже вечную ее
С высот сияющих низринет.
«Легчайших локонов струй,
Златые, точно кудри Феба,
И эти вот уста твои,
Из коих пью дыханье неба,
И несказанное чело,
Богам сияющее млечно,
Скажи, — вздыхала тяжело,—
Мне этим наслаждаться ль вечно?
Амур, не смейся, знаю я:
Твой лик, не ведавший печали,
Пребудет, горний свет лия,
Века, века — но для меня ли?»
Вотще Амур шептал: «Взгляни,
Вокруг созвездья серебрятся,
Ты здесь нетленна, как они,
И ты со мной — чего ж бояться?»
Вотще! Коварное питье,
Бессмертью давшее начало,
Всем наслаждениям ее
Полынный привкус придавало.
И хоть из смертных ни одной
Так не любил шалун прелестный,
С тех пор печали пеленой
Подернут взор ее небесный.
Гений и критик перевод В. Микушевича
…scripsit quidem fata, sed sequitur.Seneca 1{20}
Пока в былые времена
Царила мудрая природа,
Султану Гению дана
Была полнейшая свобода.
Но в рабство Гений наш попал,
Изведав собственную силу,
Как будто скипетром копал
Он самому себе могилу.
Так уподобился рабу
Юпитер, властвовавший грозно;
Сковал он сам себе судьбу
И возмутился бы, да поздно.
Рабам всегда претила ширь,
Клевреты Гения лукавы;
Приставлен был к нему визирь,
Прожженный критик, недруг славы.
В законы Гений робко вник;
Страшась былых своих амбиций,
Он побеждал, как ученик,
Великий лишь в цепях традиций.
По вдохновенью воспарив,
Отважный ослеплял, бывало;
Свой прежний подвиг повторив,
Прилежный, действовал он вяло.
Размяться Гений был не прочь;
Визирь, однако, не согласен:
«Нам, государь, гулять невмочь,
Простор для вас весьма опасен».
Властитель выбрал бриллиант.
«Зачем такая побрякушка? —
Спросил придирчивый педант. —
Цветок бы предпочла пастушка».
Тогда монарх купил цветов
И снова был осмеян светом:
«Цветочки нюхать он готов,
Как женщина за туалетом».
Домашний выбрал он очаг,
Устав изображать комету;
Кругом шептались: «Он колпак,
Наш Гений, скажем по секрету».
Он о победах говорит,
А свита шепчется: «Доколе,
О многомудрый Стагирит[130],
Сидеть безумцу на престоле?»
И стража заменила слуг;
Своею щеголяют мастью
Обозреватели вокруг,
Шотландцы[131] то есть, большей частью.
Вблизи тюремщики сидят,
Осенены высоким троном;
За нашим Гением следят,
Как за самим Наполеоном.
Когда бы кто-нибудь вернул
Эпоху гордую Шекспира,
Чтоб Гений молнией сверкнул,
Исконный повелитель мира.
Он отомстит за свой урон,
Приобретет былую славу,
Поскольку в мире только он
От века царствует по праву.
Его божественную роль
Прославят подданные дружно,
Крича: «Да здравствует король!
А безупречных нам не нужно».
Трагедия Женевы 1782 года[132] перевод С. Таска
О, если живы еще те,
Кто мог Республику в беде
Оставить в час, когда, как улей,
Ее набеги всколыхнули,
А венценосный мародер
Когда на месте мужа, брата
Грозился учинить разор,
Встречали женщину-солдата,
И все они в одном строю
Когда все выходы и входы
Шутя жизнь отдали б свою,
Держались именем Свободы;
Коль живы те, кто в этот миг,
Когда любой боец приник
К бойнице, те, кто малодушьем
Солдат как бы холодным душем
Окатывали, — «Грозен враг,
Не продержаться нам никак…», —
Ряды сражавшихся расстроив,
Включая даже и героев,
Для коих Вера навсегда,
Что путеводная звезда,
И кто готов, утратив Веру,
Чуть что расслабиться не в меру,
Что и случилось в эту ночь,
И несгибаемая сила,
Когда им стало вдруг невмочь
И прочь бежать хотелось, прочь,
Что чудеса вчера творила,
А руки сами отворяли
Врагу на милость вдруг сдалась,
Ворота, и клинки из стали
С рассветом втоптанная в грязь;
Постыдно отдыхали в ножнах,
И сколько стало осторожных,
Вчера готовых умереть,
А нынче вялых, словно плеть,
Самим себе немым укором
А кто-то, шпагу пополам
Застывших вдруг с потухшим взором,
Сломав, бросал как жалкий хлам;
Так вот, коль живы трусы эти,
Что с Родиною всё на свете
Спокойно продали врагу,
Измену их сочтет потомство
Я худшей кары не могу
Гнуснейшим видом вероломства,
Для тех предателей избрать,
И быть бессрочным приговору…
Чем на хозяина на---,
Купившего всю эту свору!
Нет, о Венеции не плачь![133] перевод Г. Кружкова
Нет, о Венеции не плачь!
Гордыня — вот ее палач,
Что вольный дух в ней растоптал
Златой пятой, и город пал.
Нет! Истинный герой не тот —
Хотя б он умер как герой, —
Кто защищал кровавый гнет
И блеск короны золотой.
Нет! Мы, в ком честь еще жива,
Оплачем тех, кто жизнь свою
Отдал за Волю и Права
В едином праведном бою!
Нет, о Венеции не пой!
Ведь Справедливость отмщена
Ее ужасною судьбой:
Она как морем сметена.
Такая гибель ждет царей,
Так суждено державам пасть,
Где против бога и людей
Тиранов обратилась власть.
…Да, миновали те года,
Когда во все моря земли
Неслись торговые суда
И гордый флаг ее несли;
Когда венецианский флот
На мощь Востока шел войной[134]
И Джустиньяни гордый род
Сто храбрецов отправил в бой…
Великолепья прежних дней
Не пощадил жестокий рок:
Есть в мире сила, что сильней
Величья, впавшего в порок.
Мертвы насилье и обман,
Грабеж, что роскошь порождал,
Иссяк кровавый тот фонтан,
Что стяг Республики пятнал.
Венеция! Когда-нибудь
Я опишу твой чванный путь:
Твою безжалостную власть
(Когда б не страха прочный лед,
Казалось, ненависти страсть,
Как сжатый пар, ее взорвет!);
Отца Паоло, чей язык
Склонял к предательству владык;
Твою коварную приязнь,
Друзей предавшую на казнь[135];
Твою Златую Книгу Книг[136],
Что открывалась лишь тому,
Кто земли, честь и совесть вмиг
Сложил к престолу твоему;
Твоих шпионов гнусных рать,
Что размножались до тех пор,
Пока не начали читать
В глазах друг друга приговор;
Закон кровопролитный твой
На страже казней и оков;
Твоих подвалов мрак сырой
И пекло адских чердаков,
Когда все это вспомню я,
Мне участь по душе твоя.
Не вольны избежать судьбы
Твои цари: они — рабы!
Былое унеслось, как дым,
И нет нигде пощады им:
Тирана страшная судьба —
Хрипеть в ошейнике раба!
С улыбкой радостной гляжу
Я на руины и твержу:
«Такая гибель ждет царей,
Так суждено державам пасть,
Где против бога и людей
Тиранов обратилась власть!»
Сатирические и юмористические стихотворения
Приветственная речь по случаю открытия нового театра Св. Стефана, написанная для владельца театра, который должен был произнести ее в парадном костюме 24 ноября 1812 г. перевод С. Таска
Британцы! Позвольте мне. в рамках регламента,
Открыть наш театр — точный слепок парламента.
Кирпич на постройку пошел плоховатый,
Но, Бог мне свидетель, мы не виноваты;
Зато в этом зале такая акустика,
Что в парке все слышно из каждого кустика.
Хоть труппа у нас не менялась фактически,
Она теперь выглядит трагикомически,
Но если учесть, что актеры в ней — клерки,
Нельзя предъявлять к ним высокие мерки.
Кто всем дирижирует?[137] Ольстеру верен,
Галерке кричал он: «Да здравствует Эрин!»
Но, встретивши Питта[138], поет нынче для
Партера он: «Боже, храни короля!»
Своим красноречьем обязанный тучности,
Премьер наш, при всей, так сказать, лженаучности,
Сумеет, надеюсь, развлечь вас немного.
Наскучит — вздремните часок, ради Бога.
Неважно мы начали прошлый сезон,
И это, признаюсь, был главный резон
Для смены героя-любовника. Тон
Он задал[139], играя заглавные роли
В «Посулах» и в «Ростовщике поневоле».
Еще пригласить в нашу труппу рискнули
Мы Каннинга[140], эту звезду Ливерпуля,
Считая, что зрителя острыми схватками
Актеры должны развлекать между актами;
Так вот, коль премьеру понравится пьеса,
А Каннинг в ней не разберет ни бельмеса,
Пока в их сражении кто-то не помер,
Повалит народ на смертельный наш номер.
Вы любите страсти, чтоб плакать украдкой?
В трагедиях нету у нас недостатка.
Давно уже публика так не дрожала
На зрелищах в духе «плаща и кинжала»;
В последнее время — горжусь тут по праву я —
Подмостки прославила драма кровавая.
Не верите? Ну так послушайте снова,
Как плачут за стенкой ирландские вдовы.
С таким же успехом, даю вам ручательство,
Выходят у нас, как всегда, надувательства,
А зритель, он любит подобные штуки,
Что ж, мы заготовили новые трюки:
Французскую джигу, хлопушки, петарды,
Мы даже завили свои бакенбарды.
Пред тем как откланяться, должен вам я
Сказать по секрету, сказать не тая:
Места у нас все по знакомству, друзья.
Человечек и душонка[141] перевод Р. Дубровкина
«Arcades ambo Et cantare pares»{21}
баллада, написанная на мотив песни «приударил человечек за хорошенькой девчонкой»; посвящается высокопочтенному Ч-р-зу Эбб-ту.
Жил на свете человечек с мелкой, каверзной душонкой,
И сказал он ей в один прекрасный день:
«Нынче было б очень кстати
С речью выступить в Палате,
Сделать это, знаю, будет нам не лень,
Сделать это будет нам не лень!»
И зловредная душонка
Пропищала тонко-тонко:
«Мистер Эбб-т, вы толсты, толсты, как боров,
Но извольте дать ответ,
На какой-такой предмет
Предстоит нам столько-только разговоров,
Предстоит нам столько разговоров?»
Недоступен стал он вмиг,
Благо выручил парик,
И вскричал: «Дерзить не смей-ка, смей-ка, смей-ка!
Хоть я нынче и растрогай,
Но в тюрьму, как Томас Кроган,
Непременно-менно сядешь ты, плебейка,
Непременно сядешь ты, плебейка!»
Человечек принял позу:
«Я сдержу свою угрозу
И короне честь по чести доложу
Об преступниках, что ложью
Окружили церковь божью,
И проект их обуздания предложу,
И проект их обузданья предложу!»
Так сказал он и сторонкой
Со своей побрел душонкой,
Обсуждая-ждая план свой неотложный,
И заметил мир наш старый,
Что второй на свете пары
Не встречал он до сих пор такой ничтожной,
Не встречал еще такой ничтожной!
Диалог между золотым совереном и банкнотой в I фунт стерлингов перевод С. Таска
О ego non felix, quam tu fugis, ut pavet acres Agna lupos, capreaeque leones.Horatius{22}
Обратился к Банкноте
Соверен: «Вы клянете
(Дело было в моем портмоне)
Свои удел. Честь по чести,
Не побыть ли нам вместе?
Мы ведь стоим того. Comprenez?{23}
С серебром, с медью даже
Завели вы пассажи.
Так размениваться не к лицу!
Сам монарх и супруга
Чаще видят друг друга,
Совершив моцион по дворцу».
По Банкнота резонно
Прервала селадона
(Весь наряд у бедняжки протерт):
«Ветрогон, уж молчите!
Вы всё больше торчите
У французов. Забыл нас милорд.
Согласитесь, мы все же
Как две капли похожи,
И счастливым наш был бы союз.
Мы делили вначале
Радости и печали,
Всех печалей на мне теперь груз.
Никакие законы
Не вернули вас в лоно,
Золотой мой супруг, Соверен.
Вы супругу готовы
Позабыть. Что ж, не ново!
Так уже поступал сюзерен.[142]
Привечаю я гроши?
Не от жизни хорошей!
За границей мой муж круглый год.
Зря вы мне не перечьте,
Вы меня обеспечьте,—
Ведь к оплате, сэр, банк не возьмет!»
Соверен рассмеялся
И Банкноте поклялся
Ей за совесть служить, не за страх.
Но купцу был он вверен,
И в Париже теперь он
Обращается в высших кругах.
Петиция ирландских оранжистов[143] перевод С. Таска
Решили мы вам, англичане, петицию
Послать о плачевном своем положении.
Одною, представьте, питаемся птицею,
А главное, терпим от всех унижения.
Мы дело имеем с шестью миллионами,
А нас миллион всего, малая толика.
Не стали б мы чикаться с тварями оными,
Но тронуть нельзя нам и пальцем католика!
Их больше, чем нас, и намного, вы скажете?
У них ни надела, ни домика лишнего?
Какое нам дело! Дома все и пажити
Должны отойти к нам по воле Всевышнего.
Признательны Англии все мы заранее,
Пусть только на нас она смотрит с участием:
Какая из сект в озлобленности рьянее,
Кто с бóльшим привык истязать сладострастием?
Занятно смотреть — в брюхе густо ли, пусто ли,
Затишье ль в стране, иль в крови она плавала,—
Как Саути[144] с Батлером спорят без устали,
Водил, не водил ли Дунстан[145] за нос Дьявола;
Легко ль Доминик[146] расправлялся с нечистою,
И мог ли их Эдвин[147] творить беззаконие…
Пока разглагольствуют пэры речистые,
Борьба здесь становится ожесточеннее.
Ну да, ведь уже не одно поколение
В любом закоулке Ирландии слышится:
Длиннющее слово есть — п_р_е_с_у_щ_е_с_т_в_л_е_н_и_е,
Так «пре» или «при» здесь по правилам пишется?[148]
Мы думаем: «при», и по этому случаю
Всех тех, кто не верит нам, злобно упорствуя,
Мы грабим и лупим и всячески мучаем —
Пускай их питаются корочкой черствою.
Что низко — так низко — смогли опуститься мы.
Вы с теми, наверно, одним миром мазаны,
Кто в прошлом уже забавлялся частицами.
Тогда из-за префикса — в сущности, малости —
Мог христианин наподобие Саути
Двух христианинов прирезать без жалости
В простой ли таверне, на светском ли рауте.
Мы тоже давно запаслись карабинами,—
Уж бойня так бойня! мы во всеоружии.
И верим, что с томми, друзьями старинными,
Врагов одолеем: ребята-то дюжие.
А что до расходов, не будемте мелочны:
Нам только врагов бы отделать как следует,
А там уж, покончив с работой отделочной,
Джон Булль[151] за наш счет хорошо пообедает,
Так пусть же он нас поскорее проведает
и т. д. и т. д. и т. д.
Встреча перевод Н. Голя
Трудяга Лея и богач Хлеб
Встретились (Хлебу — поклон).
Эсквайра вез по дороге кеб,
Пешком ковылял Леи.
«Ваша милость, — склонился бедняк, —
Простите за низкий слог,
Но только взгляните: я бос и наг!..
Хотя бы хлеба кусок!»
Нахмурился Хлеб (Дозволять нельзя
Вольности голытьбе):
«Ты только взгляни: вот ты, вот я;
Куда до меня тебе?
Ты нынче голоден? Ну и ну!
Не мне же кормить тебя!
Неужто пэры подарят льну
Дедовские поля?
Неужто епископ сменяет дворец
На твой бездомный удел?
Не снизойдет никогда делец
До мелких твоих дел!
Жалкий поденщик! Тебе не есть
Того, что на нашем столе.
Не для тебя высокая честь,
Низкий сын стригалей!
Долг твой велик, и налог наш тверд,
И мы умеем считать.
Слава господу, может лорд
Всех вас купить и продать!»
Так он сказал, и уехал кеб,
И кто-то крикнул вослед:
«Сегодня можешь, эсквайр Хлеб,
А завтра, сэр Хлеб, — нет!»
Ирландский раб[152] перевод Н. Голя
Во тьме тюрьмы я услышал крик:
«Он мертв, он мертв!» — разнеслось кругом,
И я привстал и к окну приник:
Тот крик о ком? Этот плач по ком?
И я увидел врагов моих
Смертельно бледных и был отмщен.
Как часто слышал я хохот их
В ответ на мой безнадежный стон!
В ночной туман устремляя взор,
«Не тот ли умер, — я вопросил,—
Кто вынес Истине приговор,
Кто предал Верность и Ложь взрастил?
Не тот ли это, замкнувший рот
Уму и Чести (Морской Дракон
На дно влекущий Синдбада[153]), — тот,
Поправший Правду?! Неужто он?»
И я отпрянул: на мой вопрос
Зловещий смех прозвучал в ответ.
Был гогот стражей мрачнее слез,
Ухмылки вражьи сказали: «Нет!»
Но плач все длился, и я опять
Спросил: «Но тот ли разбит кумир,
На чьем всевластном челе печать
Кровавой славы, страшившей мир?
Не тот ли это владыка, чей
Холодный облик — несчастья лик,
Кто звал воздвигнуть под звон мечей
Величья храм — и тюрьму воздвиг?
Так он?» И тут ворвались в мой слух
Прощальным звоном колокола,
И я постиг, что высокий дух
Ушел — и радость моя ушла.
Взамен безмерных моих потерь
Он дал мне злобу, убил в душе
Огонь надежды — и вот теперь
Он мертв, но мне не ожить уже.
Он вновь затеплил угли костров
Бездумной веры; безумцы всласть
Напились крови!.. Его рабов
Кляну — его не могу проклясть.
Умом виновный, он сердцем благ,
Душа коварству была чужда.
Стократ гнусней лицемерный враг,
Под чьей приязнью живет вражда.
Его душа замолила грех
Его ума. Он ушел — и вот
Его дела на устах у всех,
В мечтах солдат и слезах сирот.
Он — сердца чистого торжество
Вражде и зависти вопреки.
Враг помнит силу руки его,
Друг помнит щедрость его руки.
Забыв про цепи, заплакал я,
И крикнул я в колокольный звон:
«Да будет пухом ему земля!»
«Аминь!» — раздалось со всех сторон.
Как стать пэром, следуя новейшему рецепту, помещенному в недавнем труде по геральдике[154] перевод Д. Сильвестрова
Найдите какой-нибудь титул забытый —
Хотя б барон Шэндос, — пути вам открыты;
Жените кузена его, без отсрочки,
Тогда-то и там-то, на чьей-либо дочке:
Изюм — или фиги, берите смелее
Все то, что вам нужно, в любой бакалее.
Пилюли герб Медичи делят на части —
У вас на щите пусть красуются сласти.
А там — после всех вами принятых мер —
Потомство пойдет: что ни отпрыск, то пэр;
И вряд ли, коль все они созданы вами,
Вы в перечне этом не будете сами,—
Когда бы реестры и хроники твердо
Не стали преградою в деланье лорда.
Но тут я скажу на ушко: без зазренья —
Елико возможно — отбросьте сомненья.
Кто, метя стать лордом, вон лезет из кожи,
Тому с полпути возвращаться негоже,—
Назад отходить не пристало вельможе.
Увы, чуть он цели заветной достиг,
Слетает с приходских потрепанных книг,
Как будто в тумане, виденье, химера:
То вдруг бакалейщик взирает на пэра,
То вдруг брадобрей, не скрывая ухмылки,
На грамоту лорда роняет обмылки.
Но в силах ли будет препятствовать рок
Изъятию сих нежелательных строк?
Пусть ножницы Шэндос получит в наследство —
И тотчас исчезнет такое соседство.
Да разве отыщешь иное условие
Надежней упрочить свое родословие!
Что ж, Атропос хоть и срезает жестоко
Равно чернь и знать, по свершении срока —
Куда ей равняться с пронырливым пэром,
Когда тот, взяв ножницы, ловким манером,
И даже не дав совершиться крещенью,
Пути отсекает всему поколенью!
Свет клином сошелся на чьем-то там сыне?
Взмах ножниц — уже его нет и в помине.
В брак кто-то вступил в допотопную эру,
Помехою стать дабы нашему пэру?
Ну нет, как не так, — мигом Шэндос решил:
Он не был женат, да и вовсе не жил!
Итак, здесь преподан прекрасный совет,
Как следует быть, чтоб попасть в высший свет.
При этом во всем, коль хотите стать пэром,
Равняйтесь на С., Б. возьмите примером,
Как, скажем, проделывал Николас Флем, да-с,
Глядишь, и уже вы барон — барон Шэндос!
На смерть Шеридана[155] перевод С. Таска
Principibus placuisse viris!Horatius{24}
Есть о чем горевать! сколько слез… но взгляните,
Как сквозь слезы сияют улыбками те,
Кто заигрывал с ним, когда был он в зените,
И кто бросил его умирать в нищете.
Как им льстило такое соседство в то лето,
Когда слава курила ему фимиам;
Как им лестно слететься на тризну поэта,
Им, вампирам[156], — сужу по горящим глазам!
Тошно видеть все эти бездушные лица,
Нет для них ничего, кроме герцогств и пэрств.
Сколько вас, титулованных, хочет проститься
С тем, кто жизнь доживал одинокий как перст!
Поглядеть на вас — нету друзей благородней.
Как же так, джентльмены? с каких это пор
Лорды траурных лент не жалеют сегодня,
А вчера простыню рвал с него кредитор.
Да и сам я, признаться, немногого стою.
Рядом с тем, что являла нам эта душа,
Рядом с этой сердечностью и теплотою
Суета и безделье не стоят гроша.
Никакие сокровища — деньги, земля ли.—
Пусть гробницу певца превратят в мавзолей
Те ханжи, что при жизни его презирали,
А по случаю смерти достали елей,
Не смогли бы меня примирить с униженьем,
Каковому подвергли тебя под конец,
Оскорбив — ты уже умирал! — подношеньем,
От которого ты отказался, гордец.[157]
«Разве он заслужил это?» — скажут потомки,
Ну а Время, сметающее мишуру,
Имена их забвенью предаст, как обломки,
А уж если вспомянет их, то не к добру.
Разве он заслужил это, всем одаренный
И во всем проявлявший изысканный вкус,
Он, оратор, поэт, драматург утонченный,
Женщин вечный любимец и баловень муз?
Одарила Природа его не случайно
Всем, чем смело могла одарить она всех.
Проникая, волшебник, в сердечные тайны,
Как легко вызывал он то горечь, то смех!
Те остроты для слуха все так же отрадны,
Как отрадно для глаза ручное шитье.
И разил его ум, как кинжал, беспощадно,
Только кровь не пятнала его острие.
А его красноречье! Часами он кряду
Говорил, на иной вдруг настроившись лад:
Полнозвучно, блестяще, сродни водопаду,
Что срывается с кручи, не зная преград.
И за все — этот жалкий, ничтожнейший жребий!
Но пускай не надеются те, кто сиял,
Как алмазный кристалл, при полуденном небе,
Что грядущая ночь не погасит кристалл.
Если падает лось, смертной дрожью объятый,
Его мозг мошкара принимается жрать.
О поэт! не страшней ли твои меценаты:
Съесть твой мозг и оставить тебя умирать!
Эпиграммы перевод В. Васильева
Лорд Веллингтон и министры (1813)
Алкивиад[158] с таким сражался жаром,
Добившись мира, так казался мил,
Что с молнией в руке младенцем был
Он на гербе изображен недаром,
И смысл эмблемы сей, о Веллингтон,
Министрами сегодня подкреплен:
Пока ты в битвах, а они в Совете,
Ты выглядишь как гром, они — как дети.
На министра Каслри
Он лишь фонтан, не более того,
Наш Каслри[159]: с утра, под солнцепеком
И в дождь, намеренно и ненароком
Наружу слабоумие его
Течет, течет безудержным потоком.
Диалог католика и герцога Кумберлендского[160]
«Католик Нэдди[161], милый, почему
Противитесь вы вето моему?» —
Спросил король. А Нэд ему на это:
«Вы жить нам не даете и без вето».
На критицизм лорда Джеффри[162]
Вот к бардам приставили Джеффри. Ты глянь-ка,
Какая у нас распрекрасная нянька:
Березовой каши он дал нам сейчас
И праведный сон нагоняет на нас.
Разговор отца с сыном
Отец сказал: «Как мотылек весной,
Ты, Том, порхаешь без конца и краю.
Обзаведись женою, мальчик мой».
«Ну что ж, отец. Вот только чьей, не знаю».
«Мэг, я тебя с сегодняшнего дня…»
«Мэг, я тебя с сегодняшнего дня
Любить не в силах больше». — «Ты меня
Любить не в силах больше, ловелас?»
«Конечно, в смысле: больше, чем сейчас».
К ***
От женщин и яблок наш мир зачастую
Страдал, и немало. Но думаю, мисс,
Что с ним не сыграем мы шутку презлую,
В которой повинны Адам и Парис.
По слабости я много более горя
Принес бы вселенной. Ведь я, как Адам,
От вас взял бы яблоко, с адом не споря,
Затем, как Парис, тотчас отдал бы вам.
На мой вынужденный отказ присутствовать на званом обеде из-за отсутствия пары приличных штанов
Мы рая с тобою, Адам, лишены.
Но видишь ли разницу в наших препонах?
Тебе наказанием были штаны,
А мне повредило отсутствие оных.
Из „Сказок о Священном Союзе“[163]
Сказка 1 Конец Священного Союза перевод В. Микушевича
Приснился мне ужасный сон,
Которым был я потрясен,
Хоть, не обученный гадать,
Я как профан боюсь конфуза,
Но катастрофы можно ждать;
Мне жаль Священного союза.
Дом ледяной приснился мне.[164]
На невском бреге при луне
Он, как причудливый кристалл,
В сиянье сказочном блистал,
Чертог пленительный и странный,
Фантазия царицы Анны.
И в ледяном своем дворце,
Радушный, в блеске небывалом,
Восторг являя на лице,
Царь, снилось мне, чарует балом[165]
Святых господ, чья доброта
Чуждается дурного тона,
Европой всею занята,
Удачен замысел такой.
Он подтверждал, что дух людской —
Морозом скованный поток,
Поскольку выдержать он мог
Танцоров, тяжелейших в мире,
Всех венценосцев, милых лире.
Все стыло, все торжествовало;
Кругом царило ликованье.
Ничьих тревог не вызывало
Блистательное основанье.
Не зная робости позорной,
Царь Александр ходил по льдине;
Он внял пророчице придворной:
Мол, нет опасности в помине.
Довольный гением своим,
Монарх вальсировал беспечно,
Решив, что лед несокрушим
И что мороз продлится вечно.
Как верноподданный пиит,
Один я трепетал в тревоге:
Такой внушительный синклит
В таком сомнительном чертоге!
До глубины души взволнован,
Я видел: страх мой обоснован:
Капель — зловещая примета,
Пожалуй, даже святотатство;
Капризам скользкого паркета
Подвержено святое братство.
Царь в полонезе сплоховал;[168]
Скользила Пруссия вначале,
Достойна всяческих похвал,
Однако слишком скользко в зале.
Россия с Австрией в ударе
(Лед крепкий нужен этой паре!)
Прошлись на итальянский лад,[169]
Согласно требованьям ранга;
Людовик, старый прокурат,
Вздыхает, ноги, мол, болят,
А тех двоих влечет фанданго[170].
Неистовым несдобровать.
Фанданго вредно танцевать[171]
Владыкам, сбитым с панталыку;
Нельзя же в этакую клику
Принять разумного владыку!
Танцорам танец угрожал,
Испанский танец просто жгуч;
Был гневным южным солнцем в зал
Направлен меткий красный луч,
Который, нагоняя страх,
Торжествовал среди зимы;
Уже Мороз кричит в слезах:
«Пропали мы! Пропали мы!
Спасайся, Франция, беги!
Потоп! Реванш берут враги!»
Как допускают короли
Такие грубые ошибки?
Оттаяв, мигом потекли
Короны, скипетры и скрипки.
Грозит монархиям ущерб,
Готов растаять каждый герб.
Орлы двуглавые линяют
(Две головы — игра двойная!).
Им когти явно изменяют,
Державы с потолков роняя.
Где прусский хищник? Был, да сплыл,
Закапав, каплуном прослыл.
Бурбоны мнили, что у них
Вполне достаточно флотилий;
Теперь от лилий водяных
Не отличишь французских лилий.
Когда бы только потолки!
Нет, венценосные особы
Происхожденью вопреки
Сегодня тают, как сугробы.
Царь погасить задумал свет,
Издав решительный указ;
Но государя нет как нет:
Растаял царь на этот раз.
Невыносимая жара!
Растаять Пруссии пора.
Вниманье общее привлек
На конституцию намек,
Оттаявший наверняка,
Чтобы сорваться с языка.
Как в масле сыр, кататься рад,
Людовик, предвкушая пир,
Вообразил, что трюфли — клад;
Теперь Людовик вправду «сир»:
В горячем масле тает сыр.
Король растаял — вот конфуз!
Так жженый тает сахарок,
Когда веселый карапуз
Жует рождественский пирог.
Итак, скажу вам откровенно:
Все вдруг растаяло мгновенно.
Где бывший лед, где бывший двор?
Ни скрипачей, ни королей.
Река стремится на простор
Свободной птицы веселей,
Счастливей жаркого луча,
Разбив оковы сгоряча.
Течь в море лучше без муштры
В своей природной красоте,
Чем в блестках рабской мишуры
Все королевские дворы
Терпеть на ледяном хребте.
Истолковать мой страшный сон
Мешает мне хороший тон;
Испанский танец — южный луч
Среди зловещих этих туч.
Вверяю с грустью непритворной
Мой сон пророчице придворной.
Сказка 3 Факел свободы перевод В. Микушевича
Фантазия предстала мне
В чудесном зеркале своем,
Истолковав наедине
Все, что привиделось мне днем.
Я видел факельный пробег:
Вновь яркий факел был зажжен
Для быстроногих в этот век,
Как в Греции былых времен.
Я видел, как народы ждут,
Когда настанет их черед
И факел им передадут,
Испепеляя древний гнет.
Не ликовать сердцам нельзя;
Тот факел чудеса творит.
Фантазии поверил я:
Свобода факелом горит.
Повсюду факел рад сверкнуть;
Он зажигает алтари,
Искристый продолжая путь
Лучом смеющейся зари.
От Альбиона, где цела
Святая искра с давних лет,
Америка восприняла
Огонь божественный и свет.
Вакханке Галлии потом
Достался драгоценный дар;[172]
Ей в исступлении святом
Всемирный виделся пожар.
Был пламень галльский нестерпим;
Уже грозил соседям он,
И перед пламенем таким
Отпрянул гордый Альбион.
Испания рванулась вдруг,[173]
Хотела свой зажечь алтарь,
Но, факел выпустив из рук,
Осталась темною, как встарь.
Однако факел не погас,
Свет благотворный не иссяк;
Для ненасытных наших глаз
Оградный светится маяк.
Неаполь, блеска не стерпев,
Почувствовал позорный страх;
Обжечься даже не успев,
Он сразу бросил факел в прах.
Упал заветный факел в грязь,
Но время Греции пришло;[175]
Она восстала, не боясь
Овеять пламенем чело.
Фантазия своей игрой
Воспламенила смертный взор;
Я видел духов светлый рой,
И пел небесный стройный хор:
«Нам даровали божества
Тебя, бессмертная звезда!
Зажглась ты в Греции сперва,
Так возвращайся же туда.
Сияй, свобода, не тускней,
Все страны в мире веселя,
Чтобы обителью твоей
Однажды стала вся земля!»
Сказка 4 Муха и бык перевод В. Микушевича
Предварение
Приводит мудрого в смущенье
Всемирное коловращение;
Владычество умов ничтожных —
Тягчайший гнет из всех возможных;
Хотя колонны год за годом
Не ропщут под массивным сводом,
Они внушают состраданье;
А каково кариатидам
Стоять с невозмутимым видом,
Когда на них почиет зданье!
Должны молчать мы поневоле,
Когда, родившись на престоле,
Царят убогие умы;
У них божественное право.
Должны повиноваться мы.
Изменник сетует лукаво.
Когда в опасности держава, —
Крамольный сон — уже отрава.
Сэр Роберт Филмер[176] признает
Без всяких новомодных бредней:
За короля народ и скот,
Благонадежней всех последний.
К скотине Сидней[177] не примкнул,
Напротив, дерзко намекнул,
Что миг бывает роковой:
Теряет голову король,
Поводья бросив, сам не свой.
Как быть с преступною молвой?
Нужна уздечка, в этом соль!
На королей не нападу,
С пеленок принц на поводу,
С младенчества ревнитель веры,
Вы, претенденты, вы — химеры,
Поганки, детища земли!
Пускай болваны — короли,
Они в своих родятся странах
С тремя державами в карманах,
Но возмущает произвол,
Когда, проталкиваясь в давке,
Дубина влезла на престол,
Хоть ей не место даже в лавке.
Вот кто способен разозлить
И желчь мою во мне разлить.
Куда бы я ни поглядел,
Все твари знают свой предел.
Корова подтвердить готова,
Что балерина — не корова.
Лягушка, прыгая отлично,
Не хочет выступать публично;
Зато бездарный имярек,
Глупцов отъявленных любимец,
За все берется в этот век
И торжествует, проходимец.
Не склонные к таким ролям,
Вернемся к нашим королям,
Которым посвятить рискую
Я нынче сказочку такую:
Сказка
Египет — отчизна мыслителей скрытных.
Привыкли в таинственном этом краю
Покровами с толку сбивать любопытных,
Как мумию, кутать идею свою.
Египтяне любили своих королей,
В той стране крокодил находил обожателей;
Только муха мясная казалась милей.
Эта тема — находка для повествователей.
Был в Мемфисе[178] один любознательный скиф,
Анахарсиса[179] родич, по всей вероятности;
Наблюдал он, прославленный храм посетив,
Сей мистический фарс, не лишенный занятности.
Смотрел путешественник пристальным взглядом
На муху мясную, которую жрец
Почтил обстоятельным древним обрядом.
Ей в жертву быка принеся наконец.
Тогда в изумленье пришел посетитель.
Сорвался вопрос у него с языка.
«Зачем, — прошептал он, — почтенный учитель,
Вы в жертву приносите мухе быка?»
Ответил мудрец: «До подобных высот
Возносится в символах лишь благонравие.
Заколотый бык — это верный парод,
А муха — священное самодержавие».
Из «ЛАЛЛА РУК»[180]
Хорасанский пророк под покрывалом[181] перевод А. Ревича
В той благодатной области Ирана,
Откуда солнце всходит утром рано,
Где ярко пламенеют под лучом
Плоды и розы над любым ручьем
И где река Мургаб, слывя здесь первой,
Течет меж рощ и светлых зданий Мерва,
Поклонники правителем земли
Великого Моканну[182] нарекли —
Пророка и вождя, чей лик скрывало
Всегда серебряное покрывало,
Дабы слепящий свет его лучей
Несчастных смертных не лишил очей.
Как посвященные передавали,
Чело Мусы[183] светилось так едва ли,
Когда он, встретив Бога, снизошел
С сияющих высот Синая в дол.
У трона властелина и у двери
Стояли стражи, преданные пере
И убежденные, что острый меч
Куда сильней, чем пламенная речь.
И эти люди были столь надежны,
Что в собственное сердце, словно в ножны
Почли б за счастье погрузить клинок,
Когда бы к этому призвал пророк.
Халифа черный цвет встречал проклятья,[184]
И все ходили только в белом платье,
Мечей и шлемов блеск был также бел,
А также копий сталь и древки стрел —
Тростник, растущий возле рек Ирана.
Был светлым лук, был белым цвет колчана.
У многих были палицы в руках
И топоры, внушающие страх,
Над войском перья белые качались
На шишаках, и воины казались
Чинарами, чей неподвижный строй
Зима покроет инеем порой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Был столь же пышен гордый строй парада.
Вдруг юный воин выступил из ряда.
Он был в бухарской шапке меховой,
Лук серебрился за его спиной.
Он был прекрасен, и горели очи,
Как Марс зловещий в бездне летней ночи.
Пришлец недавний — стоил он полка
По рвению, по ярости клинка.
Отважный воин прибыл издалека,
Влекомый верою под стяг пророка.
Азим был молод, но уже свою
Стяжал он славу в западном краю.
Сраженный в битве, отрок безбородый,
Он в греческом плену познал невзгоды.[185]
Желанный мир настал — и нет оков,
Но кто же, посетив страну богов,
Будь он в цепях, будь жертвой горькой доли,
Не ощущал дыханья древней воли?
Кто, сохранив и зрение и слух,
Не распознал ее священный дух,
Следов стопы божественной не встретил,
Присутствия свободы не заметил?
Души Азима, чутких струн его
Коснулось этих долов колдовство,
И вот теперь в своих родных просторах,
В душе лелея цели, о которых
Мечтают часто юные сердца
Во имя человека и Творца,
Хотя мечты обманчивее даже,
Чем призрак горизонта и миражи,
Поверил он, что дланью божества
Начертаны высокие слова
На знамени вождя, на белом поле,
Слова о благе мира и о воле.
Душа Азима, вера и булат
На зов пришли, с другими встали в ряд
Под белый стяг; стал каждый меч разящим
Во имя будущего — в настоящем.
Ложились веры плотные бинты
На очи, жаждущие темноты
Во имя блага; но к безумной вере
Еще никто не рвался в той же мере,
Как наш подвижник, ниц готовый пасть
Пред покрывалом, чья всесильна власть,
Он твердо верил, преклонив колени:
Пред ним посланец Бога, чистый гений,
Пришедший, чтобы мир освободить,
Его былую славу возродить.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Но истина сложна, — сказал пророк, —
Чтобы ее постигнуть, нужен срок
И вечный мир, а нам в наш век суровый
Приходится мечом рубить оковы,
Покуда истины высокий свет
Не озарит юдоль, где столько бед.
О воинство небесное! Тогда лишь,
Когда все храмы и престолы свалишь,
К стопам твоим положат наконец
Раб кандалы свои, тиран венец,
Священник свитки, лавры победитель,
И к нам ворвется в грешную обитель
Дыханье истины, как ветер с гор,
Сметая униженье и позор,
Тогда повсюду разум воцарится,
И новый человек на свет родится,
Под новым солнцем, в зареве его
Он воссияет, словно божество!
И ваш пророк, чей лик светлей зерцала,
Серебряное сбросит покрывало,
Чтоб это лучезарное чело
Земле дарило вешнее тепло!
Добро пожаловать, наш юный воин!
Ты белых перьев будешь удостоен,
Но прежде покажи, что ты герой.
И помни: став моим, ты вечно мой!»
Закончен смотр, на стогнах смолкли крики,
Но так в сердца проникла речь владыки,
Как будто сам аллах вещал великий.
Из юношей был каждый ослеплен,
Узрев оружья блеск и пышный трон,
О царстве света старцы размышляли,
А весь гарем, все женщины в серале
Мечтали увидать лучистый лик,
Хоть знали, что ослепнут в тот же миг.
И лишь одна, что всех была милее,
За пологом атласным галереи
Смутилась вдруг, в глазах мелькнул испуг,
И тихий вскрик достиг ушей подруг,
Она была бела, как мел, поверьте,
Стал праздник для нее страшнее смерти,
Когда прекрасный юноша Азим
Склонился ниц пред божеством своим.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Несчастная Зюлейка! Как могла
Ты подчинить свой разум силам зла,
Вообразить порочный мир гарема
Священною обителью Эдема!
Как ты могла того, чей грубый пыл
Твою невинность вскоре погубил,
Считать посланцем неба всемогущим,
Который приведет вас к райским кущам!
Когда бы глаз не заволок туман,
Ты сохранила бы свой талисман:
Далекий милый образ без сомненья
Тебя бы оградил от наважденья,
Сберег бы чувства нежные твои
И чистоту, без коих нет любви.
Но чистоту и нежность погасила
Слепого рвенья колдовская сила,
Которую в избраннице разжег,
Прибегнув к чарам, хитрый лжепророк.
Вдохнул он жар безумья безобразный
В девичью плоть, таящую соблазны,
Чтобы сердца людей привлечь верней,
Чтоб их к повозке приковать своей
Посредством новых дьявольских цепей.
Он не гнушался кознями и сглазом,
Он прибегал к волшбе, чтоб юный разум
Объяли исступление и тьма,
Такая тьма, что вмиг сведет с ума,
Такой порыв, который в бездне мрака
Нас ослепляет, как луна — маньяка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
…В ответ на зов ее глухая плоть
Была не в силах дрожи побороть,
А ведь любая знáком высшей чести
Сочла бы зов побыть с Моканной вместе
В его молельне, скрытой от очей
В прохладной чаще, где журчал ручей,
Куда сей праведник, погрязший в скверне,
Молиться приходил ежевечерне
И часто звал делить точной досуг
Одну из множества своих подруг.
Но жрицу молодую свите прочей
Предпочитал он с той недавней ночи,
Когда она, не заподозрив зла,
Моканне клятву страшную дала.
Добычу изловив, сей темный гений
В беседах становился откровенней,
Произносил столь страшные слова,
Что разум, затуманенный сперва,
Изведал ужас, начал сомневаться,
Когда услышал речи святотатца.
Но ослепленье страх превозмогло.
Сомненья прочь! Ведь светлое чело,
Чей блеск божественный сокрыт от взора,
Избраннице пророк покажет скоро!
К тому же слепо верила она,
Что жизнь земная нам затем дана,
Чтоб грех вкусить, чтоб стать как пепелище,
Чтобы душе из пекла выйти чище
И воспарить, как легкий фимиам,
Поистине угодный небесам.
Ей грезилось, что, став подобьем дыма,
Она придет в объятия Азима,
Что с ним соединится навсегда,
Что не оставит грех па ней следа.
Безумные мечтанья, их обманы
Зюлейку бросили к ногам Моканны,
И сладостна для девы стала ложь.
Но вот он, давний образ! Как похож!
Напомнил он о дорогой потере,
Дорогу преградил безумной вере.
Какой удар! Какой холодный страх!
Так темной ночью в северных морях
Ладью на айсберг вынесет теченье,
И страшно мореходов пробужденье
В пучине ледяной. Такой удар
Мог охладить подвижнический жар,
И вновь былое душу обступило,
Отчаяньем холодным затопило.
Несчастная, от ужаса бела,
Сквозь сумерки по зарослям брела
Туда, где, одинокий и угрюмый,
Ждал нечестивец, погруженный в думы.
Он, прозревая будущего даль,
Не мог узреть, как робость и печаль
На лике юной жертвы проступает,
Как нехотя она теперь ступает,
Что шаг ее уже совсем не тот,
Который был как ветер, как полет.
И взор ее стал тусклым и тоскливым,
А ведь горел, охваченный порывом.
Лицо завесив тканым серебром,
Вождь возлежал. Светильники кругом
Горели, но не том скупым огнем,
Как в ночь моления в мекканском храме;
Волшебный свет струило это пламя,
Чтоб стал серебряный покров светлей,
А лица милых дев еще милей.
Моканна четкам и священным свиткам
Предпочитал кувшин с хмельным напитком,
Где блещет золото кишмийских лоз[186]
Или рубин ширазских алых слез.
Его уста под пологом покрова
Впивали хмель, и в каждой капле новой
Таился кладезь животворных сил,
Который сердцу радость приносил.
Властитель пил, стремясь куда-то взглядом,
И, не заметив, что Зюлейка рядом,
Вдруг, словно дьявол, начал хохотать
И вслух такие речи изрекать:
«О, как ничтожно ты, людское стадо,
Стремишься к раю, но достойно ада!
Подобья божьи! Вас придумать мог
Индийский идол, обезьяний бог![187]
Вам дух дарован, глиняным издельям!
И если верить старым пустомелям,
Сам дьявол, человека не признав,
Утратил небо. Но ведь он был прав!
О подлый род! Грядет возмездье скоро,
За мой позор и ты хлебнешь позора,
Тебе на горло наступлю ногой,
О ненавистный, жалкий род людской!
Как стаю соколов под клобуками,
Орду слепцов я устремлю сквозь пламя,
И станет каждый слабый палачом,
А обреченный сгинет под мечом.
О мудрецы, сквозь даль былых столетий
Бредете вы на ощупь в тусклом свете!
Взамен лампады череп служит вам,[188]
Ведь суеверны вы под стать ворам.
Вас чтят и ублажают повсеместно,
Но ваша мудрость мне, увы, известна,
Не будь слепою, к звездам бы вела,
Но застит взор ей золото жезла.
Иду, смеясь, а вы себе трубите,
Витийствуйте, слагайте гимны, лгите,
Рабы из худших в раболепной свите!
Вам грош цепа и вашему уму,
Он скипетру подвластен моему!
А вы, ревнители безумной веры,
Обожествляете свои химеры,
Стремитесь вознестись на небосвод,
Погрязшие в гордыне, как Немврод[189].
Чудес необычайных очевидцы
Вас заставляют верить в небылицы,
Болтают вдохновенные жрецы,
Но нм с концами не свести концы.
Об истине толкуют пустословы,
А мученики, те страдать готовы,
Святоши в храмах могут продавать
Спасенье душ, господню благодать,
Так мрамором в священном граде Ава
Лишь храмы торговать имеют право.
Все таинства — лишь выдумка жрецов
И служат процветанью подлецов,
От хитрых догматов туманной веры
Народ пьянеет, суетный и серый,
Но могут захмелеть и лицемеры.
О смертные, вы жаждете небес,
Эдемский сад вам нужен позарез.
Плох тот пророк, кто не придумал рая,
При этом разным вкусам потакая:
Для старцев — мудрость, гурии — юнцам,
Почет и крылья — умным и глупцам.
Всё суета! Но выбирает каждый
Источник благ зависимо от жажды.
К чему бы ни стремился человек,
Таким, как был, пребудет он вовек.
Владыка тьмы! Терзай его, как надо,
Но пусть живет, ведь жизнь страшнее ада!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Алла Акбар! — слышны повсюду крики —
Халифа в Мерв привел[190] Аллах Великий!»
Полотнища златые тут и там.
Хвалу воздайте! Освятите храм!
Господня рать победу одержала,
Тайком бежал носящий покрывало.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но злобный дух пока что на земле,
Он скрылся с горсткой беглецов во мгле,
С последнею крупицей гордой рати,
Грозившей небу. Он изрек проклятье,
Покинул Мерв и пышный свой чертог,
Течение Джейхуна[191] пересек,
Собрал безумцев, верящих глубоко,
В нем видящих по-прежнему пророка,
И, ожидая, что предпримет враг,
У врат Некшеба[192] поднял белый флаг.
Покинув свой гарем, подобный саду,
Где множество цветов дарит усладу,
Беглец одну подругу взял из всех.
О нет, не но любви, нс для утех.
Зюлейка стала тенью от печали,
Краса поблекла, прелести увяли.
Так ветвь роняет чахлый лепесток,
И вырастает новый в краткий срок.
Нисходит небо к тем, кто проклят роком,
Чтоб искру в сердце пробудить жестоком,
Но свет любви отвергнут был пророком.
Его прельщала жертва. Вот в чем суть!
Он пламя этих чар не мог задуть,
Покуда ад пылал в нем, не сгорая,
Покуда в сердце жертвы — проблеск рая.
Вела его губительная страсть:
Его стараньем ангел должен пасть,
Священный свиток станет пеплом черным,
Скрижалью скверны в пламени тлетворном.
Заранее он был победе рад:
Меж духов зла он выйдет в первый ряд
И славою затмит любого черта.
Он видит; жертва перед ним простерта,
В его глазах огонь и торжество,
Он сам в объятьях пламени того.
Но ждут дела, и тьмы забот нависли,
Тут нужен смелый дух и дерзость мысли,
Должны Моканне демоны помочь.
Взгляните: на равнины пала ночь,
В дали степной костров мерцает пламя,
Как светляки над влажными полями.
Под мрачным пологом ночной поры
Горят костры и светятся шатры,
Они роятся там, у окоема,
Но будут здесь, раскинутся, как дома,
Среди окрестных ручейков и рощ,
Близ этих стен, чья горделива мощь.
На эти огненные вереницы
Глядел Моканна с крепостной бойницы,
Он усмехался: шутка ли сказать,
Он здесь один, а там такая рать!
Он взят в тиски, но столь великий воин
Такого множества врагов достоин!
«О, мне бы взмах молниеносных крыл,[193]
Которым ассириян усмирил
И в темноту низринул черный гений,
Я вражьи орды предал бы геенне!
Темна судьба, но кто б ни сел на трон,
Уделом человека будет стон,
Кто б ни терзал — халифы иль пророки,
Мученья одинаково жестоки.
Пускай рабы вопят, кляня судьбу,
Их плач меня утешит и в гробу».
Так думал вождь, но вслух иные речи
Он молвил горстке, уцелевшей в сече:
«Защитники священного венца,
Который дан мне волею Творца,
Венца померкнущего, перед коим
Бледнеет трон, завещанный Хосроем[194],
Короны и алмазы всей земли,
Как меркнуть в небесах перед рассветом
Горящим ярко звездам и планетам.
Ликуйте, воины! Уже причал
Пред нами в черной бездне замерцал!
Мы победим, — так сказано в скрижали,
Которую лишь ангелы читали,—
Ждет слава ослепительная нас,
Ислама власть падет в тот самый час,
Когда луна зловеще глянет с неба
В святой колодезь славного Некшеба.
Теперь глядите!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Презренные, когда уйдет Моканна,
Остаться вам в силках его обмана.
Пред вами чан, в него раствор налит,
Смертельный яд, что вмиг испепелит,
В том жидком пламени сгорю до срока.
Вот вам купель, достойная пророка!
Исчезнет мой последний вздох в огне,
И плоть, и кровь, и правда обо мне,
И возвестят приверженцы повсюду,
Что в небо взят святой, прибегнув к чуду,
Что вновь он явится вершить дела
В сиянье неприкрытого чела.
Мне хитрецы поставят истуканы,
Глупцы падут пред алтарем Моканны,
Шепча таинственные словеса,
И неразумной веры паруса
Надует адский вихрь во славу божью;
Цари пред стягом, освященным ложью,
Склонятся, как пред символом святым,
Скрепляя клятвы именем моим!
Умру, но дух мои будет без боязни
Творить раздоры, преступленья, казни,
Исполнен, как при жизни, неприязни.
Но чу! Тараны бьют, гудит стена.
Пусть рушится, мне встреча не страшна,
Меня враги здесь не найдут живого.
Ты мне верна и не промолвишь слова.
Гляди, как нечестивый еретик
Становится святым в единый миг!»
Он прыгнул в чан, смертельной влаги полный,
Над ним сомкнулись огненные волны…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пери и Ангел[197] перевод В. А. Жуковского
Однажды Пери молодая
У врат потерянного рая
Стояла в грустной тишине;
Ей слышалось: в той стороне,
За неприступными вратами,
Журчали звонкими струями
Живые райские ключи,
И неба райского лучи
Лились в полуотверсты двери
На крылья одинокой Пери;
И тихо плакала она
О том, что рая лишена.
«Там духи света обитают;
Для них цветы благоухают
В неувядаемых садах.
Хоть много на земных лугах
И на лугах светил небесных,
Есть много и цветов прелестных:
Но я чужда их красоты —
Они не райские цветы.
Обитель роскоши и мира,
Свежа долина Кашемира;
Там светлы озера струи,
Там сладостно журчат ручьи —
Но что их блеск перед блистаньем,
Что сладкий глас их пред журчаньем
Эдемских, жизни полных вод?
Направь стремительный полет
К бесчисленным звездам созданья,
Среди их пышного блистанья
Неизмеримость пролети,
Все их блаженства изочти,
И каждое пусть вечность длится…
И вся их вечность не сравнится
С одной минутою небес».
И быстрые потоки слез
Бежали по ланитам Пери.
Но Ангел, страж эдемской двери,
Ее прискорбную узрел;
Он к ней с утехой подлетел;
Он вслушался в ее стенанья,
И ангельского состраданья
Слезой блеснули очеса…
Так чистой каплею роса
В сиянье райского востока,
Так капля райского потока
Блестит на цвете голубом,
Который дышит лишь в одном
Саду небес (гласит преданье).
И он сказал ей: «Упованье!
Узнай, что небом решено:
Той пери будет прощено,
Которая ко входу рая
Из дальнего земного края
С достойным даром прилетит.
Лети — найди — судьба простит;
Впускать утешно примиренных».
Быстрей комет воспламененных,
Быстрее звездных тех мечей,
Которые во тьме ночей
В деснице ангелов блистают,
Когда с небес они свергают
Духов, противных небесам,[198]
По светло-голубым полям
Эфирным Пери устремилась;
И скоро Пери очутилась
С лучом денницы молодой
Над пробужденною землей.
«Но где искать святого дара?
Я знаю тайны Шильминара[199]:
Столпы там гордые стоят;
Под ними, скрытые, горят
В сосудах гениев рубины.
Я знаю дно морской пучины:
Близ Аравийской стороны
Во глубине погребены
Там острова благоуханий[200].
Знаком мне край очарований:
Воды исполненный живой,
Сосуд Ямшидов золотой
Таится там, храним духами.
Но с сими ль в рай войти дарами?
Сии дары не для небес.
Что камней блеск в виду чудес,
Престолу Аллы предстоящих?
Что капля вод животворящих
Пред вечной бездной бытия?»
Так думая, она в края
Святого Инда низлетала.
Там воздух сладок; цвет коралла,
Жемчуг и злато янтарей
Там украшают дно морей;
Там горы зноем пламенеют,
И в недре их алмазы рдеют;
И реки в брачном блеске там,
С любовью к пышным берегам
Теснясь, приносят дани злата.
И долы, полны аромата,
И древ сандальных фимиам,
И купы роз могли бы там
Для Пери быть прекрасным раем…
Но что же? Кровью обагряем,
Поток увидела она.
В лугах прекрасная весна,
А люди — братья, братий жертвы
Обезображены и мертвы,
Лежа на бархате лугов,
Дыханье чистое цветов
Дыханьем смерти заражали.
О, чьи стопы тебя попрали,
Благословенный солнцем край?
Твоих садов тенистый рай,
Твоих богов святые лики,
Твои народы и владыки
Какой рукой истреблены?
Властитель Газны, вихрь войны,[201]
Протек по Индии бедою;
Свой путь усыпал за собою
Он прахом отнятых корон;
На псов своих навесил он
Любимиц царских ожерелья;
Обитель чистую веселья,
Зенаны дев он осквернил;
Жрецов во храмах умертвил
И золотые их пагоды
В священные обрушил воды.
И видит Пери с вышины:
На поле страха и войны
Боец, в крови, но с бодрым оком,
Над светлым родины потоком
Стоит один, и за спиной
Колчан с последнею стрелой;
Кругом товарищи сраженны…
Лицом бесстрашного плененный,
«Живи!» — тиран ему сказал,
Но воин молча указал
На обагренны кровью воды
И истребителю свободы
Послал ответ своей стрелой.
По твердой броне боевой
Стрела скользнула; жив губитель;
На трупы братьев пал их мститель;
И вдаль помчался шумный бой.
Все тихо; воин молодой
Уж умирал; и кровь скудела…
И Пери к юноше слетела
В сиянье утренних лучей,
Чтоб вежды гаснущих очей
Ему смежить рукой любови
И в смертный миг священной крови
Оставшуюся каплю взять.
Взяла… и на небо опять
Ее помчало упованье.
«Богам угодное даянье
(Она сказала) я нашла:
Пролита кровь сия была
Во искупление свободы;
Чистейшие эдемски воды
С ней не сравнятся чистотой.
Так, если есть в стране земной
Достойное небес воззренья:
То что ж достойней приношенья
Сей дани сердца, все свое
Утратившего бытие
За дело чести и свободу?»
И к райскому стремится входу
Она с добычею земной.
«О Пери! дар прекрасен твой
(Сказал ей страж крылатый рая,
Приветно очи к ней склоняя),
Угоден храбрый для небес,
Который родине принес
На жертву жизнь… но видишь, Пери,
Кристальные спокойны двери,
Не растворяется эдем…
Иной желают дани в нем».
Надежда первая напрасна.
И Пери, горестно-безгласна,
Опять с эфирной вышины
Стремится — и к горам Луны[202]
На лоно Африки слетает.
Пред ней, рождаяся, блистает
В незнаемых истоках Нил,
Средь тех лесов, где он сокрыл
От нас младенческие воды
И где бесплотных хороводы,
Слетаясь утренней порой
Над люлькой бога водяной,
Тревожат сон его священный,
И великан новорожденный
Приветствует улыбкой их.
Средь пальм Египта вековых,
По гротам, хладной тьмы жилищам,
По сумрачным царей кладбищам
Летает Пери… то она,
Унылой думою полна,
Розетты знойною долиной,
Вслед за четою голубиной,
К приюту их любви летит,
Их стоны внемлет и грустит;
То, вея тихо, замечает,
Как яркий свет луны мелькает
На пеликановых крылах,
Когда на голубых водах
Мерида он плывет и плещет
И вкруг него лазурь трепещет.
Пред ней волшебная страна.
Небес далеких глубина
Сияла яркими звездами;
Дремали пальмы над водами,
Вершины томно преклоня,
Как девы, от веселий дня
Устав, в подушки пуховые
Склоняют головы младые;
Ночной упившися росой,
Лилеи с девственной красой
В роскошном сне благоухали
И ночью листья освежали,
Чтоб встретить милый день пышней;
Чертоги падшие царей,
В величии уединенья,
Великолепного виденья
Остатками казались там:
По их обрушенным стенам,
Ночной их страж, сова порхала
И ночь безмолвну окликала,
И временем, когда луна
Являлась вдруг, обнажена
От перелетного тумана,
Печально-тихая султана[203],
Как идол на столпе седом,
Сияла пурпурным крылом.
И что ж?.. Средь мирных сих явлений
Губительный пустыни гений
Приют нежданный свой избрал;
В эдем сей он чуму примчал
С песков степей воспламененных;
Под жаром крылий зараженных
Вмиг умирает человек,
Как былие, когда протек
Над ним самума вихорь знойный.
О, сколь для многих день, спокойно
Угаснувший средь их надежд,
Угас навек — и мертвых вежд
Уж не обрадует денницей!
И стала смрадною больницей
Благоуханная страна;
Сияньем дремлющим луна
Сребрит тела непогребенны;
Заразы ядом устрашенный,
От них летит и ворон прочь;
Гиена лишь, бродя всю ночь,
Врывается для страшной пищи
В опустошенные жилищи;
И горе страннику, пред кем
Незапно вспыхнувшим огнем
Блеснут вблизи из мрака ночи
Ее огромны, злые очи!..
И Пери жалости полна,
И грустно думает она:
«О смертный, бедное творенье,
За древнее грехопадение
Ценой ужасной платишь ты;
Есть в жизни райские цветы —
Но змей повсюду под цветами».
И тихими она слезами
Заплакала — и все пред ней
Вдруг стало чище и светлей:
Так сильно слез очарованье,
Когда прольет их в состраданье
О человеке добрый дух…
Но близко вод, и взор и слух
Манивших свежими струями,
Под ароматными древами,
С которых ветвями слегка
Играли крылья ветерка,
Как младость с старостью играет,
Узрела Пери: умирает,
К земле припавши головой,
Безмолвно мученик младой;
На лоне бесприветной ночи,
Покинут, неоплакан, очи
Смыкает он; и с ним уж нет
Толпы друзей, дотоле вслед
Счастливца милого летавшей;
В груди, от смертных мук уставшей,
Тяжелой язвы жар горит;
Вотще прохладный ключ блестит
Вблизи для жаждущего ока:
Никто и капли из потока
Ему не бросит на язык;
Ничей давно знакомый лик
В его последнее мгновенье —
Земли прощальное виденье —
Прискорбной прелестью своей
Не усладит его очей;
И не промолвит глас родного
Ему того прости святого,
Которое сквозь смертный сон,
Как удаляющийся звон
Небесной арфы, нас пленяет
И с нами вместе умирает,
О бедный юноша!.. Но он
В последний час свой ободрен
Еще надеждою земною,
Что та, которая прямою
Ему здесь жизнию была
И с ним одной душой жила,
От яда ночи сей ужасной
Защищена под безопасной,
Под царской кровлею отца:
Там зной от милого лица
Рука невольниц отвевает;
Там легкий холод разливает
Игриво брызжущий фонтан,
И от курильниц, как туман,
Восходит амвры пар душистый,
Чтоб воздух зараженный в чистый
Благоуханьем превратить.
Но, ах! конец свой усладить
Он тщетной силится надеждой!
Под легкою ночной одеждой,
С горячей младостью ланит,
Уж дева прелести спешит,
Как чистый ангел исцеленья,
К нему, в приют его мученья.
И час его уж наступал,
Но близость друга угадал
Страдальца взор полузакрытый;
Он чувствует: ему ланиты
Лобзают огненны уста,
Рука горячая слита
С его хладеющей рукою,
И освежительной струею
Язык засохший напоен…
Но что ж?.. Несчастный!., то сквозь сон
Одолевающей кончины
(Чтоб страшный своей судьбины
С возлюбленной не разделить)
Ее от груди отдалить
Он томной силится рукою;
То, увлекаемый душою,
Невольно к ней он грудь прижмет;
То вдруг уста он оторвет
От жадных уст, едва украдкой
На поцелуй стыдливо-сладкий
Дотоле смевших отвечать.
И говорит она: «Принять
Дай в сердце мне твое дыханье;
Мне уступи свое страданье,
Мне жребий свой отдай вполне.
Ах! очи обрати ко мне,
Пока их смерть не погасила;
Пока еще не позабыла
Душа любви своей земной,
Любовью поделись со мной;
И в смертный час свою мне руку
Подай на смерть, не на разлуку…»
Но, обессилена, томна,
Вотще в глазах его она
Тяжелым оком ищет взгляда:
Она уж гаснет, как лампада
Под душным сводом гробовым.
Уж быстрым трепетом своим
Скончала смерть его страданье,
И дева, другу дав лобзанье
С последним всей любви огнем,
Сама за ним в лобзанье том
Желанной смертью умирает.
И Пери тихо принимает
Прощальный вздох ее души.
«Покойтесь, верные, в тиши;
Здесь, посреди благоуханья,
Пускай эдемские мечтанья
Лелеют ваш прекрасный сон;
Да будет услаждаем он
Игрою музыки небесной
Иль пеньем птицы той чудесной[204],
Которая в последний час,
Торжественный подъемля глас,
Сама поет свое сожженье
И умирает в сладкопенье…»
И Пери, к ним склоняя взгляд,
Дыханьем райским аромат
Окрест их ложа разливает
И быстро, быстро потрясает
Звездами яркого венца:
Исчезла бледность их лица;
Их существо преобразилось;
Два чистых праведника, мнилось,
Тут ясным почивали сном,
Уж озаренные лучом
Святой денницы воскресенья;
И ангелом, для пробужденья
Их душ слетевшим с вышины,
Среди окрестной тишины
Сияла Пери над четою.
Но уж восток зажжен зарею,
И Пери, к небу свой полет
Направив, в дар ему несет
Сей вздох любви, себя забывшей
И до конца не изменившей.
Надежду все рождало в ней:
С улыбкой Ангел у дверей
Приемлет дар ее прекрасный;
Звенят в эдеме сладкогласно
Дерев кристальные звонки;
В лицо ей дышат ветерки
Амврозией от трона Аллы;
Ей видны звездные фиалы,
В которых, жизнь забыв свою,
Бессмертья первую струю
В эдеме души пьют святые…
Но все напрасно! роковые
Пред ней врата не отперлись.
Опять уныло: «Удались!
(Сказал ей страж крылатый рая.)
Сей верной девы смерть святая
Записана на небесах;
И будут ангелы в слезах
Ее читать… но видишь, Пери,
Кристальные спокойны двери,
И светлый рай не отворен;
Не унывай, доступен он;
Лети на землю с упованьем».
Сияла вечера сияньем
Отчизна розы Суристан,
И солнце, неба великан,
Сходя на запад, как корона,
Главу венчало Ливанона,
В великолепии снегов
Смотрящего из облаков,
Тогда как рдеющее лето
В долине, зноем разогретой,
У ног его роскошно спит.
О, сколь разнообразный вид
Красы, движенья и блистанья
Являл сей край очарованья,
С эфирной зримый высоты!
Леса, кудрявые кусты;
Потоков воды голубые;
Над ними дыни золотые,
В закатных рдеющих лучах
На изумрудных берегах;
Старинны храмы и гробницы;
Веселые веретени́цы,
На яркой стен их белизне
В багряном вечера огне
Сияющие чешуями;
Густыми голуби стадами
Слетающие с вышины
На озаренны крутизны;
Их веянье, их трепетанье,
Их переливное сиянье,
Как бы сотканное для них
Из радуг пламенно-живых
Безоблачного Персистана;
Святые воды Иордана;
Слиянный шум волны, листов
С далеким пеньем пастухов,
И пчелы дикой Палестины,
Жужжащие среди долины,
Блестя звездами на цветах, —
Вид усладительный… но, ах!
Для бедной Пери нет услады.
Рассеянны склонила взгляды,
Тоской души утомлена,
На падший солнцев храм[205] она,
Вечерним солнцем озаренный;
Его столпы уединенны
В величии стояли там,
По окружающим полям
Огромной простираясь тенью.
Как будто время разрушенью
Коснуться запретило к ним,
Чтоб поколениям земным
Оставить о себе преданье.
И Пери в тайном упованье
К святым развалинам летит:
«Быть может, талисман сокрыт,
Из злата вылитый духами,
Под сими древними столпами,
Иль Соломонова печать[206],
Могущая нам отверзать
И бездны океана темны,
И все сокровища подземны,
И сверженным с небес духами
Опять к желанным небесам
Являть желанную дорогу».
И с трепетом она к порогу
Жилища солнцева идет.
Еще багряный вечер льет
Свое сиянье с небосклона,
И ярко пальмы Ливанона[207]
В роскошных светятся лучах…
Но что же вдруг в ее очах?
Долиной Баалбека ясной,
Как роза, свежий и прекрасный,
Бежит младенец; озарен
Огнем заката, гнался он
За легкокрылой стрекозою,
Напрасно жадною рукою
Стараясь дотянуться к ней;
Среди ясминов и лилей
Она кружится непослушно
И блещет, как цветок воздушный
Иль как порхающий рубин.
Устав, младенец под ясмин
Прилег и в листьях угнездился.
Тогда вблизи остановился
На жарко дышащем коне
Ездок, с лицом, как на огне,
От зноя днéвного горевшим:
Над мелким ручейком, шумевшим
Близ имарета, он с коня
Спрыгнул и, нá воды склоня
Лицо, студеных струй напился.
Тут взор его оборотился,
Из-под густых бровей блестя,
На безмятежное дитя,
Которое в цветах сидело,
И улыбалось, и глядело
Без робости на пришлеца,
Хотя столь страшного лица
Дотоле солнце не палило.
Свирепо-сумрачное, было
Подобно туче громовой
Оно своей ужасной мглой,
И яркими чертами совесть
На нем изобразила повесть
Страстей жестоких и злодейств:
Разбой, насильство, плач семейств,
Грабеж, святыни оскверненье,
Предательство, богохуленье —
Все написала жизнь на нем,
Как обвинительным пером
Неумолимый ангел мщенья
Записывает преступленья
Земные в книге роковой,
Чтоб после Милость их слезой
С погибельной страницы смыла.
Краса ли вечера смирила
В нем душу — но злодей стоял
Задумчив, и пред ним играл
Малютка тихо меж цветами;
И с яркими его очами,
Глубоко впавшими, порой
Встречались полные душой
Младенца голубые очи:
Так дымный факел, в мраке ночи
Разврата освещавший дом,
Порой встречается с лучом
Всевоскрешающей денницы.
Но солнце тихо за границы
Земли зашло… и в этот час
Вечерний минаретов глас,
К мольбе скликающий, раздался…
Младенец набожно поднялся
С цветов, колена преклонил,
На юг лицо оборотил
И с тихостью пред небесами
Самой невинности устами
Промолвил имя божества.
Его лицо, его слова,
Его смиренно сжаты руки…
Казалось, о конце разлуки
С эдемом радостным своим
Молился чистый херувим,
Земли на время поселенец.
О, вид прелестный! Сей младенец,
Сии святые небеса…
И гордый Эвлис[208] очеса
(Таким растроганный явленьем)
Склонил бы, вспомнив с умиленьем
О светлой рая красоте
И о погибшей чистоте.
А он?.. Отверженный, несчастный!
Перед невинностью прекрасной
Как осужденный он стоял…
Увы! он памятью летал
Над темной прошлого пучиной:
Там не встречался ни единый
Веселый берег, где б пристать
И где б отрадную сорвать
Надежде ветку примиренья;
Одни лишь грозные виденья
Носились в темной бездне той…
И грудь смягчилася тоской;
И он подумал: «Время было,
И я, как ты, младенец милый,
Был чист, на небеса смотрел,
Как ты, молиться им умел
И к мирной алтаря святыне
Спокойно подходил… а ныне?»
И голову потупил он;
И все, что с давних тех времен
В душе ожесточенной спало,
Чем сердце юное живало
Во дни минувшей чистоты,
Надежды, радости, мечты —
Все вдруг пред ним возобновилось
И в душу, свежее, втеснилось;
И он заплакал… он во прах
Пред богом пал в своих слезах.
О слезы покаянья! вами
Душа дружится с небесами;
И в тайный угрызенья час
Виновный знает только в вас
Невинности святое счастье.
И Пери в жалости, в участье,
Забыв себя и жребий свой,
С покорною о нем мольбой
Глаза на небо — светом ровным
Над непорочным и виновным
Сияющее — возвела;
Ее душа полна была
Неизъяснимым ожиданьем…
На хладном прахе с покаяньем
Пред богом плачущий злодей
Лежал недвижим перед ней,
К земле приникнув головою;
И сострадательной рукою,
К несчастному преклонена,
Как нежная сестра, она
Поддерживала с умиленьем
Главу, нагбенную смиреньем;
И быстро из его очей
В мирительную руку ей
Струя горячих слез бежала;
И на небе она искала
Ответа милости слезам…
И все прекрасно было там!
И были вечера светилы,
Как яркие паникадилы,
В небесном храме зажжены;
И мнилось ей: из глубины
Того незримого чертога,
Где чистым покаяньем бога
Умеет сердце обретать,
К земле сходила благодать;
И там, казалось, ликовали:
Как будто ангелы летали
С веселой вестью но звездам;
Как будто праздновали там
Святую радость примиренья,—
И вдруг, незапного стремленья
Могуществом увлечена,
Уже на высоте она;
Уже пред ней почти пропала
Земля; и Пери… угадала!
С потоком благодарных слез,
В последний раз с полунебес
На мир земной она воззрела…
«Прости, земля!..» — и улетела.
Огнепоклонники[209] перевод Ю. Александрова
В зыбях Персидского залива
Дрожит ночная синева.
Луна встает неторопливо
И озаряет острова.
Стенам Гармозии[210] порфирным
Улыбку жалует она,
И к берегам, как будто мирным,
Нисходит с неба тишина.
Умолкло здесь бряцанье зелей[211],
Умолкли трубы. Ветерок,
Летящий от жемчужных мелей,
Так ласков… Так покой глубок…
Дыханье робкое зефира
Его никак не возмутит.
И башня на дворце эмира[212]
Не даст прохлады. Небо спит.
И сам Эмир хранит в покое,
Хоть вкруг — рыдание людское,
И воздух, коим дышит он,
Людским проклятьем отягчен.
Отмщенье рвется к изголовью,
Услышав сердца приговор.
Мечи готовы брызнуть кровью,
Чтоб смыть бесчестье, смыть позор,
Который власть Али Гассана,
Свершая черные дела,
На имя славное Ирана
Неотвратимо навлекла.
Но аравийскому тирану
Не много дела до того.
Покорно преданный Корану,
Раб изуверства своего,
Он, нанося за раной рану,
Знать не желает ничего.
Лишь трупы, трупы, горы праха
Неверных — вот его стезя.
Иначе до садов Аллаха
Добраться, видимо, нельзя!..
Кровь пролита его рукою,
В крови коленопреклонен,
Душой к небесному покою
Блаженно тяготеет он.
И на клинке господне слово[213]
Он лицемерно начертал,
Хоть сердце убивать готово
И злу покорствует металл.
Рука сатрапа не дрожала,
Вонзая лезвие кинжала,—
Ведь божье слово погружала
Она невинной жертве в грудь!..
А голова воображала,
Что это — к небу лучший путь.
Скажи, Аллах, каким же взглядом
Глядеть ты будешь на него,
Кто отравил смертельным ядом
Источник слова твоего?!
Глядеть, не шевельнув и бровью,
Как в книге дивной чистоты
Пестрят, испятнанные кровью,
Им оскверненные листы?!
Забыв добро, и честь, и меру,
Он черпал праведную веру,
Как трапезундская пчела[214],
Которая с цветов прекрасных,
На вид, конечно, безопасных,
Безумья взяток принесла.
Нет, аравийская твердыня
Не порождала до сих пор
Сатрапа, в чьей груди пустыня
Так накаляет грозный взор;
Чье беспощадное величье
И столь надменное обличье
Несет поверженным позор!..
Нет, никогда еще Ирана
Неумолкающая рана
Так не бывала глубока,
Так не взывала в ней тоска,
И под пятой порабощенья
Так не пылал огонь отмщенья!
Да, трон Ирана пал. Страна
В уныние погружена.
Ее сыны рабами стали.
Они гордиться перестали
Своей землей, своим трудом,
Они придавлены стыдом
И гнетом яростной печали.
А в храмах, некогда святых,
Поруганная вера их
Свет солнца славить прекратила,
Покорно голову склонила
К стопам врага. И — о, позор! —
Отступников презренный хор
Вознес моления Ислама.
Нет Митры. Нет Огня. Нет Храма.
Он превращен, увы, в мечеть.
Над головой — кинжал и плеть.
Но пленная душа народа
Все видит пламя небосвода,
Все порывается гореть.
Не может Солнце умереть!
Есть гордые сердца, в которых
Живет, как драгоценный лал,
Весь блеск заката. И во взорах —
Мечей сверкающий металл.
Взлетев над плитами порфира,
Испепелит он власть эмира,
Восстанет из огня Иран.
Так спи же, спи, Али Гассан!
Храни! Сиянье этой ночи
Увидеть неспособны очи
Убийцы. Ненавистью полн,
Ты не узнаешь звезд и волн.
Под этой лунной белизною
Твое владычество — как дым.
Владеет красотой земною
Лишь тот, кто любит и любим.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Как сладостно», — сказала дева,
Боясь отеческого гнева
Так, что звончайший голосок
Почти неразличимо тек;
И, глядя с нежностью во взоре
То в очи друга, то на море:
«Как сладостно сейчас луна
Сияет нам и как волна
Сегодня ласкова!.. Как воздух,
Струящийся в цветах и звездах,
Благоуханен!.. О, взгляни
На эти острова — они
На птиц похожи опереньем
И, кажется, зальются пеньем;
И вот взлетит один из них,
Неся себя и нас двоих
Туда, в простор бескрайный моря,
Где волны, с берегом не споря,
Вдаль унесут нас от всего,
Что гложет друга моего.
Хотел бы ты со мной одною
В раю над плещущей волною
Век провести в такой дали,
В безлюдье, на краю земли?»
Она с улыбкой поглядела
В его глаза. Но побледнела,
Увидев скорбь. И молвил он,
Ее любовью вдохновлен:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
«О, не смотри мне в душу боле.
Увы, судьба не в нашей воле.
Боюсь я только глаз твоих,
Боюсь очарованья их;
Они так нежны, так беззлобны,
Они одни столкнуть способны
Меня с назначенной стези…
Но только не вообрази,
В мою заглядывая душу,
Что полностью обет нарушу.
Моя обязанность прочна, —
Разлуки требует она.
Так собери же сердца силы:
По эту сторону могилы
Уже не встретимся с тобой.
О, не гляди с такой мольбой!
Не отвратить предначертания
И неизбежного деянья.
Но также не постичь уму:
Каким веленьем, почему
Мы, связанные небесами,
Здесь, на земле, уходим сами
От высших радостей любви?!
Прости меня. И не зови.
Ведь твой отец…» — «Отец не страшен!..
Пусть он владыка этих башен
И войск, — он любит храбрецов…
И он — нежнейший из отцов!
Он, оценив твой дух могучий,
Отринет гнев, столь неминучий.
Я помню детства своего
Необычайное мгновенье,
Когда, играя, в оживленье
Схватила как-то меч его.
И молвил он: «Тебя достоин,
Мое дитя, лишь храбрый воин.
Близки такие времена —
Они уже не за горою,—
Когда вскипит кругом война.
Ты — дочь моя. И ты должна
Подругой сделаться герою,—
Пусть завоюет он свою
Жену победою в бою!»
О, мой любимый, скорбным взором
Ты не гляди с таким укором.
Мы можем, умолив отца,
Соединить свои сердца
И жизни — для войны и мира!..
Вступи в ряды бойцов эмира,
Рази поклонников огня —
Получишь славу и меня!
Спеши в свой лагерь до рассвета,
И тень блеснувшего меча
Да будет счастьем. Участь эта
Прекрасна. Слава — горяча!
Но взор твой загорелся гневом…
Не создан ты влюбленным девам
Ни уступать, ни потакать.
Ну что ж — тем лучше: мы под стать
С тобой друг другу!..» Но несчастный
Вскричал: «О Гинда, замолчи!
Владей же тайною ужасной.
Да, в битве скрестятся мечи.
Но ублажать отца не буду
Я в этом яростном бою.
И чтоб сразить его — свою
Любовь к тебе навек забуду!»
Он скинул с этими словами
Свой плащ, и острыми глазами
Она увидела под ним,
Затянутый узлом тугим,
Широкий пояс — знак гебéра[215],
Огнепоклонника, — врага,
К чьей вере истинная вера
Была особенно строга.
Он продолжал: «Гляди, гляди
На этот знак, на этот пояс.
Тебя прижав к своей груди,
Я до конца тебе откроюсь:
Нет, не тебя сейчас искал
Меж этих неприступных скал,
А хищника, убийцу слабых.
Врага мы видим не в арабах,
А в нем одном, отце твоем,
И мы, клянусь, его убьем!
Мы отомстим за честь Ирана
Лишь извратителю Корана!
Увидел я издалека
На башне свет. Моя рука
Сжимала рукоять кинжала.
Душа моя принадлежала
Лишь мщенью. Я хотел найти
Стервятника. Но где-то рядом
Нашел голубку… И уйти
Ни с чем, сражен любовным ядом,
Теперь я должен. О, прости!..
Сейчас твоя, твоя победа.
Ее добилась ты, любя.
Увы, я не сдержал обета
И презираю сам себя!
Здесь предал я алтарь Свободы
И Солнца жизнетворный храм.
О, лучше б не встречаться нам
В такие дни, в такие годы!
Когда бы персиянкой ты
Могла родиться — мы бы знали
Лишь только счастье. Все мечты
Могли бы сбыться без печали.
Гуляли б мы в одних лугах,
Встречались бы в одной долине
И на единых берегах
Не разлучались бы отныне.
Так полюби же мой Иран!
Пойми, что твой отец — Тиран,
В беспечных некогда долинах
Губящий тысячи невинных.
Я должен жизнь за них отдать.
О полюбившая гебера,
Пойми, что и любовь, и вера
Должны лишь только сострадать!..
Но где же, где злодейству мера?!
Ты лишь оплакать обещай
Ушедшего с любовью страстной.
Оплачь и мой народ злосчастный.
Сигнал!.. Меня зовут. Прощай!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Арабы, вымостив дорогу
В ущелье диком и глухом
Своими трупами, числом
Врага теснили понемногу.
Мечи геберов их разили
Неистово, хоть и с трудом…
Арабы уж вообразили,
Что враг бесчислен. Со стыдом
Они, когда преграда пала,
Увидели в конце концов,
Что войску противостояла
Одна лишь горстка храбрецов.
Геберы с боем отступали,
Сгрудившись около вождя.
Иные там, на месте, пали,
Могилу меж камней найдя.
Бок о бок яростно сражаясь,
Другие шли, храня его,
К далекой башне приближаясь —
Вершине храма своего.
Гафед был — как могучий лев,
Что, половодьем Иордана
Захвачен грозно и нежданно,
Рванулся вплавь, освирепев.
Исполнив повеленье долга,
Уже теснимый с трех сторон,
Он удержал врага надолго
И тяжкий причинил урон.
Но, численной гонимый силой,
Он отступил. И скрылся вдруг.
Встают оскаленной могилой
Утесы мрачные вокруг.
В ущелье западню устроил,
Арабов заманив, Гафед.
Бесстрашьем он их злость утроил
И вдруг пропал — утерян след…
Куда теперь? Дороги нету!..
Исчез их факел огневой.
Летела стая прямо к свету,
Увлекшись гонкой роковой.
Но вот во мраке очутилась,
Внезапно выбыв из игры;
Теснима задними, сгрудилась
На склоне каменной горы.
Бредут бойцы неосторожно,
Клянут противника и мрак,
Да и себя клянут безбожно —
Что позабыли взять собак,
Что не разведали заране
Все тропы в логово врага…
Над самой бездной мусульмане,
Ее теряя берега,
Наверх, с отвагой безуспешной
Ползя с карниза на карниз,
Рванулись в темноте кромешной, —
Но рухнули куда-то вниз!..
Одни при этом превратились
В мешки с костями, — трупы их,
Влекомые водою, бились
О камни в безднах голубых…
Другие висли на утесах,
Кормя стервятников живьем,
И эхо воплей безголосых
Металось в ужасе кругом.
Той мести сладостные звуки
Настигнули Гафеда. Он
Лежал в горах, раскинув руки,
Уйдя в почти смертельный сон;
От жизни как бы отрешенный,
Свершивший все, что мог, лежал…
А рядом, кровью обагренный,
Дымился на ветру кинжал…
Свободе, вопреки неволе,
Ты посвятил себя всего,—
И сам Иран не мог бы боле
Спросить от сына своего!
Одна лишь мысль в его сознанье
Пронзила темное страданье,—
Как будто вырвался из туч
Один замешкавшийся луч.
На пустошь памяти унылой,
Где все погасло пред могилой
Уже, казалось, навсегда,
Взглянула чистая звезда!..
Нет, никогда тот образ милый
В его душе с такою силой
Из полной тьмы не возникал
И плоть свою не облекал
В такое нежное сиянье!..
Могучее очарованье!
Оно цвело в его крови,
Оно стирало тень любую
С неумирающей любви;
Но и равнину голубую,
Распахнутый простор морской,
Все видел взор его с тоской…
Темнел и колебался воздух,
И высь была в дрожащих звездах.
Но вот померкла и она,—
Пред ним была Любовь одна.
И вдруг раздался голос друга,
Окликнувший его из мглы,
И от предсмертного недуга
Гафед очнулся. Со скалы
Струилась ледяная влага.
Он пил ее, и вновь отвага
Взыграла в жилах. Друг лежал
С ним рядом. Он принадлежал
К числу героев беспримерных,
Самоотверженных и верных,
Отдавших делу жизнь свою.
Он чудом уцелел в бою,
Но так же тяжко был изранен
И смертной мукой одурманен…
«Все кончено, мой вождь, мой друг!
Враги сбираются вокруг,—
Их уцелевшие отряды,
Ища обещанной награды,
Тебя живым схватить бы рады.
Но близок наш Алтарь. Пойдем,
Оплот последний свой найдем!»
И, опираясь друг на друга,
Пытаясь вырваться из круга,
Они влеклись куда-то ввысь:
Одною волею упорной
Ведомые по круче горной,
Лучами Солнца облеклись.
Идут они, пятная кровью
Свой каждый шаг и каждый след.
Отчаянием и любовью
Полна душа твоя, Гафед.
Твой меч, блиставший в битве правой,
Сломился, разлучен со славой,
Померк его клинок в пыли…
Друзья идут. Они пришли.
Пред ними — храм. Под ними — море.
За ними — беспощадный враг.
Но с гибелью в последнем споре
Твой друг ступил последний шаг
И рухнул мертвым у порога
Святилища, призвавши бога!..
Ты одинок. Ты одинок.
Скончался друг. Пропал клинок.
Враги свирепые все ближе.
Алтарь зовет. Иди. Иди же!
Огонь священный недалек!
И вот, поднявши тело брата,
Вступает он в священный храм.
Так велика его утрата,
Что лучше бы погиб он сам!..
И вот он складывает в пламя
Ту жертву, что принес с собой.
Кончается в родимом храме
Последний путь — последний бой.
Костер высокий погребальный
На миг прощальный жарче стал
И как бы молнией печальной
Над морем ярко воссиял.
«О светозарный бог свободы,—
Вскричал герой, — прими меня!»
И сам шагнул, сквозь дни, сквозь годы,
В объятья жгучие огня.
Измученный смертельной раной,
Он был уже к страданью глух,—
И в тот же миг, такой желанный,
Унесся в небо скорбный дух.
* * *
Но что это за вопль над морем
Раздался вдруг в ночной глуши,
Исторгнутый внезапным горем
Из глубины другой души?
Он слышен там, на лодке темной,
Что боком зачерпнула свет,
Который дал костер огромный.
О Гинда, Гинда — вот ответ,
Ответ об участи Гафеда,
Чей жребий — смерть, а не победа!..
Да, это Гинда на борту
Скорлупки, медленно плывущей
Сквозь тягостную темноту,
Исхода битвы тихо ждущей.
С ней — воины. Но не отца.
С ней молчаливые геберы,
С ней ветераны, до конца
Испытанные слуги веры
Не мусульманской, а чужой,
В горах зажегшей пламя храма,
Которое легло межой
Меж ними и землей Ислама.
Эмира дочь была в залог
Захвачена, как щит от гнева
Властителя, который мог
Смягчиться, коль спасется дева, —
И пощадить иранских жен,
Коль будет их народ сражен.
Дабы помочь друзьям, геберам,
Они стремились по волнам
К убежищу, к своим пещерам,
Туда, где возвышался храм.
Спокойно в лодке одинокой
Они сидели — ночь долга…
Но вдруг вдали, во тьме глубокой,
Раздался грозный клич врага.
Раскат военного успеха
В ущелье повторило эхо…
Застыли весла над водой,
Гребцы прислушались — и снова
К ним донеслось, полно бедой,
Проклятое чужое слово.
И, ничего не говоря,
Геберы устремили взоры
Туда, где, призрачно горя,
Ночные озаряя горы,
Светилось пламя алтаря.
О Гинда! Передать не в силах
Любая кисть в чертах лица
Твой страх, когда застыла в жилах
Вся кровь предчувствием конца!
В твоем терзанье молчаливом
Уже нет места ни приливам
И ни отливам темных волн,
Качающих безмолвный челн.
Отчаянием и тоскою
Боль безысходная страшна.
Так под поверхностью мореною
Лежит во мраке глубина.
Но есть в агонии жестокой
Предел, таинственной рукой
Положенный для одинокой
Души: обещан ей покой.
Не плещут волны. Звезд алмазы
Молчанье полное хранят.
Но, как неведомые сазы,
Воспоминания звенят.
О радость прошлого, о счастье,
Звучавшее в твоей груди,
Покуда грозное ненастье
Таилось где-то впереди!..
Любовь лишь только прорастала
И расцветала, и тогда
Она мерцала и сияла,
Как первозданная звезда…
Так память сердца напоила
Страдалицу щедрей ручья,
И снова Гинда ощутила
Очарованье бытия.
Но вдруг очнулась. Где вы, грезы?
Она была в руках врагов.
И не помогут бедной слезы
У этих чуждых берегов!..
Но средь отчаянья и бреда,
Сквозь боль, и страх, и забытье
Одна судьба — судьба Гафеда
Еще тревожила ее.
Внемли: сигнал опустошенья!..
Кинжалы сжали храбрецы,
Решив рвануться в пасть сраженья.
Но поздно. Всюду — мертвецы.
Ваш вождь погибнет этой ночью,
Он больше в мире не жилец.
Вы все увидите воочью
Его торжественный конец.
В отрезок времени предельный,
Пока не пробил смертный час,
Одной тревогою смертельной
Ночная тьма терзает вас.
О Гинда! Ты сейчас могла бы
Все рассказать его друзьям.
Ведь эти люди — не арабы,—
Они поймут… Но где он сам?!
Прижавшись к мачте, в брызгах соли
Она стоит, преодолев
Наход отчаянья и боли.
Гафед сражается как лев.
Он может победить!.. Но что же
Там, наверху? Какой-то свет,
Какой-то факел… Боже, боже!
В огромном пламени — Гафед!..
Стоит он, простирая руки
К морской пучине, к ней самой,
Как будто ощущая муки
Любимой, там, за этой тьмой!..
В надмирной каменной лощине
Себя навеки хороня,
На миг восстал он па вершине,
Как воплощенный дух огня,—
И рухнул, искры рассыпая…
Вскричала Гинда: «Это — он!!»
В груди взметнулась боль слепая,
В устах застыл последний стон.
Ее надежда бездыханна.
Сейчас погибнет и она.
Страданием всего Ирана
Душа прекрасная полна.
Алмазно блещут неба своды.
Прыжок. И над ее тоской
Оманские всплеснули воды.
Все кончено. Настал покой.
* * *
«Прощай, о прощай, аравийская дева!»
(Так Пери запела под гладью морской.)
«Прощай! Ты не знала мятежного гнева,
Но ты исстрадалась великой тоской.
Еще не бывало жемчужины краше
Под этой зеленой оманской водой.
Лежишь ты в своей перламутровой чаше,
Оставшись прекрасной, навек молодой.
Ты — словно подводный цветок светозарный,
Сияющий, как золотое копье.
Опутано чарами страсти коварной,
Как чисто, как праведно сердце твое!
Как ветер горячего юга, иссушит
Печаль о тебе струны лютни любой.
Тот ветер весеннюю радость потушит
И жгучую боль приведет за собой.
Но память останется в сердце влюбленных
В Аравии дальней, где ты родилась,—
Она не угаснет на склонах зеленых,
Меж вами навеки останется связь.
Счастливые там о тебе по забыли,
На мели жемчужной лежащей на дне,
Где только морская звезда на могиле
Простерла лучи в неземной тишине.
Осенние свадьбы справляют живые.
Они веселятся. Но в звонкой гурьбе
Заплачут порой, услыхавши впервые
Рассказ о твоей несчастливой судьбе.
И девушка в тихой деревне, цветами
Убрав свои косы, взгрустнет у окна.
Прервав любованье своими чертами,
От зеркала вдруг отвернется она.
Ей вспомнилась ты, и любовные грезы
Нежданною скорбью уже смущены,
И вдруг проливаются девичьи слезы, —
Они солонее оманской волны!..
Прекрасный Иран никогда не забудет
Отдавшего счастье свое за него
И долго, и вечно оплакивать будет
Героя возлюбленного своего.
Останется этот герой несравненный
В народной душе образцом чистоты;
И в близости с ним пребывать сокровенной
Навеки, о Гияда, останешься ты!
Прощай! Мы несем к твоему изголовью
Все то, что нам глубь океана дарит.
Мы лал[216] драгоценный положим с любовью
Пускай он последний твой сон озарит!..
Пускай янтари[217] вкруг тебя замерцают,
Как слезы рыдающих чаек морских,
И раковины перламутром сияют,—
Мы, пери, так любим извилины их…
Мы будем, играя в коралловой чаще,
Тебе напевать в голубой глубине:
Спи долго, родная, спи глубже и слаще;
Мы злато и жемчуг добудем на дне…
Прощай! Храбрый воин с красавицей нежной
Оплачут героя, что сгинул в бою;
Оплачут и ту, что в пучине безбрежной
Окончила жизнь молодую свою!..»
Свет гарема[218] перевод Веры Потаповой
Что может быть прекрасней роз Кашмира, Пещер и храмов, солнечных ключей, Где, отражаясь, блеск живых очей Затмит сиянье всех сокровищ мира? В своем великолепии закат Горит на глади озера зеркальной. Так в зеркало невеста долгий взгляд Бросает, замедляя миг прощальный. Сквозь листья рощи алтари блестят — Святого часа тихая примета. У всякого свой собственный обряд: Плывут молитвы звуки с минарета, И ароматы в сумерки факир Из урны проливает вдруг на мир, И пояс в колокольцах на танцоре Звенит, вечерним песнопеньям вторя. На храмы и дворцы взгляни полночной Порой, когда не ведает преград Луна, лия на мир свой свет молочный, И рассыпают звезды водопад, А соловей поет, и взрывы смеха, И звук шагов нескромно ловит эхо В укрытьях, полных неги и прохлады, Где юность черпает свои услады. Зато заря нам чередой из тьмы Выхватывает чудеса: холмы, Фонтаны, кущи, храмы — наважденье Иль утреннего солнца порожденье? Цветы ночные, как прекрасных дев. Бог ароматов бросил, охладев. Осины юные[219] дрожат всем телом: Повеса-ветер стал не в меру смелым. И заблистал восток зарею ранней, Как пылкий пламень первых упований. И бьющими сквозь горные врата[220] Лучами сплошь долина залита.О нет! Ни днем, ни в час ночной, Ни знойным летом, ни весной Долина эта не была Столь искрометно весела И упоительно светла: Любви и блеска средоточью,— Теперь сиять ей днем и ночью![221] В благоухания поток Бальзам льет каждый лепесток. Кашмирцы рады, как событью, Раскрытью столепестных роз В алмазных брызгах свежих рос. Незримой связанные нитью, Стремятся и сердца к раскрытию. Озерная, померкнув, гладь Прохладой сумерек дохнула. Светило дня, устав пылать, Зашло за пальмы Барамула[222]. Сменилась свежестью жара И солнца свет — сияньем лунным. С подушек расшивных пора Поднять головки девам юным. На склонах Белы кто бы счел Жужжащих над шафраном пчел? А нынче ночью жизнь долины Напоминает рой пчелиный. Древесную тревожит сень Игра огней неугомонных,— Светилен, факелов бессонных,— И гонит прочь ночную тень. Все купола и минареты Их блеском праздничным согреты. С такою силой в этот час Сияют факелы и плошки, Что на утоптанной дорожке Без напряжения видит глаз Мельчайший лепесток неслышно Осыпавшейся розы пышной. Но покрывала жен и дев Остались дома. Лик румяный, Очей блистанье, осмелев, Нам в этот вечер осиянный Они открыли: как-никак День кончился, сгустился мрак. И толковал им каждый встречный В толпе веселой и беспечной, Что небывалый лунный свет — Одна из праздничных примет, Что розы, даже вполовину, Так не блистали никогда, Что девы в прежние года, Подавно, даже вполовину Не украшали так долину, А нынче здесь апофеоз И дев пленительных, и роз.
Цветов тьма-тьмущая, засилье! Как будто красок изобилье, Оттенков, ароматов смесь За целый год с лугов и куще Собрали, чтоб рассыпать здесь, В долине, этот мир цветущий! Недвижны озера струи. Оно, как сад плавучий, дышит И на поверхности колышет Венки волшебные свои. Не умолкает гулкий звук Ладоней, бьющих в барабаны, И пляски топот неустанный. А муэдзин, на светлый круг Взойдя, поет, и снизу вдруг В ответ — пленительный и странный, Из ближнего гарема, — дев И жен доносится напев. Раскатистые звуки смеха В садах подхватывает эхо. Качелей шелковых размах Превыше рощи апельсинной Веселью этому причиной Иль шалости детей в шатрах? Присмотру нет! Какой с них спрос? У всех в руках охапки роз. А томный шепот в лодках, весел плеск, Что рассекают сребролунный блеск? Там берегá живым, своеобычным[223] Журчаньем, словно музыкой, полны, И звоном отвечают мелодичным Они на каждый поцелуй волны. В Китае древнем из камней прибрежных Так создан был источник звуков нежных. Но в колдовскую ночь имеют власть Над сердцем девы только лютни струны, И с них перстами воздыхатель юный Мелодию старается украсть. Такую благодать вообразить нельзя! С возлюбленной — какое упоенье! — При свете лунном лютни слушать пенье, По дремлющему озеру скользя. Нам скрасит женщина и худший в мире край! Суди, какой создаст она в Кашмире рай.
Так помышлял могущественный сын Акбара[224], покидая стан военный, Трофеи, клики ратные дружин, Дабы лететь в Кашмир благословенный, Что розами в те дни благоухал,— К тебе, о Свет Гарема, Нурмахал[225],— Чтоб лавры победителя с венчанной Главы сорвать и со своей желанной Над озером бродить, когда она Плетет гирлянды, резвости полна. Венцу военной славы не сравняться С венком, что вам свивает чаровница. За нежный завиток на шее Джехангир[226] Готов отдать престол, а с ним и целый мир!
Бывает красота, что неизменным светом Нас долгий день томит, как солнце знойным летом. Ее роскошный блеск не в силах даже тьма Смягчить, но красоте печать своеобычья Нужна, и потому уснет любовь сама, Устав от монотонности величья. Нет! Прелестью иной дышала Нурмахал, Изменчивой, как мягкий свет осенний, Просеянный сквозь лиственные сени, Когда их ветерок беспечный колыхал. От миловидности ее движений Казался мир прекрасней и блаженней. И этого сиянья мимолетность Избыток живости ее чертам Внезапно придавала: то устам Улыбчивость, то взору искрометность. Мерцая, эта зыбкая краса Могла б истаять в смутном ореоле, Как сны, что посылают небеса Живущим праведно в земной юдоли. Порой витала грусть вокруг ее чела, Но грация всегда ей спутницей была. Подобно ветерку, что делает набеги На цветники, она рассердится чуть-чуть, Но ей остывший гнев лишь прибавляет неги: Цветы становятся пышней, коль их встряхнуть. Как небеса ночные в звездный час, Сияющая бездна темных глаз Скрывала в глубине исчерна-синей Свет чувства потаенною святыней. При этом Нурмахал была игривей пери, Которым отперли висячих клеток двери.[227] Из глубины души струился без помех Ее чарующий и полный жизни смех. Кто б мог сказать — глаза, уста или ланиты Сильней всего у ней сиянием облиты? Так, солнечно смеясь, озерная вода Серебряную рябь колышет иногда. Сам отпрыск царственный сильнейшей из династий, Был Джехангир у Нурмахал во власти, Хотя гарем его мог, цветнику под стать, Цветами множества чужих земель блистать.[228] Великий Солиман[229] за это чудо мира Всем златом кораблей, плывущих из Офира[230], Способен был воздать, но рядом с Нурмахал Красавиц юных блеск немедля потухал. В ней свет гарема был для Джехангира!
Теперь святая ночь услад Раскрыла для сердец влюбленных, Луны сияньем упоенных, Свой призрачный, волшебный град Из перлов и гирлянд цветочных И звезд мерцанья полуночных. В его блестящей суете, Где трон воздвигнут красоте, Где веселятся непрестанно И не смолкает юный смех, Лишь грустноликая султана Чело скрывает ото всех.
Увы, нередко, в одночасье, С пустого слова несогласье Родится между двух сердец, Хоть от людского осужденья Лишь крепла, вместо отчужденья, Любовь… Неужто ей — конец? Не так ли гибнет без причины Корабль среди морской пучины? Изведав бурю не одну, Он в ясный день идет ко дну. Не вихрь, не смерч любовь потряс: Безделица, словцо не к месту, Значенье, приданное жесту, Иль просто вздох в недобрый час. Слова пробили брешь, — и, груб, Поток словесный рвется с губ, Себе проход расширив тесный. Утрачен взоров блеск чудесный, Которым славились они. Исчезла голосов напевность, Что придавала задушевность Речам, звучавшим в оны дни. Любовь склоняется к закату, Суля приятностей утрату. Связь двух влюбленных до поры Им кажется нерасторжимой. Как весело поток с горы Стремит свой бег неудержимый! Глядишь — и мчатся наобум Два рукава по руслам двум. Почем им было знать, что реки Возможно разлучить навеки?
Но, попеченьем о любви Занявшись, уз ее непрочных Ты опрометчиво не рви. Держи ее в цепях цветочных. Она с восточным божеством Давным-давно сочлась родством. И пусть ее в полях небесных Сидит в оковах легковесных, Венками, как индийский бог, Обвита с головы до ног! Свяжи ей крылья: миг паренья Сотрет сиянье с оперенья. У райской птицы на лету, Расставшись с блеском горделивым И радужным своим отливом, Крыло теряет красоту[231].
Найти нетрудно образец Того, как рвутся безрассудно Приязни узы обоюдной По прихоти шальных сердец. Пушинкой, легким серебром Небес любви в разгаре лета Коснулось облачко — примета Невинная, но грянул гром. Теперь Селиму на чело Такое облачко легло, И, может быть, оно — виновник Того, что образ Нурмахал Из сердца своего изгнал На время царственный любовник. И в эту праздничную ночь, Когда сады, луга и рощи, Полны благоуханной мощи, Влюбленным силились помочь, В печали, нелюдим, один Бродил окрест Акбаров сын. Так птицам Фракии на суше Нет отдыха, ни на воде, И называют их везде «Отверженные богом души». Напрасно райские услады Сулили Джехангиру взгляды, Улыбки миловидных уст: Пред соловьем хоть мириады Цветов рассыпьте, если пуст И гол взрастивший розу куст! Селим приветствий не слыхал, Шагая сквозь толпу во мраке. Одной улыбки Нурмахал Не стоят раболепства знаки. Не счесть поклонников светила, Но у него есть небеса — Его Единственной краса… В ту пору Нурмахал грустила! Вдали от праздничных утех, В своих покоях ото всех Она скрывалась ночью лунной Вдвоем с кудесницей Намуной, Чье вдохновенное чело Бог весть как долго солнце жгло, Свой круг верша. К чему нам втуне Счет времени сейчас вести, Что не мешало так цвести И столь прекрасной быть Намуне? Как ветер западный цветы Лишь освежает, красоты Ей только прибавляли годы, Презрев слепой закон природы. Но грусти тайной отблеск зыбкий Сквозил подчас в ее улыбке. Когда про горние миры Пел голос девы вечно юной, Никто, игре очей Намуны Дивясь, не знал, с какой поры, Отколь взялась она в подлунной?
Был у нее великий дар: Ей против демонов заклятья Известны были без изъятья, Многоразличье мантр[232] и чар И талисманы золотые, Каких страшатся духи злые. Таков арабский талисман, Всегда носимый на запястье Затем, чтоб отвести злосчастье, Коль встретится в пути шайтан. Любовь ушедшую вернуть, Утраты понимая суть И колдовским владея даром, Взялась Намуна с чувством, с жаром. Настал полночный час, и вот Сквозь листья жимолости козьей, Что обвивает переплет Окна, жасмин свой запах льет. Нам всех нектаров и амброзий, Когда цветы дневные спят, Дороже дивный аромат, Которым ветерок долины Поят махровые жасмины. «Цветы и травы в час такой Обильны силой колдовской! — Намуна молвила. — Растенья Собрав, пока не рассвело, Венчают спящему чело, И зрит он дивные виденья, Как духи солнца, что шатры Ткут на закате для игры, И, лучезарное, блистает Жилье, покуда не растает. Теперь мне время вить венки Из нераскрывшихся бутонов. Луна, дыханьем хладным тронув Их сомкнутые лепестки, Своей блуждающей любовью Цветы измучив, даст им власть Над снами — призрак ли заклясть Иль пери вызвать к изголовью?» «Венок, творящий волшебство? Скорей, скорей сплети его!» Так Нурмахал нетерпеливо Добыть ей просит это диво. И выбегает на тропинку Проворней, чем лесная лань, — Сбирать и складывать в корзинку Благоухающую дань, Чтоб свить из множества растений Венок волшебных сновидений. Она в саду срывает вскоре И сагару — «златое море»,— И лилию, и анемон, И восхитительного древа Цветы, что прячет Камадева[233] В колчан, — индийский Купидон. В его божественнойтени Раскроют лепестки они. И ворох влажных тубероз, — Малайи белого сандала,— Чтоб сонмы сребролунных грез Его дыханье возбуждало. А тубероза в этот час, — Пресветлая «Царица Ночи»,— В наряд венчальный облачась, Благоухает что есть мочи! Из амарантов бархатистых Венки пурпурные надев И лютни слушая напев, Гулять под сенью рощ тенистых — В обычае малайских дев.[234] И амаранты Нурмахал Срывала алые, как лал. Без луноцветов белоснежных Не обошлось! Их на прибрежных Утесах различить могли б Вы, огибая Серендиб, Покуда пламенел закат, И волн плесканью мелодичных Как бы сопутствовал гвоздичных Деревьев пряный аромат. Рвала прекрасная с усердьем Цвет амриты, чей дивный плод Богов обрадовал бессмертьем, И базилик, чей скромный род Лишь охраняет в склепы вход, Не говоря о розмарине, Что тратит аромат в пустыне. Цветам в корзинке Нурмахал Не довелось остаться втуне: Все то, чем сад благоухал, Посыпалось в подол к Намуне!
С земным восторгом не сравнится Волненье, с коим чаровница Склонилась над живой красой, Сияньем лунным упоенных, Ночной обрызганных росой, Цветов и злаков благовонных. Нездешний, сумрачный экстаз Сверкал из глуби темных глаз. С душой цветов желала слиться, Их ароматами дыша, Миров неведомых жилица, Завороженная душа. С питавшим девы бытиё Огнем душистым — клад цветочный Смешал, блистая, в час полночный Благоухание свое. Воды ложбин земных не зная, Росу сбирая по кустам, Она жила, и снедь земная Чужда была ее устам. Взялась волшебница за дело. Творя загадочный обряд, Она венок, за рядом ряд, Плела и песнь такую пела:
«Я знаю приют легкокрылых снов, Что спящих на ложе тревожат. В росистых венчиках дивных цветов На заре они крылышки сложат.
Гений любви посещает во сне Спальню девы украдкой, Покинув душистый жасмин при луне В такой же истоме сладкой.
Чело нищеты озаряющий свет Надежды на благополучье Родит миндаля серебристый цвет, Одевший нагие сучья.
Сокровища призрачных кладов блестят В ночи, а зарею ранней, Скрываясь в горной траве, золотят Зубы жующих ланей.
Убийц устрашает зловещий фантом. Поспешно ладонь отдерни От мандрагоры: призрака дом В ее раздвоенном корне!
Не подходи, затаивши дух, К мандрагоре, — чар средоточью,— Что криком пронзительным ранит слух Тому, кто сорвет ее ночью.
Виденья больной, уязвленной души, Обиду сносящей без гнева, Рождаются в благоуханной тиши Из раны коричного древа».
Когда красавица издельем Волшебным обвила свое Чело и впала в забытьё, Навеянное чудным зельем, Неуловимый ветерок Подкрался к ложу спящей девы, И полились его напевы В нежнейший уха завиток. Дыханье первое зари Так входит в раковин чертоги, Где Кама и другие боги Под шум прибоя спят внутри, Когда восход над морем Красным Алеет пламенем всевластным. И этот ветерок певучий Исполнен был живых созвучий, Как благовоньями богат, Летящий над шатрами, жгучий Азаба вихрь, его собрат, Несущий мирры аромат. Тут музыки и света — двух Стихий чарующих слиянье — Крылатый появился дух, С лицом, исполненным сиянья, И, песней услаждая слух, Над изголовьем Нурмахал Крылами воздух колыхал:
«Поющий фонтан — мой сладостный дом; Я Чи́ндары[235] звонкой жилец беспечальный. Меня луносветлый венок волшебством Покинуть заставил дворец кристальный.
Там лютня звучит в окрестных кустах, И песня — под сенью любого древа. Из сердца идущий вздох на устах Сдается только началом распева.
У ног своих ты увидишь Его! Будь порукой, венок сребролунный, В том, что умеют вершить колдовство Отрадной лютни певучие струны.
В эфире парящая песнь — моя! Моя замирающих звуков пега, Что в сердце тают, слезы лия, Как в море упавшие хлопья снега.
И сладостный трепет, басовой струной Рожденный, души обновленье сулящий, И мускусный ветер, волну за волной Колеблющий и ароматом поящий.
Подвластен мне сонм ушедших услад. Они моему талисману послушны, Чей легкий звон призовет назад Их гениев хоровод воздушный.
И песня, в которой душе душа Желанья любви изливает бессонно. Не так ли, из рощи в рощу спеша, Ей голубь песет семена кинамона?[236]
Я с нынешними наслажденьями смесь Былых и грядущих составлю днесь. Я их сочетаю в пропорции дивной. От этого станет их связь неразрывной.
Так памятью звук, что недавно затух, Связуется с новым, чарующим слух. К мелодии чудной дано надежде Вести нас от песни, звучавшей прежде.
Воителя душу мое волшебство Смягчает, как те белоснежные перья, Что реяли в битвах на шлеме его, Приметой отваги и высокомерья. А нынче сделал вздох безмятежный Игрушкой своей убор белоснежный.
Когда моя песня, виясь прихотливо, Входит в девичьих сердец тайники, Прекрасные очи горят молчаливо, Как звезды небесные, их двойники».
Зажмурилась, на миг блеснув,[237] Заря, как будто вновь уснув. А Нурмахал, при пробуждение, Взяв лютню, тронула струну, И помогло ей наважденье К волшебному вернуться сну. Остался в лютне шорох дальний Амброзией пропахших крыл Того, кто с ней в опочивальне Минувшей ночью говорил. «О волшебство, продлись! Моим Навеки должен стать Селим!» — Раздался нежный голос девы, Несродный смертных жен устам И внятный разве только там, Где райские звучат напевы, И шепот ангелов святых, И вздохи сладостные их. Не молкнет лютня, слух лаская. Ее из рук не выпуская, Трепещет Нурмахал: а вдруг До сумерек угаснет звук? Ход жизни нам твердит извечно, Что упоенье быстротечно! Но не случилось незадачи, Лишь стала музыка богаче, И, сладкозвучная вдвойне, Родит струна в другой струне, Подобный эху, отзвук дивный, Медлительный и заунывный.
Любовью мучим неотвязной, Ходившей по пятам за ним, Какой-нибудь забавой праздной Свой ум занять решил Селим. Могущественный Джехангир В садах дворцовых задал пир. Дивясь величью Шалимара[238], Блеснула первая звезда. Со всех сторон, устав от жара, Созданья чудные туда Стеклись толпой, чтоб из бассейна Испить воды благоговейно, Поскольку здешние ключи Содержат красоты лучи.[239] Среди прекрасных юных лиц Бродячих видели певиц, Что услаждают властелинов Других земель, Кашмир покинув. Кто в мире вам споет утешней И мелодичней девы здешней? Там было много чаровниц, Гарема ханского жилиц, И робких, словно антилопы, Златоволосых дев Европы, И дев, нежнее нильских роз, Благоуханней их нектара, И юных пери Кандахара, Что зельем золотым зарос, И узкоглазых дев Китая, Которым нравилось, мечтая, Сидеть в беседках расписных И, опираясь на перильца, Следить, как бабочкины крыльца Обильем красок неземных Сверкают перед взором их. Цветка роскошного покой Тревожит их воображенье: Должно быть, мотылька круженье Прервалось колдовской рукой. Он, сделавшись цветком, вздыхает И сладостно благоухает… Там были девы кипрских скал, И украшал хрусталь пафосский Затейливые их прически. Там не было лишь Нурмахал! «О Нурмахал, тебя здесь нет, Единственной во всей подлунной, Столь обольстительной и юной, Чьей ласковой улыбки свет — Как блеск желанной путеводной Звезды, что над пучиной водной, С надеждой глядя в небосвод, Гребец отыщет в сонме звездном, Дабы в своем боренье грозном По ней ладьи направить ход»,— С тоскою думал Джехангир, Взирая на постылый мир. Среди лютнисток между тем, Покинув к вечеру гарем, Укрылась чаровница сразу, По образцу арабских дев, Их маску с прорезью надев, Откуда можно было глазу Блистать, как черному алмазу. Биенье сердца своего Ей слышалось в толпе кипучей. Скорей бы лютни волшебство Испробовать позволил случай!
От множества плодов и вин Ломился стол, и, как лампада, Светились гроздья винограда Златые, что взрастил Казвин. Тут были разных стран дары: И мангустины — плод малайский, Что вправду вкус имеет райский, И сливы древней Бухары. Гранаты, яблоки и груши Несчетных видов и сортов, Что в Индию доставил сушей Кабул из тысячи садов, И «Семя солнца» — абрикосы, Чья родина — седой Иран, Его цветущих гор откосы, И финики, что караван Привез из Басры, и орехи, Из Самарканда, без помехи В тюках прибывшие в Кашмир, Где Джехангир устроил пир. Варенье тешит глаз багрянцем: Оно — из вишен с померанцем И дикой ягоды, досель У нас незнаемой, однако Ее охотно ест газель В лесистых зарослях Ирака. Обильней, слаще во сто раз Сдаются чудных фруктов груды От златокованой посуды, Корзин сандаловых и ваз. Где суета сует причиной Тому, что поглощен пучиной Был остров[240] средь Индийских вод, Из века в век, из года в год Удачливые водолазы Вылавливают эти вазы. Их достают со дна морей, Чтоб украшать пиры царей. А вин оттенки, их краса? Вино «Розóльо» в засмоленных Бутылях — светлая роса Из виноградников зеленых! Струя ширазского в стакан Течет расплавленным рубином. Не о таком ли Кублай-хан[241] С другим восточным властелином Вел торг? Но был не по карману Рубин заветный Кублай-хану.
Вино вкушая в изобилье, Чтоб не осталось уголка Сухого в сердце, где пока Любовь, сложив уютно крылья, Могла и отдохнуть слегка, Селиму вспомнить бы не худо, Каков индийский Купидон: Струе из винного сосуда Ладью, смеясь, вверяет он. Поэт напряг воображенье — И видит Камы на венке Из лотосов, как в челноке, По Гангу синему скольженье. Он улыбается, плывя И в солнечной воде ловя Своей улыбки отраженье.
Чтоб двигались быстрее чаши, Их должен подстрекнуть напев. И вот нашлась певица, краше Своих подруг, тифлисских дев. Когда в предутреннюю рань, Глазами, темными, как вишни, Блестя, идут они из бань, Того, кто слаб, — спаси всевышний От сладкой пагубы очей, Что льют поток своих лучей! Сиринды[242] струн рукою белой Она коснулась и запела. В той музыке и песне был Заклятья исступленный пыл:
«Приди, о, приди! Здесь ночи и дни Текут в упоеньях и праздности дивной. Как волны, друг друга сменяют они И сладостно длятся чредой непрерывной. Любовь, угасая, любви иной Без спора свое уступает главенство. Коль скоро на свете есть рай земной — Это он! Это он! Тебя ждет блаженство.
Там дева вздыхает, как амры цветок, Внезапно раскрытый пчелой сладострастной. Слеза ее — капля, что небо в поток Роняет, жемчужиной сделав прекрасной, А вкус поцелуя, улыбки одной Цена, если издох и слеза — совершенство? Коль скоро на свете есть рай земной — Это он! Это он! Тебя ждет блаженство.
Ангел — и тот предпочтет нектар Здешний — Эдема ручьям алмазным, А звездам небесным — неистовый жар Женских очей, что дышат соблазном. Он, осушая кубок хмельной, Забудет горних миров благоденство. Коль скоро на свете есть рай земной — Это он! Это он! Тебя ждет блаженство».
Но показалась бедной, скудной Грузинки песнь: ее мотив Другая лютня силой чудной Преобразила, подхватив. Притихли гости в изумленье: «Должно быть, ото шелест крыл, Которым ангел Исрафил Нам возвестил свое явленье!» Другого голоса певучесть Решила первой девы участь, И струн чарующих язык В сердца пирующих проник. А лютня, с голосом не споря, Звучала так, певице вторя, Что музыка и голос дивный, Сплетаясь, были неразрывны:
«Есть упоенье превыше того, Что в песне славила юная дева: Сужденное двум сердцам родство, Душа без фальши, чело без гнева. До перехода в мир иной Любить, невзирая на несовершенства! Коль скоро на свете есть рай земной — Это он! Это он! Тебя ждет блаженство».
О нет, не сладостных созвучий Очарованье, не слова: Дав музыке размах могучий, В уста и струны звук певучий Вложила сила волшебства. Певицу хором называли «Арабской девой в покрывале». Хотя старался удержать Селим свои восторги в тайне, Он, будучи взволнован крайне, Велел ей жестом продолжать.
«Бежим в пустыню! Для тебя Сурова ткань шатра льняная, Но лучше жить в шатре любя, Чем во дворце, любви не зная.
Безмерно радуется взор, Скользя по скалам каменистым, Цветам акации душистым Средь Аравийских наших гор.
Как здесь, на мраморных дорожках В безлюдных царственных садах, — Газель на серебристых ножках Резвится там в нагих песках.
Поверь своей арабской деве! Полюбишь ты мои края. Цветком акации на древе Благоуханным стану я,
Я стану резвою газелью, Твоей приязнью дорожа, Твоей отраде и веселью С усердьем ласковым служа,—
Лишь будь любовь твоя кристальна, Как чибисом открытый ключ[243], Что чистотой первоначальной Блестит, лиясь меж горных круч.
Но если загасил ты пламень Другой любви и обронил Беспечно драгоценный камень, Что в сердце издавна хранил,
И если ты, предавшись гневу, Рукою грубою разбил Кумир возлюбленной, а деву, Чтоб дать мне место, разлюбил,—
Прощай! Чем дни связать свои С твоей любовью вероломной, Пусть лучше озера струи Мне домом станут ночью темной!»
Не сила колдовской науки, Но обольстительные звуки, Уста, которым равных нет, Лишенные земных примет, И пафос песни, а не лира Проникли в сердце Джехангира, Неизгладимый врезав след. Иною жаждою палим, Отбросив кубок непочатый, Вскочил стремительно Селим, Как будто пламенем объятый, И обнял деву, перед ним Стоящую среди палаты.
И в этот миг слетело с уст Невызываемое имя Той, без которой мир был пуст, Со всеми благами своими: «О Нурмахал, о Нурмахал! Я все забыл в одно мгновенье, Когда чарующее пенье Не ухом — сердцем услыхал!» Теперь ее черты и краски Сияли без докучной маски. Едва приметная, сошла Морщинка с белого чела И этим придала, без спору, Цены устам ее и взору. Не раз, под звездами Кашмира, Она, в объятьях Джехангира, Задаст ему, смеясь, вопрос: «Любимый, помнишь Праздник Роз
Любовь ангелов[244] перевод А. Шараповой

В тот ранний век, когда Вселенной
Лишь начат славный был полет
И время путь свой неизменный
Считало, глядя на восход
Светил, и счет держало дням,—
На светлых склонах, по холмам,
Чужды печали и грехам,
Встречались с ангелами люди,
О чем как о великом чуде
Теперь рассказывают нам…
Никто не помышлял о блуде,
И люди, взоры подымая,
Смотрели в ангельские очи,
Что им с небес светили к ночи,
Покой Земли не нарушая.
Но страсть сгубила это счастье
Тогда же, на заре земли,
И грустно, что зажечься страстью
Не люди — ангелы могли!
Сыны небес заклеймены
Из-за любви земной жены!..
Раз трое юношей лежали
На склоне в предзакатный час,
Благообразьем поражали
Черты их лиц, сиянье глаз.
Они смотрели то и дело
В ту даль, где свет смыкал крыла, —
Печать высокого удела
На всех троих видна была.
Их блеск рожден был небесами.
Недавно эти существа,
Как бы пылинки под лучами,
Играли днями и ночами
В сиянье вечном Божества.
Они о небе вспоминали,
Но и о власти милых чар —
Их постепенно подчиняли
Цветы и вечер. Светлый дар,
Полны истомой сладострастья,
Цветы смягчают ночи тьму…
И каждый, вспомнив день злосчастья,
Друзьям поведал, почему
Лишился неба навсегда,
Когда, как птица из гнезда,
Взглянув на мир земли мятежной,
Забыл свой дом для страсти нежной!
Рассказчик первый на челе
Печати чистоты примерной
Не нес — и потому к земле
Привыкнул раньше всех, наверно.
Он не был вышнею десницей
К Престолу Славы приближен —[245]
Он был из тех, что вереницей
Возносятся на небосклон.
Из центра только слабый свет
До малых сих дойдет нет-нет.
Не сплошь небесному влиянью
Он подчинял свои желанья;
Хоть райский в нем огонь зажжен,
Неверен и изменчив он.
Увы, не вдруг питомца рая
Любовь паденью обрекла,
И прежде красота земная
Его томила и влекла.
И ныне, в прошлом прозревая,
Как разрушители могил,
Наносные слои срывая
Над прахом, — он заговорил.
История первого ангела
Давно то было и далече —
Там, где златой горит Восток,
Где темной ночи краток срок
И где Природа дню навстречу
Бежит, как другу на порог.
В предутренней парил я сини,
Господню весть земле неся,
И вдруг увидел — о, доныне
Прекрасную забыть нельзя —
Одна из чудных смертных жен,
Хоть был прикрыт, но отражен
Лик в чистом зеркале ручья,
Лишь так его мог видеть я.
Вода ручья не утаила
Ни отблеска ее красот,
Но так туманно это было,
Казалось, сон меня несет.
И я, застыв в полете сразу,
Глядел: в ручье лучи зажглись,
И брызги, брызги, как алмазы,
От рук ее взлетали ввысь.
Но я надеялся поближе
Всмотреться в то, что сверху вижу.
Услышав, как мои крыла
Над ней трепещут опахалом,
Она в испуге замерла
У вод, служивших ей зерцалом.
Она казалась струйкой снежной,
Застывшей над водой прибрежной;
Стыдливость, удивленье, страх
Я прочитал в ее глазах,—
Головку запрокинув мило,
Она внимательно следила
За мною, и ее мечты
Стремились вслед за мной по кругу.
Так за лучами с высоты
Следят подсолнуха цветы,
Хоть цепкий корень верен лугу.
И без охоты, но желая
Младую деву уберечь
От жара, что, во мне пылая,
Мог невзначай ее обжечь,—
Я крыльями прикрыл свой взгляд,
Смежил я веки, но лишь миг
Прошел, украдкою назад
Хотел взглянуть я, — виноват! —
Чтоб увидать прелестный лик.
Но за мгновение она
Укрылась вся в листве дремучей —
Как будто светлая луна
Пропала в черных лапах тучи.
Не выразить словами власти,
Нет! — деспотизма новой страсти!
С тех пор мечтой я полон был
Всегда одной — проведать, где бы
Ее сыскать… Я позабыл
Мою благую цель и небо;
Я помнил только тот ручей,
Где встретился внезапно с ней.
Красой земного существа
Пленившись, стал и я любим,
Я слушал дивные слова —
Поистине лишь серафим
В раю мог состязаться с нею,
Когда он пел, в молитве млея.
Я ей в глаза глядел: казалось,
В них то же небо отражалось,
Но только голубее, чище,
Чем светлое мое жилище!
Да что мне вечный тот простор,
Коль рядом этот дивный взор!
Был небосвод бы тускл, увы,
Когда б любовь не украшала
И песнями не оглашала
Его пустынной синевы!
Два мира для меня отныне
Раздельных были: то жилье,
Где свет был Леи, и пустыня —
Простор Вселенной без нее!
И все же я лелеял тщетно
Мечту добыть огонь ответный,
Вкусить плоды любви земной;
И вырвать я хотел крыла,
Маячившие за спиной,
И сжечь в земном огне дотла!
Недвижная стояла Лея
При пламени моих очей;
Так в солнечных лучах лилея
Становится еще бледнее…
Любовь ко мне дышала в ней;
Но ангела она любила
Без всякого земного пыла;
Не так, как смертная жена
Мужчину полюбить должна;
Как часто ясными ночами
К звездам мечта ее влекла,
И ей хотелось за плечами
Большие ощутить крыла,
Дабы свои края глухие
Для вольной позабыть стихии!
Она сидела предо мной
И говорила со звездой,
Той, что из облака ночного,
Как бы из брачного алькова,
Ловила звук земного слова:
«Поскольку быть мне суждено
Душой вон той звезды далекой,
Чей жребий славный быть равно
Единственной и одинокой;
Мой долг — молиться и блистать
И пламя солнечного лика
Пред скинией как дар поднять
Тебе, предвечный мой Владыка!»
И так она проста была,
Так незнакома со страстями,
Что чувств моих не поняла.
Меж тем меня сжигало пламя,
Сам ад пылал во мне огнями.
Я помню, как она глядела,
Когда признание слетело
С моих горящих уст! Она
Была не гневна, лишь грустна,
Лишь скорби в ней была печать —
А скорби незачем кричать.
Ей было страшно оттого,
Что неземное существо,
Чье чувство было ей подмога,
Чтобы душа взлетела к Богу, —
Что ангел чистый должен пасть,
Что и его сгубила страсть,
Низвергнула с вершины славы!
Всю глубину моей вины
Представит ли рассудок здравый?
Часы уж были сочтены,
Что здесь я, на Земле, гостил, —
Так Бодрствующий возвестил.[246]
(Когда внезапно метеоры
Ночные озарят просторы,
Узнайте все — то вестник был!)
Я знал пароль, иль заклинанье,
Что должен ангел произнесть,
Когда он выполнил заданье
И к небесам относит весть.
Мне на уста рвались слова,
Я близок был к свершенью долга,
Я крылья сдерживал едва
И в небо вглядывался долго,
Но сердце пронизал мне страх,
И заклинания благие
Оборвались вдруг на устах,
И крылья, будто бы другие,
Отяжелели вдруг — и ввысь
Уж никогда не поднялись!
Нет, я не мог оставить мир,
Где обретался мой кумир!
Лицо, речей волшебных звуки,
К ним душу повлекло мою…
Уж лучше с ней любые муки,
Чем одиночество в раю.
Но — к прошлому! В те дни, играя
На шумный праздник люди шли,
Толпа веселая, младая,
Словно цветы и зелень мая —
Краса проснувшейся земли.
Но всех затмила красотой
Она — хоть юное чело
Тень, брошенную прежде мной,
Как бремя тяжкое несло;
От горя и стыда она
Была, как первый снег, бледна.
И ощутил тогда я в теле
Прилив веселых, буйных сил,
То было дикое веселье,
И тот, кто боли не вкусил,
Не может понимать, что смех,
Обычный друг земных утех,
Порою боль несет в себе,
Что он является в борьбе
Несовместимых двух страстей,
Как свет из скрещенных мечей.
Есть вещи, что равно таят
И упоение и яд,
В них — тяга к тайному фантому,
Запретному и колдовскому:
Окутавший людей туман
Так дарит радугу — прелестный,
Непродолжительный обман,
Земле и небу столь известный.
Вина губительные капли[247]
Мне оросили рот уже,
И силы светлые иссякли
В моей бунтующей душе.
И непонятные дерзанья
Уже наполнили меня —
Тут было, может быть, влиянье
Того болотного огня,
Что в мир плывет с уходом дня…
И, страстью вновь влеком глубокой,
Туда я путь направил мой,
Где, как и прежде, дочь Востока
В тиши бродила одиноко
В такой же лунный час немой.
Зачем дарил, Создатель, ты
Глаза твоим крылатым слугам —
И где на небесах цветы,
Что ангел им назвался б другом?..
Она прошла спокойно мимо,
И уж опять к звезде любимой
Уста с приветом обратились,
И они ярче становились
И чистотой такой светили,
Как будто звездный пламень пили.
Хвалы достойна эта сцена!
Не будь мой мозг зажат в оковы —
Я знал бы, что она священна,
Внимал бы я святому слову,
Как там, в отчизне Всеблагого!
Я помню, как стоял тогда,
Пылая в собственном дыханье,
И страха полный, и стыда,
И светлого воспоминанья
Об уходящем навсегда.
На лик смущенный Леи бедной
Луч пал от моего крыла —
И я ее увидел бледной,
Без прежней красоты победной,
Что ангела смутить могла.
И ей глаза ее открыли
(Зачем Господь нам зренье дал?),
Что высших дух, носящий крылья,
О ней, о смертной возмечтал!
Как высоко над ним она
Потом была вознесена!
Увы, душа была слаба,
Вся та кипящая борьба,
Что я с моею страстью вел,
Была вотще. Любовь вложила
В мой полный трепета глагол
Печаль глубокую и силу:
«Ну что ж! Прощай! Сия планета
Не даст мне ни любви, ни слез,
Ни жалости, ни амулета,
Чтоб я его с собой унес;
Но взгляд один мне подари,
Как любящие — на прощанье,
Чтоб смог я сохранить внутри
Хотя бы след воспоминанья!»
Она склонилась на мгновенье
К руке трепещущей моей.
Припомню ли без умиленья
Бесстрашный взор ее очей?
Когда б трепещущие губы
Коснулись вдруг моей щеки!
О, как они мне были любы —
И как безмерно далеки!
«Хоть слово дай, хоть знак доверья
И я исчезну навсегда.
Смотри, уж шевельнулись перья,
Предчувствую — лечу туда,
В свой дом высокий. Так позволь
Прильнуть к тебе, плечом к плечу,
Бог милостив. Скажу пароль,
Расправлю крылья и взлечу!»
От слов моих в ее чертах
Запечатлелся смертный страх —
Цветок от суховеев юга
Так никнет на просторах луга.
Но, первые слова пароля
Едва, смятенный, вспомнил я, —
Как вдруг без ужаса и боли,
Оправившись от забытья,
Она в глаза мне заглянула,
Как бы догадка вдруг мелькнула
В ней, умудреннейшей из дев:
«Договори пароль, молю,—
И я тебя благословлю!»
И, поцелуй напечатлев
На лоб ее, я рек: «Люблю!»
Так были на земле впервые
Слова услышаны святые;
И тут она произнесла —
Как будто с уст моих сняла —
Святого заклинанья звуки,
И словно встрепенулись руки;
И троекратно повторилось
Заклятие в ее устах:
В нем твердость Веры воплотилась —
И не сомнение, не страх —
Лишь торжество в ее очах!
И вот уж в облаках летело
Украшенное славой тело,
И я, повержен в изумленье,
Увидел белых крыл паренье,
Растущих из ее спины.
Так новый ангел воспарил
В сиянье молодой луны,—
И встречу ей струился свет
(Здесь, на земле, такого нет) —
То Бог ей посылал привет!
Такой был свет лишь в том году,
Когда с благословенных сфер
Похитил, падая, звезду[248]
Изгнанник дивный Люцифер.
И ныне новое светило
Потерю небу возместило![249]
Сумел ли я перенести
Мою утрату? О, ничуть!
Я силился произнести
Пароль, дабы пуститься в путь.
Но что-то мне сдавило грудь.
Я стал молить: «О светлый Рай,
Надежду лишь на встречу дай!»
И трижды мой пароль я рек;
Но ни заклятья, ни моленья
Не помогли: меня навек
Как бы цепи сковали звенья.
Я сделал страшное усилье,
Дабы взлететь. Но тщетно! Крылья
Недвижны были и мертвы.
С тех пор, от ночи той злосчастной,
Я их влачу как груз напрасный.
Так Бог мой повелел, увы!
И долго я следил за той
Вотще светившейся звездой —
Тот одинокий островок
Мою мечту с земли увлек…
Она была верна лишь ей,
Своей звезде! Судил Пречистый,
Награду праведности истой! —
Там жить ей до скончанья дней.
Однажды (коль душе моей
То не пригрезилось) она,
Свет дивный обретя во мгле,
Послала нежный взгляд земле…
И если жалость ей дана
Там, в небесах, — ей жаль отчасти
Того, утратившего счастье,
Кто мучится во мгле ночной
И не покинет мир земной.
Но сон отхлынул в никуда,
И удалялась та звезда —
Надежды слабая примета —
Все дальше, дальше от меня,
Уже пылинка, капля света
В опустошенной чаше дня.
Когда из глаз моих вдали
Лучи ее души чудесной
Навеки в ночь и тьму ушли,—
В тот миг и свет любви небесной
Ушел, и я забыл рожденье
Свое, и дом, и день, и час,
Затмился чистый лоб в паденье —
И сам я на земле погас!..»
В стыде свое он кончил слово,
И не могла — увы — блеснуть
Ни искра пламени святого
Сквозь плоть его и ткань покрова —
Так был велик паденья путь!
Но на его ланитах стыд
Взрастил румянца цвет кровавый —
Так все еще заря горит,
Когда зашло светило славы.
Так речь он вел — и только раз
Прервал печальный свой рассказ
И поднял голову, средь туч
Тщась угадать счастливый луч
Своей звезды. Но только миг
Он так смотрел и вдруг поник,
Как бы удар его настиг,—
И к небу уж не поднял лик.
Другой из трех лицом был смел;
Пронзительный и гордый взор
Обозревал небес простор,
А может быть, и дале зрел,
В ту даль, где нет небес, ни света,
Ни звезд, ни тучи, ни планеты —
Там Бог сокрыл свои секреты.
И даже на исходе дня
Его крыла, распространяя
Все многоцветие огня,
Казались достояньем Рая.
Он, Руби[250], некогда меж теми
Блистал, кто власть над знаньем взял[251]:
Когда Пространство, Мысль и Время
Создатель наш завоевал,—
Дух Знанья Руби в годы оны
Вторым в ряду к Господню трону
Стоял по ангельскому чину;
Чтоб ангелу дойти до Бога,
Он должен одолеть пучины —
Путь столь же долгий, как дорога
Звезды в бездонные глубины.
Таков был Руби, в чьих очах,
Как память о минувших днях,
Дремала светлая печаль,
Чей голос эхом отзывался,
Спокойную тревожа даль,
И если Руби улыбался,
То складка губ была нежна,
Как будто юная луна —
Ущербный, отраженный свет,
Несущий чуждой славы след.
Вдоль гордого его чела
Тень грусти рано пролегла.
Хотя он некогда и знал
Минуты гнева и презренья,
Но вскоре же и утихал,
Как прежде, обратясь к смиренью;
Так вспыхнут в очаге огни,
Хоть ярки — коротки они,
Существованье их — мгновенье.
Не в силах тишину беречь,
Какая здесь установилась,
Лишь друг его закончил речь,
Раскрыл уста он — и явилось
Сиянье прежнее над ним,
Огонь угасший стал живым.
Черты лица и пламя глаз,
Как бы в согласии с устами
О том, как проклят Небесами
Он был, теперь вели рассказ.
История второго ангела
Вы помните ли времена,
Когда могучий Вседержитель,
Кому вся жизнь подчинена,
Нас вызвал в райскую обитель,
Дабы свидетельство мы дали,
Что тварь земная и звезда
Еще тогда не исчерпали
Господней воли и труда,
Дабы нам показать творенье,
Венчавшее его дела?
Так, пробуждая изумленье,
Надзвездному внимая пенью,
На землю женщина пришла[252],
Весь мир очами озирая
И души ангелов пронзая,
Как молния предгрозовая.
Забудете ли вы, как вдруг
Наполнил пробужденный дух
Сосуд ее нагого тела?
Казалось, изнутри блестело
При каждой мысли все сильней
Чарующее пламя в ней!
Не так ли небо в летний зной,
То синевой блистая ясно,
То покрываясь пеленой,
Меняет дивный облик свой,
Хоть в каждый миг оно прекрасно?
Не так ли храм, сокрытый тенью,
Вдруг осенит закатный луч
И, скрыт дотоль от наблюденья,
Он явится, красив, могуч,
И взор, дотоле равнодушный,
Заворожит красой воздушной?
Забудете ли вы, как немо
Она смотрела в глубь Эдема,
На облака, на океан,
Когда над ней крыла шуршали? —
Летел в заоблачные дали
Наш ангельский крылатый стан,
Оставив вопреки желанью
Ту, чье влекло очарованье.
С тех пор поныне длится время
Ее земного бытия.
Но в час, что я провел в Эдеме,
Я принял сладостное бремя,
И где б ни обретался я,—
Творенье дивное, она
Во всем была растворена!
Она в веках несет завет
Разумный, чистый и прекрасный,
И женственность — светильник ясный —
Приносит необычный свет
И возбуждает отклик страстный;
Так я в плену ее чудес
Забыл о чудесах небес!
Моя судьба была — явиться
Меж херувимов, равных мне,
И юным чудом вдохновиться.
Я чувствовал как бы во сне
Тех огненных цветов сверканье,
В которых вечности дыханье.
Я стал преследуем судьбой —
Великим юным совершенством,
Под чьим немеркнущим главенством
Ум не был властен над собой,
И мысли всех ночей и дней
Стремились безраздельно к ней.
Всепроникающую жажду,
Познанья жажду я постиг,
Которая, придя однажды,
Не умирает. А родник
Великой жажды не унял
И требовал, чтоб я узнал
Кумиров тайны и орудья,
Которым поклонялись люди,
Их сущность, цель, причины власти,
Их связанность с мечтой о чуде,—
Я весь был пленник этой страсти.
И звезды. Невозможно даже
Их счесть… Превыше облаков
Они несутся — экипажи
Для путешествия богов.
В исполненных страстей ночах,
Неутомимый, в их лучах
Я плыл, пока не ощутил
Всю силу огненных светил.
О простодушный! Много мене
Страданий я бы пережил,
Когда б в спокойствии и лени
С подобными себе я жил
И Знанием не дорожил!
Я с жадностью следил, куда
Идет блестящая звезда:
Как паутинка, луч тончайший
Указывал мне путь кратчайший
Меж солнцем и звездой ярчайшей;
Испытывал я солнца свет
И отделял от цвета цвет —
Потом летел, чтобы найти
От всех сокрытые пути;
Где страж крылатый на посту
Стеречь поставлен пустоту,
Там в хаос я глаза вперял,
Пустыню взглядом измерял,
Всех сущих вопрошая снова:
«О, есть ли души у лучей?»
Мечтал, чтоб луч звучал, как слово,
И ждал понятных мне речей.
Меня влекли в погоню эти
Пространства царственные дети,
Дразня и ускользая прочь
В глубокую, как бездна, ночь.
И, как скиталица комета,
Я навестил все храмы света,
Я пел, влекомый красотой,
И взоры вдаль стремил, воздеты
Туда, где девственно-младой
Мир звезд царил над темнотой.
В те времена моя мечта
Паденьем не была чревата.
Я людям чужд был. Красота
Средь светлых звезд была зачата.
Но в час назначенный, блистая,
Она затмила розы Рая!
Я, подчиняясь постоянству,
Взирал на Землю с той поры,
Забыв про вечное пространство,
Где блещут чудные миры,
Где предначертаны границы
Для каждой Космоса частицы,—
И славил бедный уголок,
Где видел след прекрасных ног!
Напрасно мне сияли лики
Далеких звезд — былой кумир! —
Напрасно я внимал музыке,
Что наполняла горний мир.
С тех пор к Земле, к Земле одной
Душа стремилась каждой думой,
Так груз вершины ледяной
Дарит гора земле угрюмой.
Нет, не любовь… Но это пламя
Имело гибельную власть:
Костер во тьме манит огнями,
И на огонь людская страсть
Летит, чтоб вмиг сгореть и пасть.
Превыше первого творенья
Меня влекла ее краса.
Такой не знали небеса
Чудесной силы восхищенья.
То чувство глубже и сильней
Любви. Неистовство страстей
Меня терзало и палило,
Но и в огне, идя на бой,
Великой женственности сила
Порядок утверждала свой.
О любопытства вечный жар;
Как мучился, как жаждал знать я,
Какой всесильной власти дар
Она скрывает под печатью
Своих к любви зовущих чар!
И что влечет к ее очам?
В том камне, что не скрыт в тени,
Двойной указан путь лучам,—
Так нас пронзят очей огни,
И дух сияет, как они…
Я долгую погоню вел,
И чем ясней я узнавал,
Каким он был, прекрасный пол,—
Меня сильней он поражал.
Я видел Еву — в царстве том,
Который Бог построил ей,
Чтоб первым овладеть лучом
Ее раскрывшихся очей.
Пред ней взор ангелов невинный
Склонялся, трепетом объят,
И побежденного мужчины
Любви преисполнялся взгляд.
Я видел, счастие их было
Недолгим. Легкие мечты
Ей вера быстрая внушила —
Подруга пылкой чистоты.
Она довериться готова
Любому ласковому слову!
Но ей пристало (как вменить
В вину прекрасному созданью
Грех общий наш?) стремленье к знанью,
Возвышенное, может быть,
Но данное, чтоб нас казнить
И выставить на поруганье!
Я видел: муж, вооруженный
Рассудком твердым, как алмаз,
Пал перед нею, побежденный —
Ее красой в единый час!
Так гибнет крепость ледяная
Под ласковой улыбкой мая.
Теперь он изгнан был из Рая,
Он благочестие свое
Забыл, впал в грех из-за нее[253]
(Но с ней он счастлив — блажь какая!);
Я видел, как за гранью зыбкой
Он покидал чертог небес;
Но, обольстясь ее улыбкой,
Он все простил ей — и исчез.
И слышал я, как трепет нежный
Он подавлял в груди мятежной.
Себя он смерти предавал,
Но «жизнь» — да, «жизнь»ее он звал![254]
Да, «Жизнь» — такое имя было
Тем обреченным ей дано;
Разбит, поставлен пред могилой,
«Жизнь! Жизнь!» — твердил он все равно.
Виновница земных смертей,
Она пошла за ним, пылая
Огнем потерянного рая
В извивах пламенных кудрей,
Сходящих по плечам до ног —
Столь дивная, что каждый мог
Простить ей милых душ утрату,
Лишь только бы жила она…
Он говорил: «Пока жива ты,
Жизнь нескончаемо длинна».
И мог ли я презреть созданье,
Чье слово каждое, черта
Несли такое обаянье?
Чьи правота, неправота
От Неба получили власть
Спасать, величить, мучить, клясть?
Я много помню с ними встреч
И после Евы. Новизною
Пленяла каждая. Их речь
То возвышала похвалою,
То унижала шуткой злою,—
Чтоб тем сильней восторг зажечь —
В тех, кто любил их исступленно…
О чудные земные жены,
В чьи руки — о, еще вначале —
Неосторожною рукой
Был брошен мир, чтоб суд свершали
Они над жизнию земной!
Сказать ли вам, как в синей глади
Я совершал свой путь большой,
Ища одну звезду в плеяде
Прекрасных телом и душой —
Таинственного существа,
Пусть мне подвластного всецело,
Но способами колдовства
Дабы оно вполне владело
(Неведомого Небу дела);
Чтоб в глубь ее души отныне,
Как любопытные шмели
К цветка душистой сердцевине,
Я б опускался: так влекли
Загадки тела, корни чар —
Великий женственности дар!
Исполнилась моя мольба
(Язык высказывает вещи,
Пред коими душа слаба!) —
Услышан был мой вопль зловещий.
Но где, на небе ли, в аду?..
О том рассказ я поведу.
Их много — светлые созданья —
Я видел их. Но лишь одна —
Достойной ангелов вниманья
Блистала красотой она.
О, как она свободно шла
По незнакомой мне планете!
Казалось, власть Небес дала
Ей гордые движенья эти,
И отмечал Небесный знак
Победной ножки каждый шаг!
Не просто прелесть — Идеал:
В ней все светилось глубиною,
Вздох этих губ благословлял,
А взор — он был не что иное,
Как странствие двух звезд ночное;
Отдавшись силе чувств вполне,
Он может нежным стать вдвойне,
А может гневом разразиться,
А может — в собственном огне
Сгореть, как солнечная птица!
Стан — гибче ветки, что цветет,
Лучами вешними согрета,
Округлее, чем спелый плод,
Опавший на исходе лета…
Не просто женственности дар —
Хоть это совершенство было,
Хотя ее несметных чар
Всем женам мира бы хватило;
Но Разум жил в прекрасном теле,
И чары Духа власть имели,
Что не зависит от предмета,
В котором пламень сей возник:
Цветы милы под солнцем лета,
Но Солнце — что ему цветник?
Господь был щедр. Он смог ей дать
Все ухищрения, все маски:
Несла ей юность благодать
Тепла, цветов весенних ласки,
Пока не стали гаснуть краски
И время мудрости печать
На чувственность не положило,
Чтоб с Красотою обвенчать
Ума божественную силу.
Душа Фантазии свободной
Все подарила ей одной:
Игривость детства, ум природный,
Блеск чувственности благородной,
Дух ангельский, огонь земной!
Природе нашей вопреки
Душой мы были с ней близки,
Как брат с сестрою двойники.
Все чары были ей даны,
Все прелести в ней сочетались:
И те, что к Небу взнесены,
И те, что на Земле остались.
Кто память сохранил, как я
Терзался болью непрестанно,
Как будто острие копья
Вновь бередит былую рану?
Кто вспомнит, как любви порыв
Таил в себе дыханье гроба,
Как вместе шли мы под обрыв,
Пока не сверглись в бездну оба?
Так мой она поймала взор —
Все дни и ночи я с тех пор
Невидимый с земли парил
Там, где ее шаги шуршали,
Пока все мысли не раскрыл,
Что в сердце у нее лежали:
Так чистого ручья вода
Не скроет гальки никогда!
Я слышал смех, я видел слезы,
Я был живым огнем влеком,
Я знал тоску ее и грезы —
Еще неведомо о ком,
Надежды те, что в нашей власти,
Смех, что кончается в тоске,
И среди светлых мыслей — страсти,
Как будто змеи в цветнике.
Все чувства открывал я там,
Присущие младым сердцам,
Ход мысли, гордой и мятежной,
Загадочный в душе столь нежной,
И наслажденье блеском славы,
Зовущим в даль иных веков,
И с ним — фантазии забавы,
Как в небесах игра орлов,
И ум, и сердца глубина —
Не то ль, что ловит Сатана?
Лишь раз прекрасное созданье
Влеклось с подобной силой к Знанью:
Хозяйка всех сокровищ Рая,
Лишенная лишь одного,
Взяла запретный плод, теряя
Навек блаженство за него.
В виденьях сонного ума
Я завлекал ее обманом;
Ведь мир ее был полутьма,
Где, слитый с чувственным туманом,
Рассудок вымыслами сыт
И, грезой наслаждаясь, спит.
Я открывал ей все обличья,
Все воплощения тщеты:
Силок, теряющий добычу,
В ничто несущиеся кличи
И анфилады пустоты;
Мир, где горенье угасает
И счастье гибнет без следа,
Где и надежда не спасает
И никнут крылья от труда.
Мой лоб, подобный диадеме,
Был полон мыслями в то время
О ней одной, всегда о ней,
Но злая страсть играла мною,
Я говорил ей: «Всем владей!» —
И взгляд ей застил пеленою.
Все, что казалось мыслью связной,
Вдруг становилось грезой праздной,
Все вымыслы ее ума
На мне сходились — на фантоме,
Других не знавшем целей, кроме
Желания сводить с ума,
Обидой ранить всех нескрытных,
Неопытных — и любопытных!
О, как я помню вечер тот.
Ее алтарь был тайный грот
В тени деревьев, и нет-нет
Сквозь ветви проливался свет
Зажженной в тайнике лампады
И наполнял собою сад
(Так зримой быть душе не надо:
К нам свет души доносит взгляд).
Она пред алтарем склонялась…
О, как ее лицо менялось —
Все страсти тех далеких дней,
Когда из-за нее сражалось
С землею небо, жили в ней:
Не знает туча, что трудней,
Коснуться звезд или камней.
Над ней как искорка витала —
Она, вся в свете тайны, встала
И ясным голосом сказала:
«О ты, кумир моей мечты,
Ты человек, иль дух прекрасный,
Иль полубог — кто б ни был ты,
Но ты не для меня, несчастной!
Ты тот, кто навевает сны,
После которых грех проснуться:
Раз таинства небес даны,
То жизни стоит ли тянуться?
Зачем же я тебя теряю,
Увиденного столько раз?
Вкусив блаженства, умираю?..
О возвышения дивный час!
Я знала о тебе, поверь,
Еще давно; и света жажда
Была в том сердце, что теперь
Воспламеняет взор твой каждый.
Здесь, рядом, на земле мне милой,
В морях и тверди голубой —
Все, все мою мечту манило,
Но надо всем был образ твой!
И жаждешь ли ты поклоненья
Или простой любви земной —
Сойди с небес хоть на мгновенье,
О нет, навечно будь со мной!
Я не смогу с тобой расстаться.
Открой мне чудо из чудес:
Не хочешь на земле остаться —
Так вознеси под свод небес!
Я знаю, у тебя хранится
Наимудрейшая из книг,
Дай заглянуть в ее страницы —
Я смерть приму за этот миг!
Крылами, что парят я эфире
На том великом рубеже,
Где взмах крыла в свободной шири
Собой являет мысль уже;
Кудрями, что горят, играя,—
В чьих кущах темно-золотых
Благоуханный ветер рая
Еще не навсегда затих;
И теми страстными очами,
Что свет расплавленный струят
Сквозь тело все — перед ночами
Так на море глядит закат,—
Молю тебя, боготворимый,—
О, на одну лишь ночь! — пролить
Мне на душу твой свет незримый.
О большем смею ли молить?»
Лишь эти жгучие слова
Слетели с уст, — ее глава
К ступени хладной прислонилась,
Как будто насмерть мысль разбилась;
И все один тревожный звук
Срывался с губ, — вздох тайных мук.
И вдруг смятение пропало,
И озаренное чело
Без страха предо мной сияло,
Как прежде чисто и светло,
Как будто бы я не был бог,
Но равный ей. А мой венок
Висел на выступе, над бездной;
И как бойцы спускают стяг,
Б день перемирья бесполезный,
Мои крыла упали так,
Или как облако, чей мрак
Скрывает молний ниспаденье,
Но не великих звезд рожденье!
Над всем царил покой. И я,
Влюбленный, гибельный, но нежный,
Ужо восторга не тая,
Предстал пред женщиной мятежной,
В чьей легкомысленной душе
Зачат был смертный грех уже.
И мир от края и до края
В одной ее любви исчез,—
И я не ведал, что теряю
Не только власть — сам свет небес!
Час пробил. — После этой фразы
Установилась тишина.
Бегущий не умеет сразу
Бег вспять направить. Так струна
Под расстаравшейся рукой
Издаст неверный звук с тоской —
И разорвется, часто руки
Трепещут от сердечной муки.
На время вспыхивать дано
Огню, что заглушен давно.
Но он-то знал: огня былого
Не возродить уж, не возжечь.
Вновь с уст немых сорвалось слово,
Вновь обрела звучанье речь.
— Что было мне всего дороже,
Я у Земли, казалось, взял.
Но обману ль Тебя, о Боже?
Я лгал, хвалился, пел — но все же
Нет счастья у того, кто пал.
О,горькие мои страданья
Тем горше были от сознанья,
Что средь мятежных вспышек Ада
Любовь несет свои огни —
От них не отводил я взгляда,
На Небо звали вновь они!
Одно мне облегчало грудь
И душу делало теплее —
Тогда еще я мог взглянуть
На юный лик моей лилеи…
Так жаждущий у ручейка
Глоток заветной влаги просит,
Но свежесть первого глотка
Лишь жажду новую приносит.
Так вот где счастье! Отражать
Тот свет, что сам есть отраженье
Твоих лучей, и ощущать
Вокруг себя ее круженье,—
Луны, к твоей склоненной тени!
Так значит — в наслажденье властью
Томленье высшее и счастье!
О гордость! Ни одна царица
В гордыне самой роковой
Так не решилась бы склониться
Над бездной… Дальше Первой, той
Она ступила… Так любим
Был ваш казненный херувим!
И вот еще: чем нестерпимей
Живое пламя страсти жглось,
Тем знание неутомимей
К загадкам сущего влеклось.
Все, чем Всевышний правит Бог,
То, что открыть очам он мог,
И то, что тайною облек,
От глаз людских сокрыл надежно, —
Увы, и эту пелену
Приподнял я неосторожно,
У жажды роковой в плену
Познав и то, что невозможно;
Она велела мне с тех пор
В мир тайный направлять мой взор.
В земле и в огненных пещерах,
И в дебрях ледяных ветров,
На дне и в тех пустынных сферах,
Где тайны распростерт покров,
Любовью были мы ведомы,
И было нам светло, как дома,
На тропах сумрачных миров.
Я мнил к ее ногам швырнуть
Все украшения людей,
И златом ей украсить грудь,
И крикнуть: «Все твое! Владей!»
Я выбрал средь всего алмаз,
Достойный света этих глаз,
Единственный из всех камней
Соперничать достойный с ней.
Я жемчуг взял из формы тесной,
Затерянной в пучине вод,
Сказав: «Зачем, такой прелестный,
Он в жалкой скорлупе живет?»
И жемчуга вкруг белой шеи,
Легли, под солнцем хорошея.
Хотя была мятежной силой
Ее охвачена душа,
Но женщина и пред могилой
Гордится тем, что хороша.
Она мои дары ценила:
Все, что к лицу, ей было мило.
Весь мир, лежавший нощно, денно
В тени моих могучих крыл —
Все, что прекрасно, дерзновенно,
Я предлагал ей неизменно.
Я помню, взор ее следил,
Как всходит яркая звезда,
И я, любя, любуясь ею,
Воскликнул: «Не смотри туда —
Звезда не может быть твоею!»
Но я искал, познанья друг,
Не только ореолов зримых,
Комет, вещественных чудес,
Которым дан объем и вес,—
Но тех, — для чувств неуловимых,
Невидимых для глаз людских,
Лишенных плоти — но живых,
От коих в мир проистекает
Великой жизненности пыл;
Всевышний Разум жизнь влагает
В цветенье трав, в лучи светил.
Так властен создавать лишь Разум.
Он начертал свободно, разом
Во мраке контур Бытия…
Как радуга семью цветами
Является после дождя,
Так слеплен мир Его перстами.
Он людям дал тогда завет,
Не уходить от уз судьбы,
И сам решил на много лет
Принять те узы без борьбы,
До той поры, пока рабы,
Пройдя сквозь боль и прегрешенья,
Добра познают возвышенье
И злобы и вражды крушение.
Всех беззаконных тайн начала,
Всю бездны суть (еще в тот миг
Она ни слова не сказала,
И мысль ее я не постиг)
Я ей преподал — и нимало
Ее наука не пугала;
Сквозил меж образов понятных
Причудливых фантазий бред,
И сонмы образов превратных
Вливались в жизни чистый свет.
Так ныне есть, так было встарь:
Не те для женщины цари,
Кому воздвиглись алтари,
А те, кто ей воздвиг алтарь!
Ее реченья были странны —
Они являлись из тумана
Ее смятенных заблуждений,
Но в них и зерна веры были,—
Во сне возникших просветлений,
Что гнали сон, но не будили.
Что до назначенных времен
Господь от чад сокрыть решил,
Свет, что таил дотоле он,—
Тогда неясно засветил —
Возвышенная благодать,
О коей Он велел молчать!
Так порождает Зодиак
Тот ложный свет у туч внутри,
Что на востоке гонит мрак
Еще задолго до зари.
Так Счастье улыбнулось нам,
Но счастье было быстротечным
Для той, чьим блещущим глазам,
Ввысь устремленным, к небесам,
По мало различавших там,
Я показался солнцем вечным
Иль духом вод, земли, эфира,
Влияющим на судьбы мира.
Но — гордость! — центром этой силы
Ты собственное сердце мнила!
И ум летел на крыльях речи
Туда, где круг земной исчез
Среди миров… Врата небес
Уж открывались ей навстречу!
Гордец счастливый! До сих пор,
Хотя был холоден мой взор,
Хотя двуликая печаль,
Вчера и завтра созерцая,
Глядела и назад и вдаль,
Хоть шла внизу волна глухая
Морей бездонных, — до сих пор
Я силе злой давал отпор
И, если боль не мог снести,
Был властен не произнести
Роптания… О, даже я,
Главою бросившийся вниз
Чрез все ступени бытия,—
Я знал: не может Судия
Простить греховный тот каприз.
О, только мученики знанья
Понять вольны мои страданья!
И в час, как в бездну я катился,
Я все еще Добру молился!
И небо я благодарил
За счастье, что она дала мне!
Зачем, зачем посажен был
Цветок пленительный — на камне?
Улыбка уст ее, играя,
Лила мне на душу бальзам —
Так месяц, бури не смиряя,
Дарит спокойный свет волнам.
Но часто сердце леденело —
Веян любящий меня поймет,
Так смотрят на родное тело
И думают: «Оно умрет!»
Я знаю, в существе любом
Она гнездится, в каждый дом
Она является — догадка
О том, что бренно все и шатко,
И землю, хладную, как лёд,
Под голову любви кладет.
Увы, ужасней всех утрат
Один лишь страх такого горя:
Мне не вернуть ее назад,
Как те снежинки, что летят
В волну бушующего моря…
Увы! Последнюю печать
Того, что я причастен Чуду,
Господь не пожелал отнять:
Я вечно жить в мученьях буду.
Но узы были так крепки,
Так нежен жест ее руки!
А более всего могучи
Ее глаза: пред ними тучи
Растаяли, распалась мгла —
И стала вновь земля светла!
Да, свежестью она дышала
Такой, что смерти угрожала,
И голос дивно молодой
Звучал гармонией живой —
Так звук волшебного смычка
Поет, чтоб пережить века.
И с губ, подобных алой розе,
Я испивал росу амброзий —
Тот сок, что красит спелый плод
В садах Эдема круглый год.
И все благоуханья рая
Я вновь почувствовал, хоть знаю,
Что эта страсть была земная —
И счастья длительного нет
Для нарушающих запрет!
И ей пришлось тонуть в болоте
Греховных вожделений плоти;
Но кто ушел оттуда жив
Иль душу не опустошив?
К вам возношу я голос боли.
В ком слезы есть, им дайте волю.
Тот дивный вечер перенес
Обоих нас на крыльях грез
В тот темный сад, где я — о, падший! —
Оставил мой венок увядший.
Я к ней слетел, сомкнув крыла:
Опасна яркость их была
Для глаз, которым ближе мгла.
И здесь — о, устоять кто мог
Пред звуками похвал несметных:
Я почитаем был — как Бог,
Любим — как ни один из смертных.
Всю ночь сидели мы вдвоем,
Блаженной тишине внимая,
И на челе живым огнем
Светилась дума роковая.
На пену волн и на жилье
Струили нежный свет созвездья.
Блаженный час — он для нее
Стал часом страшного возмездья!
Спокойная, с улыбкой нежной
Глядела в даль небес она —
Как обновляла дух мятежный
Торжественная тишина!
Она глядела вдаль с тоской.
О гордая! Ей ясно было:
Весь мир — не только луч дневной —
Нисходит в этот миг в могилу.
Последний, гибельный закат,
Которым дольний мир объят!
И мысль в груди заколотилась:
Птенец неловкий иногда,
Поняв, что солнце пробудилось,
Вспорхнет отважно из гнезда.
Светилась чудно пара глаз,
Как две наполненные чаши,
И было так, словно от нас
Ушли на время души наши.
И вот рекла, в глаза мне глядя,
Рукою теребя мне пряди:
«Я видела тебя во сне
Во всей твоей красе небесной,
Ты как святой был явлен мне,
Ты пел, как менестрель чудесный;
Ты был осыпан звездной пылью,
И твой венец весь был из звезд,
И сомкнутые мрачно крылья —
Ты вдруг расправил в полный рост.
Как пчелам нектар люб растений,
Благоухающих цветов,
Так для меня твой светлый гений
Весь мир вокруг затмить готов,
Чтобы тобой могла дышать я
И к сердцу твоему прильнуть,
Чтоб светлых крыл твоих объятья
Мне вечно осеняли грудь,
Чтобы, увидев это пламя,
Исполниться мне чистоты,
Чтобы, к тебе припав устами,
Святой я стала — как и ты!
Зачем столь яркое виденье
Должно исчезнуть навсегда?
Ужель ты явлен на мгновенье,
Как мимолетная звезда?
О, пробужденья я взыскую!
Хочу не духом в облаках
Тебя познать — но плоть земную
Хочу держать в своих руках,
Чтоб с гордостью сказать: небесный
Сей ангел, чей так светел вид, —
Сошедший свыше дух чудесный,
Мне, только мне принадлежит!
И красота блаженных лилий
Открыта небу напоказ —
Им надо, чтобы их любили,
Так мне ль скрывать себя от глаз?
И коль меня ты любишь так,
Как я тебя люблю, мой милый, —
Пошли мне преданности знак,
Блесни огнем с последней силой!
Я видела уже твой взгляд,
Его пугающее жженье,—
Те очи более страшат,
Чем к дальним звездам приближенье;
Отбрось покров угрюмых туч,—
Душа свиданья не боится,
Она вопьет твой каждый луч
И тайнам Неба причастится.
Не думай, милый дух, о том,
Что ты меня сожжешь крылами,—
Я стану высшим существом,
Подставив грудь под это пламя!»
Владетельница чар несметных,
Та, чью любовь ни бог, ни смертный
Отвергнуть не посмел, чья сила
Над всеми распространена,—
Уж раз она была бескрыла,
То Небо позвала она!
Полуслепые оба мы,
Как бедная людей планета
Не вся светла, не вся согрета,
Но часть ее в пучине тьмы
И лишь другая в царстве света,—
Не ведали мы наперед,
Когда ужасный час пробьет.
Но я закончу мой рассказ.
Одно желанье мною правит —
Столкнуть ужасный груз сейчас,
Иначе сердце он раздавит!
В тот миг вонзалось что-то в грудь —
Предвестье? — не могу сказать я…
Я встал на неизвестный путь,
Чреватый для двоих печатью
Погибели или проклятья.
Но эта дума отлетела,
Как при рассвете тяжкий сон,—
И дух открылся до предела;
Порой, гордыней ослеплен,
Конечность постигает он.
И что же! Небесам чужая,
Но суть свою превозмогая,
Она смотрела, не мигая,
На мой ужасный ореол,
Как смотрит в небеса орел,—
И вот тогда я ей открыл
Огонь расправившихся крыл,
Так просто, как в урочный срок
Летит светляк к ночному лугу
И на летучий огонек
Зовет желанную подругу.
Когда-то в облаках, дитя,
Я молнии будил шутя,
И сотни искр от крыл упали,
Зажгли полнеба и пропали —
А молнии на ложах спали.
Подстерегал ли я полет
Снежинок, в детстве мной любимых,
Как белых перьев хоровод,
Когда их ветер вдаль несет,
Срывая с крыльев голубиных,—
Они вкруг знойного чела
Кружились не переставая
И на горящие крыла
Ложились пеленой, не тая!
Так кто мне ныне запретит
Раскрыть навстречу ей объятья?
На лилиях ее ланит
Оставить нежные печати?
О, сомневаться ли я мог?
О, был ли опасеньем мучим,
Что в эту ночь сожгу цветок
Лобзаньем, как огнем летучим?
И в миг, как я крыла вознес,
Лучи приблизив к ложу грез,
Любуясь дивными чертами,
Нежней, казалось, стало пламя!
Как лезвия, что смерть несут,
Бессильны, вложенные в ножны,
Так чистой красоты сосуд
Смиряет наш огонь тревожный.
Я мыслей не страшился тех —
Так в заблужденье вводит грех! —
И перед светом этих черных,
Завороженных мною глаз,
Моим желаниям покорных,
Принять готовых мой приказ,—
Я отказаться был не в силах!
Я не хотел внушить ей страх,
Я ждал: в очах зажжется милых
Луч, что носил я в небесах!
И с ложа поднялась она,
Не страха — трепета полна.
Увы! Она держала разум
У ожидания в плену,
Подобно жрицам огнеглазым,
Что стерегут впотьмах луну,
Покуда их ночное бденье
Не доведет до исступленья.
А та корона из корон,
В которой я небесный трон
Оставил для земли, — взгляните,
Вон там, где облаков гряда,
Она покоится в зените,
Как негасимая звезда!
Все, чем владел, я отдал ей,
Все знаки сущности верховной:
И мягкий шелк моих кудрей,
И свет очей, как солнце, ровный,
Чей блеск утроил пыл любовный,
За что был дорог ей, греховный,
И грозное величье крыл,
Которые я вдруг раскрыл,
Как два искрящихся фонтана,
Метавших пламя неустанно!
И, гордый, я надел наряд —
Небесный плащ благоуханный,
Что к высшим торжествам своим
Хранит безгрешный херувим,
Как самый драгоценный клад.
Она вначале оробела,
Померк чудесный свет чела,—
Но вот взметнулась, обняла
Возлюбленное ею тело!..
О, как ее судьба горька,
И, Боже, как твоя рука
Могла так мстить? О, как горька
Судьба чудесного творенья!
И вот крылами чудных плеч
Лишь на короткое мгновенье
Коснулся я, и — ужас лютый! —
Огонь, что мог светить, не жечь,
Был проклят Богом в ту минуту,
Моими тяжкими грехами
Преображен в земное пламя!
Увы, быстрей, чем крыльев взмах,
Чем взгляд очей, она сгорела,
И, падший, я стоял в слезах
И дивной женщины в руках
Держал обугленное тело!
О щек румянец, коих краше
Господь Земле не подарил,
О свежесть губ, подобных чаше,
Где ангел жажду утолил!
О руки, поднятые прежде
В мечтах, в пленительной надежде, —
Желаний всех моих предел,
Когда на землю я слетел!
О, даже в миг, как грянул гром,
Те руки, в языках огня,
Последним, роковым рывком
Тянулись, чтоб обнять меня!
И пряди темные волос,
И шея белая меж кос,
Как парус, тонущий в волне,
О Боже, что бессмертье мне?
Сто гибелей бы принял я
За то, чтоб теплая струя
Ее живых волос ко мне
На грудь спадала в мирном сне…
Теперь она передо мной
Лежала черной головней!
Я, я тем недостойным был,
Кто эту красоту сгубил,
Из-за чьего пустого тщанья
Не оправдались обещанья;
Глупец ничтожный, мог ли знать я,
Что Смертью венчано Проклятье,
О Лила, пламенный: цветок,
Я гибель на тебя навлек,
И смерти той, кого люблю я,
Нетленный дух, не разделю я!
Не столько смерть была страшна,
Но тот восторг, с каким она,
В последний миг свой, вся в огне,
«Прощай, прощай!» — шептала мне!
И взгляд ее. О, этот взгляд!
Так мстить способен только ад!
О взгляд прощальный плоти бренной!..
Еще хранит тот взгляд мгновенный
Мой ум, бессильный забывать,
И губ еще на мне печать.
Она впилась в мое чело
Уже сгоревшими устами —
Лобзанье так меня ожгло,
Что хладным собственное пламя
Казалось мне, и, говорят,
То знак на мне поставил ад!
О, это страшное лобзанье!
Мне иссушает мозг оно;
Вот знак Господня наказанья —
Вот это черное пятно!
О чудный факел страсти грешной,
Пожар пришел из тьмы кромешной,
И кожа гордого чела
Чернее стала, чем смола,
И косы сожжены дотла!
И эта чудная жена,
Небес достойное творенье,
На муку мук обречена
За нежное одно сомненье!
О Боже Праведный, ответь —
Как мог ты этого хотеть?
И как могли святые губы
Явить ей приговор столь грубый?
Да, вынес я последний взгляд,
Который сердце в бездну влек,
Отчаянием был чреват,—
Я вынес губ и глаз ожог!
Тебя, Небесного отца,
Молю я, преклонив колени:
Пусть для такого гордеца,
Как я, отныне нет прощенья,
Прости лишь это существо!
Я наставлял ее в гордыне —
Так на меня на одного
Все муки возложи отныне!
Здесь два других. С какой мольбой,
Тобой казнимые сурово,
Они склонились пред Тобой,—
Еще Твое им нужно слово.
Им ведомо, каков удел
Высоких душ, прекрасных тел.
И если лучшим существам
Ты заблуждений не прощаешь,
То кто, скажи, спасется — там?..
Как видно, Ты земли не знаешь!
О Боже, ангелов казня,
Земную женщину прости:
Минуты хватит ей огня,
Уж большего ей не снести,
Воздай все мне, казни меня!
И он умолк, потупив долу
Свою прекрасную главу;
И два других его глаголу
Как сну внимали наяву.
И ночи скорбные порывы
С какой-то нежностью игривой
Взметнули перья белых крыл,
Для коих твердь Господь закрыл!
И гордые вздыхали глухо,—
И вняло им Господне ухо!
Когда бы благостного духа
Бог милосердный не явил,—
Не создал бы он Космос стройный,
Где чудно все объединил
В добре и красоте спокойной,—
И славен тем Владыка сил!
Колени преклонив, у древа
Стоят все трое… Чу! Напева
Несовершенный, робкий звук
Собой наполнил все вокруг,
Как будто лютни кто-то вдруг
Коснулся. Горлинка в лесу
Так шлет птенцам свои призывы.
Дано ли ей понять красу
Своеобразного мотива?
А нежный голос в тишине,
Как в раковинах эхо моря,
Донесся, следуя струне,
Всем звукам лютни нежно вторя,
От скорби та струна дрожала,
А песня это выражала,
Миры в полете направляя
К той мысли, что еще лежала
На струнах, юная, немая,
И воплощенья ожидала.
И каждый песне той дивился.
Но больше третий, тот, чей взгляд
Такою нежностью светился,
Как будто он остался свят,
Как будто бы, как все, наказан,
Он был Надеждой с небом связан.
Как жемчуг, в чашу всех печалей
В былые павший времена,
Сияет так же, как вначале,
Когда испита скорбь до дна,—
Так сверженного духа взгляд
Был кроток — после всех утрат.
Вот звуки полились. И двое
Других прислушались, дивясь,
Сдержав дыхание живое,—
Тем часом песня началась:
«Приди, развей мое сомненье,
Хранитель мой, любовь моя!
Вотще произнести моленье
Пытаюсь я: согнуть колени
Могла бы я в уединенье,
Но не молиться без тебя!
Здесь древо пышно зеленеет —
Растила я его любя,
Его огонь алтарный греет,
Но лет оно не одолеет —
Оно ведь тоже не сумеет
В цветы одеться без тебя.
Как утлый челн, что до рассвета
В струях угрюмого ручья
По воле волн блуждает где-то,
Как песня, что никем не спета,
Как птица, чье крыло задето
Стрелой, — я гибну без тебя!
С тобой съединены отныне
И жизнь моя, и смерть моя,
И если в солнечной гордыне
Ты явишься в лазурной сини,
Брось тень на странницу в пустыне —
Все легче так, чем без тебя».
Песнь смолкла. Там, где темный лес
Редел, три ангела стояли.
И вдруг, как бы сойдя с небес,
Лучи на них из тьмы упали.
То ясный свет лампады был.
Он на мгновенье озарил
Тех, что стояли под ветвями,
Потом на древо пало пламя:
Два ока из листвы зеленой
Глядели, как глаза влюбленной,
Когда она из-за дерев
Прогулку барда наблюдает
И повторяет нараспев
Все, что с любимых уст слетает.
Но ангел видел этот взгляд
И был в душе безмерно рад,
Что в одиночестве, средь ночи,
За ним следил чудесный взор,
Что вдруг мелькнули эти очи,
Как мимолетный метеор,
Чья жизнь — лишь миг, чью красоту
Мы постигаем на лету!
Слова любви: «Я здесь, с тобою,
С тобою, Нама», — достигали
Ее ушей, они звучали
И прежде с нежной добротою,
Напоминавшей дом отца,
С доверьем, сблизившим сердца
В привычках, общих до конца!
Звук, в коем все, что было прежде,
И то, что в дымке новых дней,
То, что скрывается в надежде
И память будит тем живей.
Он рассказал собратьям мало,
Но с трепетом ему внимало
Сочувственное ухо тех,
Чей непростительней был грех,
Кто пал ценой любви напрасной.
Вот повесть сей любви прекрасной!
Ее и не узнал бы свет,
Когда б во дни потопа Сет
Дощечек с надписью старинной
Не закопал в горах под глиной.
Так вот легенда о двоих,
Кто был лишен благословенья,
Или о страсти дней былых,
Любви первейших дней творенья.
История третьего ангела
Парящие вокруг престола
Огня и света сыновья,
Те, что как будто ореолы
Из средоточья бытия
Несли свой свет во все края
(Как эхо разглашает вдруг
Возникнувший в безмолвье звук),
К еще непознанным орбитам,
К мирам, доселе не открытым, —
Всевышней волею Закона
Ближайшими к Господню трону
Стояла серафимов стая,
Чей тайный знак «Любовь святая!»,
Что выше херувимов в званье
И честию их превзошли.
(И за пределами Земли
Любовь стоит превыше знанья!)
Так серафимом был Зараф,
Но даже серафим не каждый,
Девиз любви себе избрав,
Был полон так любовной жаждой;
Любовь была не просто частью
Его души и бытия,
О нет, он сам был этой страстью,
Как ветром — воздуха струя!
Когда Всевышнего чело
Огнем, пылавшим нестерпимо,
Все окружающее жгло
И торопились серафимы
Главу упрятать под крыло, —
Зараф в гордыне обожанья,
Казалось, сам огня искал
И в дерзостном непослушанье
Влюбленных глаз не опускал.
Когда же в звуках арф и пенье
Хор возносил благодаренья,—
Миг просветленья в небесах,
Когда, исполнены доверья,
Раскаявшиеся в грехах
Текли в небесное преддверье, —
Звучал с редчайшей чистотой
Зарафа голос в песне той!
Он пел, играл — и в ноте всякой
Жила гармония глубин.
Лишь ангел мог так петь. Однако
Не каждый ангел, но один!
Он весь был чистота и ясность…
Каков же был он в небесах,
Когда и здесь, где боль, опасность
Подстерегает каждый шаг,
Где и алтарь любви во храме
От змия днесь не огражден,
И часто перед алтарями
Скользит в часы молитвы он,—
Сей ангел чист был… Песнь, яви,
Какой же шаг неосторожный
Склонил от многоей любви
К любви единственной и ложной
Того, чью волю, чьи мечты
Связала сила красоты:
Любил он красоту венца
Созвездий дальних и горенье
Земных огней… Сильней Творца
Он возлюбил его творенья!
…На берегу ночного моря
Играла лютня, песнь текла,
И та, чей голос, лютне вторя,
Звенел, — любовь его была.
И ветер ей мешать не смел —
Так сладко этот голос пел.
И песня эхом повторялась,
Пока в огне не потерялась —
Там, вдалеке, где день за днем
По беглым волнам океана
В элизиум, за окоем
Откатывался непрестанно.
И песня восходила к Тверди
О Господе и бытии —
И об улыбке Милосердья
Пред страшным троном Судии;
О том, как Милосердье просит
За тех, кто Божий гнев выносит,
Об Искупленье, чья звезда
Сияет над Землей всегда:
Везде, где средь надежд и грезы
Высокой веры есть следы,
Смешались верующих слезы
Со светом той Любви-звезды!..
Исполнена благого духа,
Звучала нежно песня та,
Касаясь ангельского слуха,
Как благодатная мечта.
И Дух следил, как над волной
Прощался с миром свет дневной,
И думал: из воды, оттуда,
Доносит эхо это чудо:
Эдемом песня рождена —
Морской волной отражена.
Но не в волнах брала начало
Песнь, что на берегу звучала.
Он девы стан увидел нежной,
Где розовел песок прибрежный,
Где вал воды, устал и слаб,
К стопам чудесным припадает —
Владыкам так Востока раб
Приносит дар — и умирает!
Вдруг лютня кончила звенеть,
Боясь, что с красотой напева
Не сможет состязаться впредь.
Одна допела песню дева…
Та, что своей красой чудесной
Во всех любовь зажечь должна,
Зачем же волею небесной
Земной юдоли дочь она?
Любовь и музыка, вы стали
Как Вера нам, забывшим свет,
Напоминаньем, что вначале
Мы тоже в небесах витали,
Что в нас — высокой славы след.
В любви — знак райского преддверья:
Дитя земли, пока жива,
Любовь всегда приходит к Вере
С утратой сил и торжества!
И сердце, если влюблено,
Молитвой голову нам кружит;
К тому же музыка равно
Любви и благочестью служит:
В стихии звездной рождена,
Сошла на землю и она!
Но как он мог, чистейший, пасть?..
Он слушал — и не мог насытить
Свой слух той музыкой, чью власть
Нам у небес дано похитить!
Он слишком чувствовал и знал,
Что с ним за чудо совершилось:
Он ведал, что любовь терял
И что, утратив идеал,
Небес его душа лишилась!
Но славно это время было:
В лазурных небесах горя,
Впервые видело светило
Огонь любви — у алтаря!
Два сердца, что в одно слились,
В любви на жизнь и смерть клялись.
Он видел, как прекрасно это
Лицо под золотом венца,
Он знал, что нового обета
Она не даст, что до конца
Ему верна, как солнце свету!
И то был первый брак земной;
Изгнанник рая знал, что тут,
Близ той, кого нарек женой,
Достойный ангела приют!
И Дух, хотя он согрешил —
Блаженных сонму изменил
Для женщины с улыбкой нежной,
Хоть в зеркале души его
Дыхание любви мятежной
Заволокло лицо Того,
Кто судит с правдой неизбежной,
Хотя он за грехи свои
Наказан, — он глядит в высоты
И видит: очи Судии
Полны прощенья и заботы.
Они любовь своюхранили,
Но знали, что святой закон
В греховных ласках преступили —
И горький жребий им сужден.
Там, где Смиренье сеет семя,
Плоды добра приносит время
Для жатвы… И Смиренья свет
Был в сердце ангела и Намы —
Той Намы, для которой нет
Пути к вратам Господня храма;
Которая, смеясь, любя,
Пытаясь скрыть румянец страсти,
Привыкла спрашивать себя:
«Где право у меня на счастье?»
Лелея втайне знанья жажду,
Ту роковую, что однажды
Дано бывает ведать каждой
От Евы, матери упрямой,
До любопытной дщери Намы,
Желающей все знать о Нем,
И верить Верой дерзновенной,
Движимой собственным огнем,
В беде и счастье неизменной,
Подобно солнечным часам;
И, устремившись к небесам,
Златых лучей ждала в лазури,
И, хоть порой она могла
Согнуться перед силой бури, —
Ей верилось: за тучей зла
Златое Солнце негасимо…
Кто верует неколебимо,
Тот умудренней херувима.
И эта Вера ей отныне
Была и радость и гордыня
И тот свободы вольный взлет,
Ведущий душу к убежденью,
Что Вера больше нам дает,
Чем знание и постиженье.
В смиренье жизнь они вели,
Храня пред Богом чистоту,
Всегда являя для земли
Любви и Веры высоту,
И неба вечная заря
Сияла им у алтаря.
Так от цепи, ведущей ввысь,
Оторванные два звена
В любви спаялись и слились:
Где он отныне, там она!
Когда на сад проклятья пали
И ветры два цветка сорвали,
Цветы, летавшие в пыли,
Как прежде аромат несли!
Их наказание (хоть нет
В таком клейме для сердца горя)
Скитаться много долгих лет,
Пока живут Земля и море —
Но время изменить не в силах
Ни душ, ни тел скитальцев милых.
И к небесам необозримым
Уносятся глаза тайком,
И цель видна им, пилигримам,
Чей путь лишь время, Вечность — дом.
Так правая любовь в борьбе
Надеется вернуть себе
Потерянного счастья дни,
Как холод теплое дыханье
Сгущает в пар, так и они
Стремятся ввысь; так искони
Есть сладострастие в страданье.
И вот на нелюдимый путь
Стопы Зарафа вновь влекутся,
Ветрам он подставляет грудь,
Он жаждет над ручьем нагнуться —
Но губы не встречают влаги,
И мучится при каждом шаге
Сильней, хоть верит, что однажды
Познает утоленье жажды.
Но после всех скорбей и смуты
Приходят светлые минуты,
После тяжелого вчера
Бывают дни и вечера,
Когда уже бессильны дали
Разъединяющей печали
Влюбленным душам помешать —
И встретятся они опять!
И души льют друг другу свет
Без страха и без подозренья,—
Так Солнце светит для планет,
Чтоб луч вернулся в отраженье.
То был сердец союз счастливый,
Их единенье и родство.
Так сочетают реактивы,
Чтоб вновь возникло вещество.
Так всей их радости венец —
Благая вера в лучший день,
Когда их души наконец
Шагнут на высшую ступень
И полетят в ту даль, ликуя,
Куда Господь им путь закрыл,
И воспарят, и пыль земную
Стряхнут с освобожденных крыл,
И в облаках достигнут рая,
Где страсть живет, не умирая!
Так на краю земли они,
Уединенные, витают.
Господь и ангелы одни
За ними с неба наблюдают.
На дальнем где-то берегу,
Быть может, встретим мы влюбленных,
Чью красоту сравнить могу
С красой лишь духов окрыленных.
Слепящ их блеск — но жребий жалкий
Им уготовил мстящий Бог,
Унизив их, как те фиалки,
Что зацветают у дорог.
Но хоть цветок в пыли и смят,
Услышит путник аромат!
У них единые желанья,
Одна надежда, общий страх —
Так эхо вторит содроганью
Пастушеской струны в горах;
И тщетно вопрошает слух:
Какое истинно из двух?
Которая любовь — земная?
Которая — с небес сошла?
Вот так лицом к лицу, играя,
На плоскость ставят зеркала,
Потом следят лучей движенье —
То есть двойное отраженье.
И если встретите вы где-то
В любви такое совершенство,—
То пожелайте им блаженства!
На всей земле их только двое.
И вы, следя их путь упрямый
Сквозь запустенье мировое,
Шепните: «Се Зараф и Нама».
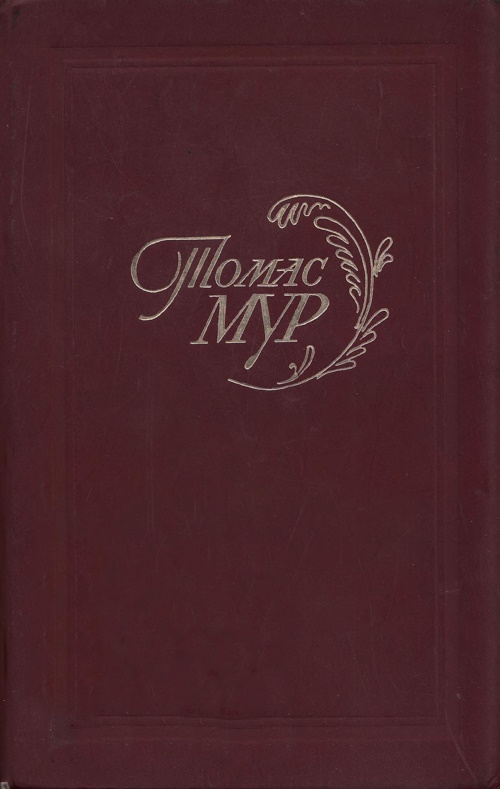


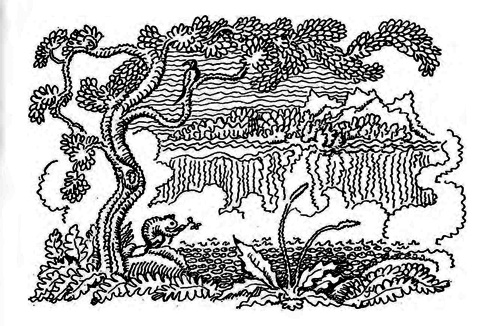


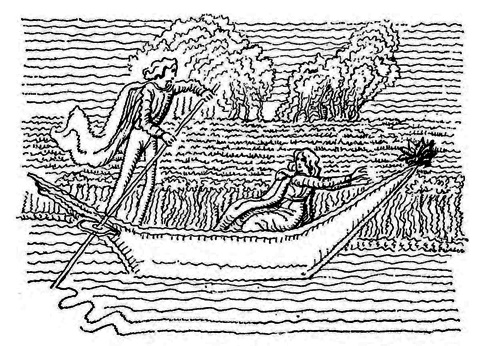




Последние комментарии
1 день 1 час назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 16 часов назад