
Художник Александр Грашин
ДЕТСТВО СВОЕ ПОМНЯ…
Двенадцать лет назад в Москве в издательстве «Детская литература» вышла первая книжка туркменского писателя Анна́ Пайты́ка «Мальчишки военных лет». Книга эта привлекла внимание юных читателей, покорила их своей искренностью, доверительностью, с которой рассказывал писатель о своем детстве. В предисловии к повести Анна Пайтык писал: «Эта книга обо мне и моих сверстниках. Далеко, в Караку́мах, там, где теряется в песках река Мурга́б, находится мой родной аул. Он очень похож на тот, в котором живут герои моей повести… Рос я в большой, дружной семье, но жилось нам нелегко…» Когда будущему писателю было четыре года, умер его отец. Многодетная семья осталась без кормильца. Но главные трудности и невзгоды, оказывается, были впереди — грянула война. Ушел на фронт старший брат Джума́, вышли замуж и покинули отчий дом сестры. И так же, как Коссе́к, герой повести «Мальчишки военных лет», Анна Пайтык остался в старой кибитке вдвоем с матерью. Мальчишки военных лет… Они любили игры и шалости, как все мальчишки во все времена, но при всем этом они делили со взрослыми все тяготы военного лихолетья. Анна Пайтык с одиннадцати лет стал работать в колхозе. Уже после войны он закончил Мары́йское педагогическое училище, преподавал в школе, затем продолжил образование в Ашхабаде в Туркменском государственном университете им. М. Горького. Потом не один год писатель посвятил журналистике: работал на радио и телевидении, в республиканской газете «Эдебият ва сунгат» («Литература и искусство»). Он буквально вдоль и поперек изъездил всю Туркмению. Поездки эти помогли писателю лучше, ближе познакомиться с людьми и природой родного края. Он увидел, как преображается и цветет Туркменистан, как трудятся на его бескрайних просторах геологи и рыбаки, хлопкоробы и железнодорожники, гидростроители и энергетики. Свой творческий путь в литературе Анна Пайтык начал как переводчик. Он познакомил юных читателей с «Приключениями Незнайки» Н. Носова, со стихами Б. Заходера, сказками Г.-Х. Андерсена, рассказами Б. Житкова и др. Первая прозаическая книга Анна Пайтыка «Мальчишки военных лет» на туркменском языке получила широкую популярность и была удостоена премии на республиканском конкурсе. Впоследствии эта повесть была переведена на русский, украинский и молдавский языки. Судьбы маленьких героев А. Пайтыка волнуют как читателя-подростка, так и взрослого. Писатель умеет в сложной динамике взаимоотношений своих героев раскрыть красоту их душевного мира, доброту сердец и их способность творить добро. Герои Анна Пайтыка — добрые, душевные люди, с твердыми убеждениями. Никакие жизненные невзгоды не способны заставить их отступить от намеченных целей, изменить своим идеалам. Не случайно поэтому еще три повести А. Пайтыка — «Красный учитель», «Наследник» и «Матери не спят» — в разные годы были удостоены республиканских премий. В последние годы Анна Пайтык параллельно с прозой занимается и кинодраматургией. Окончив в Москве Высшие двухгодичные сценарные курсы, А. Пайтык написал сценарии для полнометражных художественных фильмов «Мой друг Мелекуш», «Наследник», которые были сняты на киностудии «Туркменфильм». А «Пост № 1» — короткометражная новелла — была снята на киностудии детских и юношеских фильмов имени А. М. Горького. Писатель Анна Пайтык популярен, любим юными читателями Советского Туркменистана, и я убежден, мой дорогой друг, что предлагаемая книжка понравится тебе, ты полюбишь и запомнишь ее героев, край, в котором они живут.Каюм Тангрыкулиев
МАЛЬЧИШКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

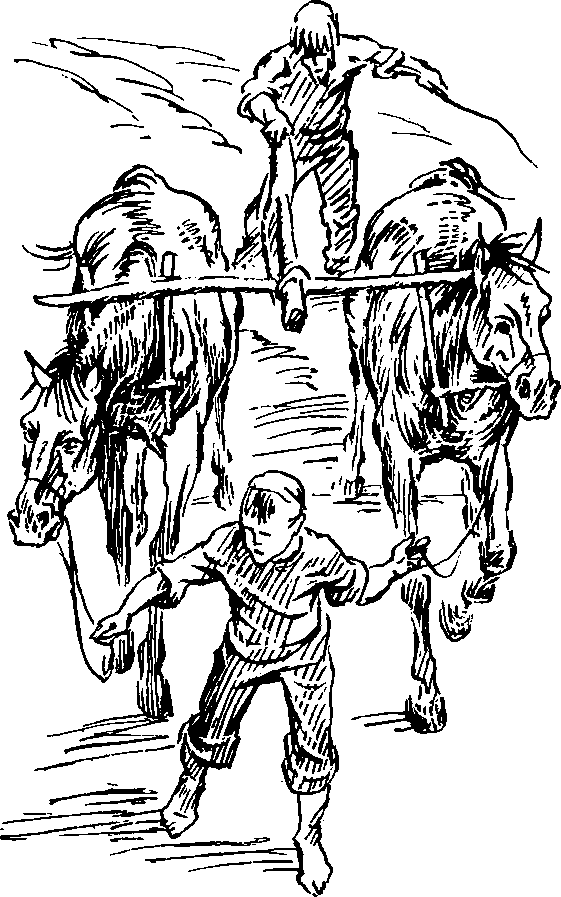
Это настоящие «аджит-маджиты»
Говорят, если вечером долго не можешь заснуть, нужно досчитать до ста. Чепуха! Наверно, я уже сто раз до ста досчитал, а сон не идет. Пронал, и все. Я кряхчу, ворочаюсь с боку на бок, будто старик, у которого полно забот. А какие у меня заботы? Сыт. После заката полную миску затирухи съел. Ели мы ее, правда, вдвое́м с бабушкой. Но бабушка ест медленно, а я — быстро. Поев, бабушка откладывает ложку, а я вылизываю миску. До чего ж это вкусно — вылизывать миску! Несколько раз я даже хотел уступить бабушке, говорил: «Ну, теперь твоя очередь», но она только вздохнет и покачает головой. Сегодня я тоже быстро расправился с затирухой, вылизал миску так, что и мыть не надо. Теперь сыт. А сытому, известно, любая беда нипочем. Почему же я не могу уснуть? Только стоит закрыть глаза — все вспоминается с самого начала. Я не виноват. Ну ни капельки не виноват! Вы сейчас сами убедитесь в этом. Перед последним уроком мы с одним мальчишкой гоняли во дворе мяч. Мяч был старый-престарый. Стукнешь по нему разок-другой, он сразу обмякнет, и нужно снова надувать. А что толку? Вот мы и гоняли полунадутый мяч, чтобы зря время не терять. Перемена и так короткая. А играть все равно интересно. Иной раз уже звонок звонит, а мы все носимся за мячом — хоть минуту еще бы погонять. Но сегодня мы и поиграть не успели. И не потому, что прозвенел звонок. Только я хотел дать ногой по мячу, как слышу — кто-то кричит над самым ухом. — Ой, Коссе́к, Дангы́ бьют! На помощь, Коссек! Я сразу позабыл про мяч. Оглянулся — в углу двора столпились ребята. Кричат что-то — не разберешь, подпрыгивают, свистят. Я бегом туда, растолкал всех, смотрю — на земле барахтается Дангы, а на нем — Чары́-кель. Совсем подмял под себя Дангы. Я кинулся, ухватил Чары за шею, попытался его стянуть с Дангы. Куда там! Он будто прилип к своему противнику. Чары хоть маленький, но ловкий и цепкий, как обезьяна. И как ему удалось свалить широкоплечего Дангы? Сидит Чары-кель на Дангы, а сам плачет. Я удивился: плакать нужно тому, кто внизу лежит. Ну никак не удавалось мне стянуть Чары-ке́ля. Схватил его за шею — он вывернулся, будто змея. За ногу потянул — брыкается, как ишак. И ни с места. Я разозлился и начал колошматить Чары-келя кулаками куда понало — по спине, по голове, покрытой старой меховой шапкой. Один из мальчишек крикнул: — Сбрось с него шапку! Шапку сбрось! Шелудивый без шапки сразу силу потеряет! Чары в самом деле шелудивый. Поэтому его и прозвали «кель». Вы, может, сначала не поняли, отчего я его имя по-разному называю. Вообще он Чары, а «кель» — значит «шелудивый». У Чары на голове болячки. Кожа покрыта струпьями, и волосы вылезли. Из-за этого он и ходит постоянно в старой шапке, надвинув ее на самые уши. Ни на улице ее не снимает, ни в школе, ни дома. Даже купается летом и то в шапке. Сбросив штаны и рубаху, залезет в арык, а над водой меховая шапка торчит. Когда мне крикнули «сбрось шапку», я сразу про это вспомнил. Но едва схватил шапку Чары-келя, как сам отлетел в сторону. Смотрю, незнакомый мужчина держит одной рукой за шиворот Дангы, а другой — Чары. Тут и наша учительница Шеке́р прибежала. Кричит, классным журналом размахивает. Мальчишки вокруг нее тоже кричат, каждый свое. Одни Дангы защищают, другие — Чары. Меня, конечно, не спрашивают, а спросили бы — я и сам не знаю, кто из них прав, кто виноват. Просто я бросился на помощь Дангы, потому что он мой лучший друг.
Вдруг я заметил, что у Чары-келя все ухо в крови. Он и сам перемазался, и рубашку Дангы испачкал, а кровь все течет. Кто-то из ребят набрал в горсть земли, сыплет ее на ухо Чары, чтобы унять кровь. Учительница это увидела — еще сильнее стала кричать, ругать всех нас. Тут и другие учительницы выбежали во двор. Чары-келя куда-то увели — наверно, к доктору. А нас с Дангы учительница потащила к директору школы, приговаривая: — Это не дети, это настоящие аджи́т-маджи́ты! Не уследи за ними, так они поубивают друг друга. — Скорее бы их прежние учителя с фронта возвращались, — вторил ей еще кто-то из учительниц. — Они тут таких бед понаделают! — Нужно сообщить в милицию! — продолжала кричать Шекер. — Только милиция может с ними справиться. — Вот сейчас директор пошлет за милиционером, тогда они будут знать… Илли́-ага́ — так звали нашего директора — был единственным мужчиной в школе. Остальные учителя ушли в армию. Учили нас теперь только женщины да еще несколько молодых девушек, которые даже и учительницами-то не были и сами недавно окончили нашу школу, как, например, Шекер. А что было делать? Откуда взять настоящих учителей? Война! Шекер втолкнула нас с Дангы в кабинет директора и снова стала кричать, что мы настоящие аджиты-маджиты и место нам в тюрьме. Илли-ага сидел за своим столом. Он только поднял голову от бумаг и молча посмотрел на нас. — Ну что же вы молчите, Илли-ага? — закричала Шекер и вдруг громко расплакалась. Потом она бросила классный журнал на стол, а сама села на диван и закрыла лицо руками, продолжая всхлипывать, будто это не Чары-келя, а ее укусил за ухо Дангы. Уже и звонок давно прозвенел, а Шекер точно не слышала. Сидит и плачет. Это было хуже всего. Дангы разревелся и уткнулся носом в стенку. Я тоже не выдержал, заревел. Тогда Илли-ага поднялся со своего стула, взял висевший на краешке стола классный журнал, брошенный Шекер, взглянул на учительницу поверх очков и сказал: — Ну разве можно так расстраиваться, Шекер? Ну, виноваты ребята, подрались. Но разве… — Подрались? — перебила Шекер, и глаза у нее сразу стали сухими. — Да разве это обычная драка? Вон тот, — она кивнула на Дангы, — укусил Чары за ухо. У бедняжки кровь так и льется, так и льется! А этот, — указала она на меня, — колотил Чары по голове. Представляете? Прямо по голове. Спасибо, какой-то прохожий увидел, разнял их. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы он не подбежал. Ведь так человека убить можно! — Конечно, ребята очень виноваты! — строго сказал Илли-ага. — Мы во всем разберемся. Но ведь ты, Шекер, теперь не ученица, а учительница. Тебя класс ждет, звонок давно прозвенел. Так не годится, голубушка. Кто же их учить будет, если не мы? Шекер поднялась, взяла из рук директора классный журнал и, сердито поджав губы, вышла из кабинета. Мы с Дангы переглянулись и остались — понимали, что с нами разговор будет особый. — Ну, Дангы, рассказывай. Дангы, притихший было, снова заревел. — Чары первый полез, свалил Дангы и сел ему на живот, — сказал я, пытаясь защитить друга. — Я тебя не спрашиваю, Коссек, — сказал Илли-ага. Он долго смотрел на плачущего Дангы, потом повторил свой вопрос, по мой друг все еще ревел, уткнувшись носом в стенку. — Ну ладно, если не хочешь, не рассказывай, — проговорил Илли-ага и прошелся по своему кабинету. Я подумал, что он рассердился на Дангы, но лицо у него было не сердитое, а расстроенное. — Я не дрался, — вдруг пробормотал Дангы. — Так что же случилось? Что вы не поделили с Чары? — Илли-ага наклонился к Дангы. — Я не дрался, — повторил тот. — Я никогда не дерусь. И верно, никто в школе не видел, чтобы Дангы дрался, хотя был он широкоплечий и сильный. А ведь в классе чего только не бывает. Я сразу вспомнил, как однажды кто-то облил рубашку Дангы чернилами. Другой бы на его месте так отлупил за это, а Дангы не полез в драку, хоть и знал, что дома ему понадет за рубашку. Не подрался он и тогда, когда ребята дали ему понюхать цветы, обсыпанные табаком. Я ни за что бы не вытерпел — проучил бы как следует. По правде говоря, я часто лезу в драку. Сам не знаю, как это у меня получается. Вот недавно по пути из школы я подрался с внуком Джана́ра-сони́ Акго'й, хоть с ним и подраться-то трудно. Он толстый, неуклюжий, медлительный — ни дать ни взять его тетушка Джама́л. Его даже прозвали «Лелли́м» — «растяпа». А подрались мы из-за чепухи. Шли и говорили про войну. Я сказал: «Наши победят!» Акга ответил лениво так: «Поглядим…» Я сразу остановился: «Как это — поглядим? Тебе что, значит, все равно, кто победит?» Акга заговорил уже другим тоном, быстро и сердито: «Ты думаешь, я за фашистов, да? Просто мой дед так говорит: «Еще поглядим, кто победит…» «Твой дед врун». «Ты моего деда не трогай! Даже имени его не называй!» «Буду называть! Твой дед про всех только плохое говорит, всем зла желает. И все он врет!» «Не тронь моего деда!» — во все горло закричал Акга. «А если трону, так что?» «Попробуй!» «Вот и попробую!» Вначале мы просто толкали друг друга. Потом пустили в ход кулаки. Акга намного выше меня, по вялый, беспомощный. Никто не видел, чтобы он победил хоть раз в драке или свалил на землю своего противника, как сегодня Чары-кель Дангы. Конечно, я повалил Акгу. И сидел на нем, пока он не запросил: «Отпусти, Коссек! Ну, отпусти!» Я очень боялся, что директор знает про этот случай, но, видно, он не знал, только сказал укоризненно: — Какой же ты друг, Коссек? Вместо того чтобы разнять их, сам полез в драку, а? Потом Илли-ага опять обратился к Дангы: — Так что же у вас произошло? Кто кого обидел? Но Дангы по-прежнему молчал. Я едва удерживался, чтобы не толкнуть его локтем: «Ну говори же, говори…» Но Илли-ага мог снова одернуть меня: «Не вмешивайся, Коссек». Директор и в самом деле рассердился. — Ну ладно, — сказал он. — Не хочешь говорить — не надо. Ступайте домой. Мне больше с вами разговаривать не о чем. Мы вышли. Всю дорогу шли молча. «Почему Дангы ничего не захотел сказать директору? — думал я. — Ведь Илли-ага разобрался бы, кто прав, кто виноват. Нет видно, Дангы сам первый полез к Чары-келю…» Мне очень хотелось спросить у Дангы, что же все-таки у них произошло. Уж мне-то, другу, мог бы сказать. Но я глянул, как он шел, опустив голову, с заплаканным лицом, и ни о чем не спросил. Так мог ли я в этот вечер заснуть, хоть и считал сто раз до ста?
Сирота
Сам не помню, когда я заснул. Утром я проснулся с тяжелой головой. Поднялся, стал собираться в школу. Бабушка уже успела развести огонь. Что-то варилось, булькало в котле, висевшем над очагом. Хоть я и наелся вчера вечером досыта затирухи, с утра почему-то опять очень захотелось есть. Я собирал свои учебники, а сам все думал: интересно, что там варится, в котле? Потом уселся за стол и стал дожидаться завтрака, с нетерпением поглядывая на бабушку. И вдруг я вспомнил слова учительницы Шекер: «Это не дети, а настоящие аджит-маджиты!» — Что такое аджит-маджиты? — спросил я у бабушки. — О-о, лучше не спрашивай, дорогой. Это очень страшно. Если придут аджит-маджиты, настанет конец света, — испуганным шепотом ответила бабушка. — А что такое конец света? — спросил я. Бабушка еще сильней испугалась, и я больше ни о чем не спрашивал. Но сам продолжал думать про аджит-маджитов и про конец света. До этого так нетерпеливо ждал завтрака, а тут даже не заметил, что ел. Забрал свою сумку и вышел из дома. Аул наш невелик. Дома вытянулись вдоль глубокого арыка, но берегам которого высятся тенистые островерхие тополя. Получается, что в ауле всего одна улица. Из соседних аулов многие уже переселились в поселки. В поселке все, конечно, по-другому. Веселее. Много народу. Дома новые, улицы широкие, ровные. Одни, вроде нашей, тянутся вдоль арыков, другие их пересекают. Там и магазины и читальня. Между прочим, наш аул тоже собирались переселять. Ну и споров было! Старики — те, конечно, против. Не хотелось им с обжитых мест уезжать. «Хоть старый дом, да свой, — говорили они. — В нем вся жизнь прошла, не только наша, но и наших родителей». «Жизнь и дальше будет идти, даже еще лучше, — доказывал председатель колхоза Агаджа́п-ага. — Поглядите, какой поселок соседи отстроили, а у нас — кто в новом доме с верандой живет, кто в старой мазанке, а кто и вовсе в кибитке, в духоте да в холоде…» Наверно, все же уговорил бы он наших стариков перебраться в поселок, но началась война. До переезда ли тут! Каждое утро по дороге в школу я захожу за Дангы. Он живет совсем близко от меня, через четыре дома. Один из этих домов принадлежит колхозному кузнецу Белли'-уста́. «Уста» означает «мастер». Не всякого человека назовут мастером, а вот Белли назвали. Надо ли заточить серп, сделать лонату, кетмень для обработки хлопчатника, таган, под которым разжигают огонь, кочергу, нож — словом, любую вещь, какая требуется в хозяйстве, зовут мастера Белли. А для нас он делает железные обручи, которые с шумом и звоном можно гнать по дороге через бугры и камни. И жена у Белли-уста добрая. Раньше, бывало, идешь мимо их дома, поздороваешься, а тетя Солта́н улыбнется в ответ, подзовет. Забежит на минутку в дом и насыплет тебе полную тюбетейку жареной кукурузы, урюковых косточек, а то и леденцов. Но теперь Белли-уста, как и мой отец, на фронте. Солтан работает в колхозе. Уходит она в поле ранешенько, и когда я иду в школу, у Белли-уста уже никого нет. Пустой дом выглядит сиротливо. Двор порос травой. Зато в соседнем дворе еще издали бросается в глаза кибитка, недавно покрытая новой белой кошмой. Рядом с ней стоит добротный крепкий дом. Сразу чувствуется, что хозяин тут заботливый. В саду широко раскинули ветви плодовые деревья, вьется виноградная лоза. На огороде за этим домом раньше, чем у всех, зеленеет лук, редиска, огурцы. «Джапа́р-сопи́ — человек ученый, читает Коран, и аллах помогает ему», — говорит моя бабушка. Но я не люблю Джапара-сопи. Когда проходишь мимо его дома, во дворе раздаются лай и свирепое рычание. Две огромные лохматые собаки — одна рыжая, другая серая — мечутся яростно вдоль ограды и в бессильной злобе скалят зубы. У многих мальчишек остались на память следы от их укусов. Даже самые смелые ребята не решаются забраться в сад Джапара-сопи — такие злобные у него собаки. Но на улице, за каменной оградой, собаки не страшны. «Рычите, рычите сколько влезет», — думаю я и, сняв с головы тюбетейку, нарочно помахиваю ею во все стороны. Или сниму с плеча холщовую сумку, в которой лежат мои книги и тетради, и поверчу перед черными собачьими носами. Что? Небось с радостью изорвали бы мои учебники? Как бы не так! Лайте, хоть захлебнитесь! У вас и хозяин такой же злобный, как и вы. Услышит лай, выйдет на крыльцо посмотреть, отчего беснуются собаки, и, если завидит мальчишек, начинает проклинать на все лады. Ох и здорово это у него получается! Заслушаться можно. Только вот бабушка говорит, что это грешно — вводить в гнев старого человека. Потому и стараешься пробежать быстрее мимо ограды, если на крыльце стоит Джапар-сопи. И все-таки прямо подмывает каждый раз устроить вредному Джапару-сопи какую-нибудь каверзу. Сегодня я только было собрался швырнуть незаметно камень и сбить в саду несколько спелых яблок, как увидел, что на крыльцо вышел не Джапар-сопи, а его дочка, толстая, неповоротливая Джама́л. — Елба́рс! Гулаклы́! — стала звать она собак, а сама сквозь ветви урюковых деревьев пыталась разглядеть, кто стоит за оградой. Может, пришли к отцу просить, чтобы прочитал молитву, а может, кто из соседок хочет купить талисман от головной боли, против дурного глаза и иных напастей? Таких талисманов у Джапара-сопи хоть отбавляй, на любой вкус, на любую беду. Вдруг Джамал увидела меня и так же, как отец, заверещала противным визгливым голосом: — Чтоб тебя на части разорвало! Чтоб тебе сквозь землю провалиться, проклятый! Чтоб… Я же, помахивая тюбетейкой, кричу в ответ: — Эй, а где твои женихи? Почему разбежались? Может, ты их своими криками распугала? Она проклинает меня все громче и громче. Собаки заливаются вовсю, совсем, бедные, охрипли. Наверняка сейчас выйдет сам Джапар-сопи. Пора удирать. Я вихрем проношусь мимо ограды, за которой мечутся свирепые собаки, мимо дворика иранца Мурти́. Сам Мурти давно уже в поле. Слышен только голос его жены, которая нянчится с внучонком. А вот и мазанка Дангы. — Дангы! Эй, Дангы! — кричу я. — Собирайся. В школу пора! Дангы, приоткрыв дверь, выглядывает во двор: — Я сейчас. Подожди меня, Коссек. Мне всякий раз приходится ждать Дангы. Не потому, что он лентяй и долго спит по утрам. Наоборот, с той поры, как заболела его мать, Дангы встает очень рано. Приходится и по хозяйству кое-что сделать, и о маме позаботиться. Вот он пробежал в сарай, потом обратно с какой-то миской в руках… Что-то уж очень долго возится в доме. — Эй, Дангы, ты скоро? Вместо Дангы отозвалась его мать, тетя Говхе́р. — Это ты, Коссек? Ну-ка зайди сюда, — позвала она слабым голосом. Я вошел. Тетя Говхер давно уже была больна. Но только теперь я заметил, как она исхудала. Сидит, закутавшись в одеяло, лицо бледное, и руки как палки. — С кем Дангы вчера подрался в школе? — спросила она, подняв на меня темные, глубоко запавшие глаза. Я пожал плечами и посмотрел на Дангы. Он, нахохлившись, сидел в глубине комнаты. Наверно, ему здорово досталось от матери. Конечно, она все сразу заметила: вернулся-то он зареванный, а рубаха — в крови. — Я… не знаю… По-моему, он ни с кем не дрался. — Ах так? Сговорились? Я же сразу поняла, что Дангы дрался, как только он вернулся из школы. Почему у него вся рубашка в крови? Я пожал плечами. И пожалел, что вошел в дом. Надо было тихонько ждать Дангы возле ворот. Ну что я могу ответить, если тетя Говхер станет расспрашивать дальше? Но она посмотрела на Дангы и сказала: — Вот что я тебе скажу, сынок: ступай помирись с этим мальчиком! Ты думаешь, если нет отца… Она не договорила: слезы сдавили ей горло. Но через минуту Говхер уже овладела собой, сказала твердо: — Ступай помирись с тем, с кем дрался. И больше чтобы я не слышала ни о каких драках. Понял? Она устало опустилась на подушку, а Дангы, еще больше нахохлившись, забрал свои книги и быстро вышел. Но едва мы отошли от дома, я вдруг заметил на глазах у него слезы. Я стал успокаивать его: — Да перестань ты плакать. Ну, поругала немножко, подумаешь, не побила же, правда? Дангы молчал. Мы как раз проходили мимо дома Чары-келя. Я глянул через забор. И тут во дворе пусто. А какой это был шумный двор! Там даже два дома стоят: один маленький, старый, другой побольше, с верандой. И еще есть такая же, как у нас, черная кибитка. Большая семья была у Чары-келя. До войны в маленьком домике жил Чары с отцом и матерью. В большом — его старшие братья со своими женами. А в кибитке хозяйничал по старинке дедушка Чары-келя. Летом Чары-кель обычно тоже перебирался к дедушке — в кибитке было прохладнее спать. Потом дедушка умер. Отец и старшие братья ушли на фронт. Жены их почему-то не поладили с матерью Чары-келя и уехали к своим родителям. Они ведь были из соседних аулов, и я думаю, что просто соскучились по своим близким. И вот теперь в двух домах и кибитке живет только Чары-кель с матерью. — Знаешь что, давай попросим прощения у Чары. Вместе попросим. Я ведь ему тоже надавал, — сказал я. — Ни за что! — крикнул Дангы. — Почему? И мать велела… Рассердится — побьет… — Ну и пусть, пусть бьет! — перебил Дангы. — Умру, а прощения просить не буду. И мириться не буду! Я не знал, что ему ответить. Мы пошли быстрее — надо было поторапливаться, чтобы не опоздать в школу. Если явимся посреди урока, не миновать разговора с директором, а он, чего доброго, про вчерашнее вспомнит. Он был очень сердитый, когда мы уходили. И опять я подумал о Чары. Вон сколько крови вытекло у него вчера. Кто знает, может, его в больницу положили? А что, если и в самом деле так случилась? Тогда директор обязательно вызовет милицию. — Дангы, — сказал я, останавливаясь, — может, нам не ходить в школу? Дангы схватил меня за руку: — Ой, Коссек, я хотел сказать то же самое, только боялся, ты не согласишься. Давай не пойдем сегодня! — Ладно. Поглядим, что дальше будет. Если Шекер уговорит директора отправить нас в милицию, мы успеем убежать куда-нибудь. Ну хоть в соседний аул, к твоему дяде. Как будто в гости, а? Так мы и решили. Сразу же за углом свернули и вместо школы отправились совсем в другую сторону. Спустились к арыку и уходили всё дальше и дальше от аула, чтобы никто не увидел нас и не спросил, почему мы не на уроке. Вдоль арыка, до самого водораздела, тянулся длинный ряд тополей. Густо разросся кустарник. А дальше, по обе стороны арыка, простирались хлопковые поля. Последние дни все колхозники работали на хлопке, и мы боялись, что здесь нас тоже кто-нибудь может заметить. Кусты хлопчатника были еще маленькие, не то что осенью, когда они стоят стеной. Пригнись только — и никто тебя не увидит. А сейчас весна. Всходы хлопчатника лишь поднимаются над землей. Даже видны окарыки — узкие канавы, разбегающиеся от арыка по всему полю. Вода по ним бежит чуть ли не к каждому кусту. По́том, когда хлопок поднимается выше, их уже не видно — кажется, что они совсем заросли. Мы с Дангы осторожно выглядывали из-за кустарника и деревьев. В поле оказалось пусто. Должно быть, вчера закончили прополку хлопчатника, пустили воду. Окарыки были полны воды. Мы вылезли из-за кустарника и пошли прямо через поле, перепрыгивая через окарыки. — Знаешь что, — сказал Дангы, — давай рыбу ловить. — Верно! — обрадовался я. В арыке сейчас, наверно, была рыба. Когда поднимают плотину и пускают воду из канала, она с силой устремляется по арыкам. Но после окончания полива плотину снова опускают. В стоячей воде часто бывает рыба. Мы с Дангы снова вернулись к арыку. Бросили в кусты книги, закатали штаны до колеи и спустились в воду. Сразу же заломило ноги — вода была холодная, хотя день выдался жаркий. Рыбу мы ловили консервной банкой, подобранной на берегу. Дангы с банкой шел мне навстречу, а я руками гнал рыбу. Вообще-то я ничего не видел в мутной воде, но все-таки в банку понала одна, потом другая мелкая рыбешка. — Эй, много наловили? — послышался знакомый голос. Я оглянулся: к нам, продираясь через кусты, бежал Чары-кель с палкой в руках. «Ну, быть снова драке, — подумал я. — Если они схватятся, надо оберегать ухо Чары-келя. Весь шум вчера был из-за его уха…» Чары подбежал, остановился над арыком. Стоит помахивает прутиком. Только теперь я разобрал, что в руках у него не палка, а тонкий прут. «Интересно, а он почему не в школе? — удивился я. — Может, в самом деле вызвали милицию, а его послали нас искать?» Струхнул я здорово, но старался не подавать виду. Спросил как ни в чем не бывало: — Ты что, с уроков сбежал? — Почему сбежал? Уроки давно уже. кончились. Сейчас три часа. Я глянул на солнце. И вправду уже поздно. А мы и не заметили, как время прошло. — Я корову пасу, — сказал Чары. Тут я заметил серую корову, которая щипала траву неподалеку. Недаром говорят, что у страха глаза велики! — Ты почему сегодня не был в школе? — спросил Чары. — И Дангы не был. Он миролюбиво посмотрел на Дангы, и я понял, что драки не будет. — Ты-то ведь ходишь, и ладно, — пробормотал Дангы, но Чары не обиделся. — Учительница Шекер про вас спрашивала, — продолжал он. — И Илли-ага тоже. Он даже хотел домой к вам пойти, по я сказал, что Дангы заболел, а Коссека бабушка куда-то послала. Правильно? — А ты не врешь? — спросил я. — Чтоб мне просолиться насквозь, если вру! — закричал Чары. — Илли-ага правда хотел к вам идти, но после моих слов не пошел. Я поверил Чары. Человек не станет зря клясться солью. Дангы, по-моему, тоже поверил. Мы вылезли на берег — сперва я, а за мной Дангы. — Чары, друг, скажи честно: милиция за нами не приходила? — спросил я. — Какая милиция? — Ну, не притворяйся, будто не знаешь. Шекер кричала вчера, что из-за нас нужно милицию вызвать. — Да ну, она просто вас попугать хотела, — махнул рукой Чары. — Все равно в школе ты нас больше не увидишь. — Почему это? — изумился Чары. — А зачем туда ходить? Какие у нас учителя? Они сами вчера говорили, что ждут не дождутся, когда вернутся настоящие наши учителя. Шекер только-только школу окончила. — Ну не все такие, — возразил Чары. — Ну так что? Все равно лучше рыбу ловить или корни ишки́н выкапывать. Из корня ишкин знаешь какой чай получается! Я видел, Мурти целый хурджу́н наконал. — Вообще-то, конечно, это интереснее. Но как же… Школу-то надо окончить. — Это твое дело. А мы для себя уже решили. Мы настоящим делом займемся. Только ты никому не говори про нас, ладно? Чары огорченно покачал головой. Видно, ему все же стало жалко, что нас больше не будет в школе. Он вздохнул и сказал: — Ладно, не проговорюсь. А если спросят, буду отвечать, что Дангы к дяде уехал, а ты, Коссек, тоже куда-нибудь… к дяде. Мы оба, не сговариваясь, стали разглядывать Чары-келя. Ухо ему намазали йодом, и оно стало желтое-прежелтое. Кровь больше не текла. И ранки мы уже не заметили. Кажется, он догадался, что мы смотрим на его ухо, и беспечно махнул рукой: — Не беда, заживет. В прошлом году меня собака укусила за ногу, у Джапара-сопи в саду. Тогда похуже было и то прошло. — Он еще ниже надвинул на лоб свою облезлую шапку. Все-таки он хороший парень — Чары. Мне очень хотелось, чтобы они с Дангы помирились по-настоящему. И чего они, в самом деле, не поделили? Я стал потихоньку подталкивать Дангы к Чары-келю. Ну что ему стоит протянуть руку? Я был уверен, что Чары не откажется мириться, хотя Дангы и укусил его за ухо. Конечно, я понимаю, трудно первому протянуть руку и сказать: «Прости меня». Да ведь сказать-то можно что-нибудь совсем другое. Или даже вовсе ничего не говорить. «Ну, ну, давай, — шептал я Дангы. — Мирись». Но Дангы молчал. Чары-кель постоял возле нас еще немного, а потом со всех ног бросился за своей серой коровой, которая давно уже скрылась за кустами. Нам расхотелось ловить рыбу. Мы сложили наш улов в консервную банку. Рыбешек поналось немало, но самая крупная была не больше пальца, поэтому консервная банка наполнилась только до половины. Мы подняли с земли свои сумки, прихватили банку с рыбой и отправились к Дангы. Мы решили у них сварить рыбу и угостить его маму. Говорят, уха полезнее всяких лекарств. Я онасался, что, едва мы придем, тетя Говхер первым делом спросит: «Пу как, помирился со своим противником?» Но тете Говхер было не до нас. Она лежала пластом, отвернувшись к стене, и даже головы не подняла, когда мы вошли. Может быть, задремала. Мы почистили рыбу, бросили в воду соли и стали варить уху. Вода на дне большого котла над очагом кипела, кипела, пока до половины не выкипела. — Наверно, сварилась, — сказал я Дангы. Мы по очереди попробовали уху. Она оказалась солоноватой, но вкусной. Только очень уж ее было мало. Даже одной пиалы не набралось, только половина. Мы поставили пиалу с ухой у изголовья тети Говхер. Проснется — попьет. Может, и поправляться начнет. Я все думал про Чары-келя. Вспоминал, как он отговорил директора идти к нам. Жаль, Дангы не помирился с ним как следует. В общем-то, конечно, можно считать, что мир между ними заключен и драться они больше не станут, но все же… — Зря ты подрался с Чары-келем, — сказал я Дангы. Он даже бросил хребет рыбешки, который обсасывал, и сердито посмотрел на меня. Потом оглянулся на спящую мать и спросил, понизив голос: — Кто это тебе сказал, что зря? — Я и сам знаю. Чары-кель неплохой парень. — Неплохой? — Дангы с ненавистью сжал кулаки, будто сам Чары-кель стоял перед ним. — Если б он был плохой, то не заступился бы за нас сегодня в школе. И помириться с тобой он хотел. Что, не так? Ну скажи, почему ты не хочешь с ним мириться? Значит, ты сам, первый… Ведь не говоришь, из-за чего вы подрались? Если не виноват, скажи! — Не скажу! И больше никогда у меня про это не спрашивай. Ты сам видел: я даже директору школы не сказал. — Ну и что? Директору не сказал, а мне можешь сказать. Друг — это важнее, чем директор. Или, может, я тебе уже не друг? — Коссек-джан, ну конечно, мы друзья. Правда, вот все, что ты захочешь, я сделаю. Только об этом не спрашивай… Теперь мне еще больше хотелось узнать правду. Что же все-таки произошло у них с Чары-келем? Я обнял Дангы за плечи и шепнул: — Так вот, если я тебе друг, мне от тебя только одно сейчас нужно: скажи. Дангы проглотил комок, подступивший к горлу. — Он… Чары… он назвал меня сиротой. Я молчал. Дангы быстро утер набежавшие слезы и посмотрел на мать. — Знаешь, если мама узнает, она с ума сойдет… Она говорит: «Пока мои глаза смотрят на белый свет, я никому не позволю называть тебя сиротой. Никому!»Как у Дангы убежал отец
Настоящим сиротой был я. У других если не было отца, так была мать. Моя мама умерла рано. Я даже лица ее не помню. Отец после маминой смерти долго не женился. Бабушка чуть ли не каждый день надоедала ему: «Скоро ли ты женишься, сынок? Мне одной трудно смотреть за домом». Но отец стоял на своем: «Пока мой Коссек не вырастет, я не приведу в дом чужую женщину», — отвечал он. А сам старался всячески помочь бабушке. Даже обед готовил. Наконец, видно, он устал от такой жизни. Однажды подозвал меня и говорит: «Знаешь, Коссек, я тебе нашел маму. Скоро познакомлю ее с тобой. Вот увидишь, какая она хорошая и добрая». Но обрадовалась только бабушка, а я думал: «Пока неизвестно, хорошая она или нет. И вовсе она не мама, а мачеха». Но мне не пришлось познакомиться с этой женщиной. Началась война. Одним из первых в армию ушел мой отец. Так мы и остались вдвоем — я и бабушка. Правда, колхоз помогает нам: то денег дадут, то муки или крупы. Но все же бабушке приходится подрабатывать. Она ходит к соседям, когда кому-нибудь нужна помощь. Бабушка многое умеет: и готовить, и масло сбивать, и тяжелые кошмы чистить. А за это она всегда приносит домой немного еды. «Ешь, Коссек-джан», — говорит она ласково, вздыхает и гладит меня по голове. И я знаю: она меня жалеет, потому что я — сирота. А Дангы — какой же он сирота? У него есть и мать и отец. Отец его, Келевха́н, работал в нашем колхозе бригадиром. Такой высокий, крепкий. Дангы очень похож на него. Келевхан был другом моего отца. Каждую зиму по первому снегу они вместе уходили на охоту. Приносили зайцев, диких кур. Нам с Дангы тоже очень хотелось пойти на охоту, но они так ни разу нас и не взяли. Когда отец мой уходил в армию, Келевхан сказал ему: «За своих будь спокоен». И верно, он потом чуть ли не каждый день заглядывал к нам, спрашивал у бабушки: «Маму́р-эдже́, в чем нуждаетесь?» — «Живем, как и все», — отвечала бабушка. Она никогда ни о чем не просила, но ей нравилось, что Келевхан держит слово и заходит к нам. Вообще-то, хоть бабушка и не просила, но он всякий раз находил какое-нибудь дело по дому: чистил очаг, поправлял цепи, на которых висит над очагом тяжелый котел, старался подбросить пам хворосту для топки. Топлива требовалось немало, чтобы было тепло в нашей старенькой кибитке. Правда, стены ее, сложенные из бревен и отделанные снаружи камышовыми щитами, были еще крепки и, как говорит бабушка, продержатся, пока я не вырасту большой. Но вот крыша… Крыши совсем нет никакой, а плотная шерстяная кошма, покрывающая кибитку, почернела от дыма и дождя. Поэтому и называют такие кибитки черными. Сколько раз бабушка просила отца покрыть кибитку новой кошмой, но он отвечал: «К чему? Ведь скоро переедем в поселок. Заживем по-настоящему, в новом большом доме». Говорить-то говорил, а сам с первых дней войны ушел на фронт. Заходя к нам, чтобы помочь по хозяйству, Келевхан не забывал рассказать про новости с фронта, хотя вообще-то он был не очень разговорчивый. Я тоже часто ходил к Дангы. Там меня всегда хорошо встречали. Как ни приду, тетя Говхер приветливо скажет: «Заходи, заходи, Коссек-джан, сейчас обедать будем». И непременно усадит меня вместе с Дангы за стол, хоть я и догадываюсь, что сами они уже пообедали. Я даже не помню, с чего началась беда в доме Дангы. Однажды я, как обычно, вернулся из школы, поел похлебки и хотел сразу же опять уйти. — Куда ты, Коссек? — спросила бабушка. — К Дангы. — Знаешь что, дорогой, сегодня ты лучше к ним не ходи, — сказала вдруг бабушка. — Почему? — удивился я. Никогда еще бабушка не отговаривала меня пойти к Дангы. Наоборот, всегда радовалась, что мы дружим. Бабушка очень любила и Келевхана и Говхер. Совсем недавно Говхер сшила мне рубашку из старой отцовской. И бабушка очень хвалила и рубашку, и добрую мать Дангы. Сама она шить уже не могла — плохо видела, а так по хозяйству управлялась. И вот теперь бабушка вдруг просит, чтобы я не ходил к лучшему своему другу — Дангы! — Почему? — повторил я. — Бабушка, скажи! Она погладила меня по голове, поправила воротник моей новой рубашки и ничего не ответила, будто не знала, что сказать. Я старался заглянуть ей в глаза́, но бабушка отвернулась — казалось, не выдержала моего взгляда. — У Дангы отец убежал, — наконец с трудом выговорила она. Я ничего не понял. Разве отец может, как мальчишка, убежать из дома? Я себе такого просто даже представить не мог. Как он побежал? Куда? В какую сторону? И вообще Келевхан такой степенный, спокойный, а тут на́ тебе — убежал! Все эти вопросы так и вертелись у меня на языке, но я не решился расспрашивать бабушку. Уж очень она выглядела огорченной. — Нехорошо поступил Келевхан, — говорила она, вздыхая. — Кто бы мог подумать! Люди расстаются с семьей, потому что на войну уходят, а он… Ой, нехорошо, нехорошо!.. Я молча вышел за дверь. Бабушка крикнула вдогонку: — Смотри, голубчик, не ходи к Дангы! Пойди к Чары или еще куда… Хоть я и ответил бабушке «ладно», но не мог не повидать Дангы. Подошел к их дому и долго стоял во дворе, не решаясь приоткрыть дверь мазанки. Потом все же не выдержал, подошел и заглянул в дверь. Смотрю, тетя Говхер сидит в уголке и плачет. Даже на работу не пошла. А в другом углу — Дангы. Он-то крепится, но, я вижу, украдкой слезы вытирает, чтобы мать не заметила. Когда я дверь приоткрыл, у него лицо сразу просветлело. Он поднялся, поглядел на мать, постоял посреди комнаты в нерешительности, а потом вышел вместе со мной. Мы спустились к арыку и медленно пошли вдоль него. Так и шагали, не проронив ни словечка, пока не дошли до распределителя воды. Это было наше любимое место с Дангы. В этом месте от канала рукавами расходятся несколько арыков. А под тенистыми деревьями прохладно даже в самую жаркую пору. Через канал перекинут мост. Под мостом — плотина. Она то опускается до самого дна капала и преграждает путь воде, то поднимается, и вода с шумом устремляется по арыкам. У распределителя всегда много ребят из нашего и соседних аулов и поселков. Играют, купаются в канале — это ведь тебе не узкий и мутный арык. В канале можно плавать. Самые смелые ребята прыгают с моста. Но в тот раз мы с Дангы пришли и молча уселись на берегу. Дангы опустил босые ноги в воду и тихо сказал: — Коссек, теперь и у меня отца нету. — А куда он девался? — Умер… — Ты что? Вчера был жив, а сегодня умер? Когда же его хоронили? А ну поклянись, что не врешь! — Нет, Коссек, это мне мама велела всем так говорить, кто спросит, — тихо продолжал Дангы. — А на самом деле он ушел. Бросил нас и ушел из дому… Я вдруг припомнил, как иногда к бабушке заходили женщины-соседки и начинали шептать: «Келевхан… Якшигозе́ль… Он давно ищет себе новую жену… Джапар-сопи говорил…» Но бабушка не любила сплетен. Она качала головой и всякий раз обрывала не в меру болтливую женщину. Дангы мне рассказал, что с такими же разговорами соседки приходили и к его матери. Вначале она не слушала, отшучивалась. Потом они начали ссориться с отцом. Мать плакала, упрекала Келевхана: «Стыдно людям на глаза показаться. Все смеются. И Джапар-сопи не станет зря говорить, он ученый человек и старый…» Отец тогда начинал кричать: «Никакой он не ученый, мошенник он! И кто это сказал, что старые люди не лгут? Если смолоду был мошенником и лгуном, то к старости только ловчее стал!» Так они ссорились изо дня в день. Иногда и мать называла имя Якшигозель, и тогда отец вовсе выходил из себя: «Не порочьте честную женщину! Она и не собирается выходить за чужого мужа. Это все старый мошенник Джапар выдумал!» Но вчера отец, едва мать начала упрекать его и рассказывать, о чем ей только что говорили соседки, схватился за шапку и молча направился к двери. «Уходишь? — крикнула мать. — Я этого и ждала. Ты все время выбирал момент, чтобы уйти». — «Да, ухожу, — сказал отец. — Если ты дурным людям веришь больше, чем мне, я найду, куда уйти». — «Да, да, уходи. Ты нам не нужен такой. Уходи!» — крикнула мать. И Келевхан ушел. Дангы жалел мать и сердился на отца. Он не хотел разбирать, кто из них прав. Просто он твердо знал, что отец не может, не должен уходить из дому. И он поверил матери, что отец для них умер. А сейчас сидел возле меня и плакал по нему, как по мертвому. Так вот из-за чего он подрался с Чары-келем! Тот слу-чайно, вовсе не из желания подразнить, сказал, что Дангы тоже, мол, сирота… В тот вечер, у арыка, я не знал, как утешить друга. Только сказал ему: — Ничего с тобой не случится и без отца. Проживешь как-нибудь. Живем же мы с бабушкой. Ты, главное, постарайся забыть про него. И не плачь. — Нет, плакать я не буду, он ведь не по-настоящему умер. О таких не плачут, — сердито сказал Дангы и снова заплакал.«Молодец, Говхер, ты сумела заменить мужчину!»
Слух о том, что «женщин посадят на тракторы», прополз по нашему аулу еще до войны. Он был похож на страшную и не совсем понятную угрозу. Вроде бы — посади женщину на трактор, и сразу она перестанет заботиться о своих детях, перестанет готовить обед, и вообще всем вокруг станет очень плохо — и большим и маленьким. Особенно старался пугать этим людей Джапар-сопи. Он любил пугать, такой уж у него была характер. Что бы ни произошло в ауле, какое бы ни случилось событие — кинопередвижка приехала или новые товары привезли в магазин, — Джапар-сопи умел буркнуть, проходя мимо собравшихся женщин: «Не к добру это. Ох, не к добру…» И сразу бежало по аулу: «Джапар-сопи говорит… Сам Джапар-сопи… Ученый человек и к тому же старый…» Вот так и о тракторах. Но всё это были разговоры. А вот когда началась война, и вправду женщины стали учиться водить трактор. И опять Джапар-сопи бормотал: «Все равно ничего не получится. Разве женщина может управлять машиной? Поломает, испортит. И, уж конечно, на этом поле ничего не вырастет». И вдруг Дангы однажды важно сообщил мне, что мать его будет трактористкой. Честное слово, сперва я ему не поверил. Не верил, что женщина может водить трактор, и все. Во-первых, никогда в жизни я не видел женщину-трактористку. Да и тетю Говхер не мог представить сидящей на тракторе с развевающимся на ветру платком… Но после я услышал про это от самой Говхер, от бабушки. Теперьмне уже казалось, что это очень красиво, когда пестрый платок развевается, как флажок, над гудящим трактором. И еще мне представлялся Дангы: стоит, задрав нос, и держится за плечи матери, которая ведет трактор. Он уже хвастался: «Я вам буду сверху рукой махать». «Эх, была бы у меня мама, — думал я. — Она тоже выучилась бы водить трактор. И тогда я махал бы Дангы рукой, держась за ее плечи». Наконец наступил день, о котором так много говорил Дангы. Утром он ворвался ко мне как ураган: — Коссек, пошли скорее, сегодня моя мама трактор поведет! — Вот это да! Неужели она уже научилась? — Научилась! — сказал Дангы. — Вместе с ней и другие женщины занимались. Их тракторист учил. Но моя мама быстрей всех научилась, — гордо добавил он. — Она первая и поведет трактор. Сегодня! Побежим смотреть. Хочешь? Конечно, я хотел. По дороге Дангы рассказывал: — Мама сама будет за ним ухаживать. Это будет ее трактор, понимаешь? Не мы одни хотели видеть, как мать Дангы поведет трактор. Народу собралось очень много. Ведь не только я, но даже старики нашего аула никогда не видели, чтобы женщина управляла трактором. Людей приходило все больше и больше. Скоро весь аул собрался на площадке перед маленькой механической мастерской колхоза. Председатель колхоза Агаджан-ага подошел к стоявшему перед дверьми мастерской трактору, умолкшему с той поры, как ушли на фронт наши трактористы, и позвал: — Говхер, иди, дочка, садись… Мать Дангы заколебалась, смутилась. Да и как было не смутиться: глаза всех собравшихся были устремлены только на нее. «Не смущайся, садись, ты же умеешь», — начали ее подбадривать со всех сторон. Тетя Говхер поднялась на трактор. Поправила концы платка, уселась поудобнее. Трактор, едва слышно урчавший, вдруг задымил и двинулся с места.
Старики стояли, остолбенев. Женщины вскрикивали в изумлении. А мы, ребята, толкая друг друга, побежали вслед за трактором. — Молодец, молодец, дочка! — кричал Агаджан-ага. Запыхавшись, он бежал впереди трактора, и полы его серого халата развевались по ветру. — Веди через весь аул, пусть люди видят!.. Так вот на тракторе мать Дангы торжественно проехала по аулу и снова вернулась к механической мастерской. Агаджан-ага, с трудом переводя дыхание, сказал: — Молодец, Говхер, ты сумела заменить мужчину на такой трудной работе! С такими женщинами, как ты, мы не будем мучиться из-за того, что нет пока что наших парней. Ну, сегодня отдыхай. Завтра выедем на сев. Агаджана-агу в нашем ауле уважали. Он был председателем со дня основания колхоза. Был он уже совсем пожилой, потому и остался дома, но стариком его никто не считал. Говорят, Агаджан-ага первый у нас в ауле сказал, что женщины должны учиться водить трактор. Ходил из дома в дом и все уговаривал, уговаривал… Первой решилась тетя Говхер. Наверно, потому он и бежал впереди трактора, потому и просил ее проехать через весь аул, что очень гордился первой нашей трактористкой. А еще Агаджан-ага лучше многих других знал, сколько у него противников. Кроме Джапара-сопи, был еще в соседнем ауле мулла Абду́л-ходжа́. Наверно, это от них поползли злые слова: «Не справится Агаджан-ага с колхозом. Уж лучше распустил бы его до конца войны…» Джапар-сопи и Абдул-ходжа отворачивались и плевались при виде женщины, управлявшей фургоном или арбой. А про трактор мулла так и сказал: «Женщина села на трактор, значит, скоро будет конец света. Кайтесь, люди, пока не поздно!» Думаю, люди постарше меня тоже не всегда хорошо понимали, что такое конец света и какое отношение он имеет к трактору, но многие пугались и даже уговаривали мать Дангы оставить это дело. В назидание таким людям Агаджан-ага и провел Говхер по всему аулу, как бы желая сказать: «Посмотрите, какие смелые и замечательные у нас женщины! Смотрите и не верьте пустым словам…» Первое время тетя Говхер управляла трактором под наблюдением старого тракториста, который приехал из соседнего поселка. Но уже через неделю она смогла работать самостоятельно. Она была одна, и потому ей крепко доставалось: приходилось работать и днем и ночью. Люди и раньше знали, как хорошо работала мать Дангы в колхозе. Высокая, сильная, крепко перетянувшись широким кушаком, она выходила на жатву. Носила тяжелые снопы. А сейчас, после ухода Келевхана, она будто хотела всем доказать, что ей любая работа по плечу. Только вдруг случилась беда… Бабушка моя говорила: «Ее сглазили». Не знаю, как это можно «сглазить» человека. Но мать Дангы неожиданно заболела неизлечимой болезнью. По ночам она работала на тракторе в отдалении от аула, возле развалин древней крепости, где, как некоторые говорили, водятся джи́нны и разные злые духи. Находились даже выдумщики, которые рассказывали, как «один человек сам видел», «за одним человеком они гонялись»… но вот никто из нас не встречал этого «одного человека». Может быть, мать Дангы и вспоминала иногда эти слухи, проезжая в одиночестве мимо развалин крепости. она как-то сказала Дангы, что порой видит мелькающие вдали огоньки, сказала шутливо, но Дангы немножко перетрусил. И когда он рассказывал про это мне, глаза у него были испуганные. После этого не прошло и двух-трех дней, как тетю Говхер нашли едва живую, в беспамятстве, возле умолкнувшего трактора. Люди принесли ее домой, позвали муллу Абдула-ходжу. Он посмотрел и заявил: «Аллах покарал эту женщину. Нельзя делать дел, не угодных аллаху». Сказал так и собрался уходить обратно к себе домой. — Ходжа, дай какой-нибудь талисман, — взмолилась моя бабушка. Но он огрызнулся, уходя: — Ей теперь не помогут талисманы. Аллах не велит помогать тому, кто преступает его законы. Когда мать Дангы пришла в себя, она слабым голосом рассказала, что разворачивала трактор у края поля и вдруг увидела, как на прицепленный к трактору плуг карабкается кто-то длинный, в белой одежде, с белым, как у мертвеца, лицом. Она сама не знает, кричала или нет. Повалилась навзничь. Хороню еще, не под самый плуг угодила. А трактор продолжал идти некоторое время вперед, съехал в арык, остановился и заглох. — Эх, не видела она. бедняжка, ни привидений, ни джиннов. Просто ее нарочно напугал какой-то подлец, — с горечью сказал Агаджан-ага. — Не могли простить ей, что научилась так искусно управлять трактором. Агаджан-ага привез в наш аул доктора из военного госпиталя. Доктор прописал разные лекарства, наведывался еще. Но все было бесполезно. Говхер худела и слабела с каждым днем. Чем хуже ей становилось, тем больше она тревожилась о Дангы: — Сынок мой единственный, что с тобой будет? Неужто ты и в самом деле останешься сиротой? Нет, нет, не допущу я этого, я поправлюсь. И когда мы варили для нее уху из крохотных рыбешек, нам тоже казалось, что теперь мать Дангы непременно начнет поправляться.
Человек с деревянной ногой
Мать Дангы не выздоровела. Её оплакивал весь аул. Многие теперь верили председателю, что ее напугал какой-то негодяй и она сильно расшиблась. В самом деле, до этого Дангы не был сиротой. Пока у человека есть мама, он не сирота. А сейчас он остался совсем один. Бабушка взяла его жить к нам. Так нас стало трое в старой кибитке. Однажды утром нас разбудила бабушка словами: — Вставайте, сынки. Ночью Белли-уста вернулся с фронта. Впервые за последние недели бабушкино лицо просветлело, даже морщинки будто разгладились. Мы с Дангы тотчас вскочили на ноги. Мы так обрадовались, будто о родном человеке услышали. Я уже говорил: у нас в ауле все любили Белли-уста. Он такой веселый. Даже когда работает, все время улыбается, шутит. Может, оттого и любая работа его слушается. Бывало, подойдешь к нему в кузнице, он никогда не прогонит. Наоборот, все покажет, объяснит. Ну, словом, замечательный человек. А главное, он первый из нашего аула вернулся домой после начала войны. Он воевал, сам бил фашистов. Может, скоро войне совсем конец? Интересно, что он расскажет? Мы с Дангы даже завтракать не стали. Выскочили за дверь. Бабушка крикнула нам вдогонку: — Не забудьте поздороваться! Скажите: «Поздравляем с благополучным возвращением!» Я думал, мы первыми прибежим к Белли-уста, но в его доме было уже полно народу. Поздравляют Белли и его жену, радуются. Каждому хочется поговорить с вернувшимся домой фронтовиком, послушать его рассказ. Но народу много, а дом Белли-уста не так уж велик. Поэтому одни гости, побыв немного, уходят, а на смену им уже торопятся другие. — Сала́м але́йкум! — раздается со всех сторон. Мы с Дангы вошли и тоже сказали, как велела бабушка: — Салам алейкум, Белли-ага, поздравляем вас с благополучным возвращением! Мы выпалили это одновременно, будто сговорились. — Здравствуй, Дангы-хан, здравствуй, Коссек-джан, — ответил нам Белли-уста. — Молодцы. Настоящими джигитами стали. Он поднялся с места, опираясь на палку. И только тут мы заметили, что одна нога у него деревянная. Мы не отрываясь смотрели на его ногу. Белли-уста перехватил наш взгляд и улыбнулся: — Что, первый раз видите человека с деревянной ногой? Не бойтесь, идите-ка сюда… Из груды рассыпанных на белом платке кусочков сахара Белли-уста взял несколько и протянул нам. — Угощайтесь, угощайтесь, чего застеснялись? Да, ребятки, отняли у меня фашисты ногу… Мы все смотрели на деревянную ногу Белли-уста. Как же ее прикрепили? Можно на ней ходить? Бегать? Вопросы вертелись у меня на языке, но я понимал, что спрашивать об этом нельзя. — Получили свое и ступайте, — важно произнес Джапар-сопи. Мы сперва его даже не заметили, хотя он восседал на почетном месте. — Ничего, пусть остаются, — вступился Белли-уста, нахмурившись. Но нам уже не хотелось оставаться, раз тут был Джапар-сопи. Мы с Дангы переглянулись и вышли за дверь. Лучше зайдем в другой раз, когда не будет этого противного «ученого человека». Во дворе царила суета. Там родственники Белли-уста готовили той — праздничное угощение — по случаю воз вращения хозяина. Давно уж в нашем ауле не бывало праздников. До них ли, когда вокруг беда и горе! Сегодня, кажется, впервые в аул пришла радость. Такое событие нельзя было не отметить. — О-о, хорошо, что вы пришли, — сказал седобородый Муха́т-ага, тот самый, что работал на распределителе воды. Он и теперь первым делом беспокоился о воде: связал четыре глиняных кувшина, укрепил их на синие осла и велел нам с Дангы отправляться к арыку. — Будете возить, пока я не скажу «хватит»! — крикнул он нам вслед. — Да поторапливайтесь! Восемь больших котлов надо налить, чтобы всем хватило угощения. — Ничего, Мухат-ага, они справятся, — послышался знакомый голос. Только теперь мы заметили во дворе директора школы Илли-агу. Между прочим, наше намерение бросить школу и заняться настоящим делом не удалось. Два дня мы не ходили на уроки и очень даже весело проводили время, а на третий, рано утром, за нами явилась Шекер. Я еще и встать не успел, но едва заслышал во дворе ее голос, сон с меня сразу слетел. Я собрался в одну минуту и выскочил ей навстречу, чтобы она не успела ничего рассказать бабушке. Вместе с Шекер мы зашли за Дангы. Он уже поднялся и возился во дворе. Увидев нас, он сразу сообразил, в чем дело, забежал в дом за книгами и мгновенно выскочил навстречу. Но ни Шекер, ни Илли-ага нас не ругали. Даже не напомнили ни единым словом про ту злополучную Драку. Однако мы долго боялись понадаться директору на глаза, старались от него прятаться. Вернее, даже не боялись, а просто совестно было. И сейчас, заслышав его одобрение, мы так обрадовались, что готовы были возить воду хоть до самого вечера. Нам пришлось съездить к арыку всего раза четыре. Большие котлы уже были наполнены мясом. — Молодцы, ребята! — похвалила нас жена Белли-уста. Она была веселая, какой мы давно ее не видели. — Молодцы, не забудьте, что вы сегодня тоже почетные гости. Илли-ага, — закричала она директору школы, который вместе с Мухат-агой резал мясо, — ничего не оставляйте, все кладите в котлы! Пусть хлеба маловато, так мяса будет вдоволь. Целого быка зарезали. Да, давно уже в нашем ауле печи стояли холодными. Я хорошо помнил, как до войны бабушка чуть ли не каждый день замешивала тесто, потом разжигала печь — танды́р, стоявшую во дворе. Веселый дым плыл над головами. Потом, когда тандыр раскалялся, бабушка, отрывая куски теста, быстро делала лепешки и прилепляла к раскаленной стенке. И так у нее это ловко получалось! Главное, чтобы лепешка сразу прилепилась, не упала в огонь, а то сразу сгорит. Даже соседки, особенно молодые, приходили к бабушке поучиться печь лепешки. У самой бабушки ни одна лепешка не сваливалась в огонь. Пышной румяной горой поднимались они на блюде. Я прямо дождаться не мог, когда они остынут. Да и отец тоже. Мы с ним хватали по лепешке и начинали перебрасывать с руки на руку, чтобы скорее остыли. Правда, наверно, во всем нашем ауле никто не умел печь таких лепешек, как бабушка! Но теперь никто уже не приходил к ней поучиться этому искусству. Ни у кого не было муки. Зерна, которое выдавали в колхозе, едва хватало на кашу или затируху. Вот почему во всех дворах тандыры стояли холодными. Даже для праздничного тоя по случаю возвращения Белли-уста не из чего было напечь лепешек. На всякий случай послали человека в соседний поселок, побогаче: может, удастся купить или занять у кого-нибудь зерна. Но посланец вернулся ни с чем. Вдруг наш сосед Мурти, рубивший во дворе сучья саксаула, бросил топор и ушел. Прошло не очень много времени, и он вернулся с мешком, до половины наполненным пшеницей. Опустив мешок на землю, он сказал жене Белли-уста: — Раздай, Солтан, пшеницу женщинам. Пусть смелют и сделают муку. Мурти принес пшеницу! Да еще не килограмм либо два, а целых полмешка! Эта весть мгновенно разнеслась по аулу. Все, кто работал во дворе Белли-уста, помогая его близким приготовиться к тою, поочередно подходили к мешку и смотрели на пшеницу, будто на какое-то чудо. Пшеница и в самом деле была отборная, золотистая, как урюк. Кто-то нагнулся, взял горсть, помял в пальцах и снова высыпал в мешок. А седобородый Мухат-ага даже понюхал золотистые зернышки. — Эй, где ты взял ее? — крикнул он Мурти, который как ни в чем не бывало снова принялся рубить неподатливый саксаул. — Не все ли равно, где взял? — отмахнулся Мурти, продолжая работать. — Даю — значит, берите. Главное, скорее смолоть надо, а то к тою хлеб не поспеет. Все молчали. Каждый знал, что Мурти человек очень честный. Он был иранцем, но давным-давно жил в нашем ауле, его любили и уважали. Никогда никто не слышал, чтобы Мурти совершил недостойный поступок, и все же никто не решался взять пшеницу, пока Мурти не рассказал, где он достал ее. — Да вы не подумайте дурного, — сказал он улыбаясь. — Это я у суслика одолжил. Люди всё еще не понимали. Тогда Мурти стал рассказывать по порядку: — Пошел я вчера в степь за хворостом. Рублю саксаул, потом присел отдохнуть. Вдруг вижу — муравьи зерно тащат. Один, другой, третий… Откуда, думаю, у них тут пшеница? Пригляделся — неподалеку пора суслика. А у входа в нору муравьев кишит видимо-невидимо. И все тащат пшеничные зерна. Тут я все понял. Стал разрывать нору, а она все дальше идет, все глубже. И вот наконец доконался. В глубине норы большая яма полна пшеницы. Ну, выгреб я зерно, ссыпал в старый мешок, который ослу под седло подстилал. Вот откуда у меня пшеница. — Молодец, Мурти! — И как ты догадался? — А главное — вовремя, — раздавались вокруг радостные голоса. Лишь Джапар-сопи пробормотал негромко и высокомерно: — Хитер, хитер, Мурти-гул… Я удивленно посмотрел на него. Еще считается ученым, зовется «сопи», а говорит такие слова. Я вспомнил, как однажды отец Дангы — Келевхан велел нам позвать Мурти, нужно было в чем-то помочь по хозяйству, а у нас не принято, чтобы сосед отказал соседу. Мы с Дангы мигом сбегали и вернулись. «Ну что? — спросил Келевхан. — Придет он?» «Да, — ответил Дангы. — Он усмехнулся и головой кивнул». «И ничего не сказал? — встревожился Келевхан. — А как вы его позвали?» «Так и позвали, — сказал Дангы, — «Мурти-гул, отец велел вам прийти помочь ему». «Ка-ак? — переспросил Келевхан, выпрямляясь. Он в ярости шагнул к сыну: — Повтори, повтори, как ты сказал!» И Келевхан с размаху ударил Дангы по щеке. Такого при мне еще не случалось. Я на всякий случай отскочил подальше — боялся, чтоб и мне не понало. А Келевхан уже и сам устыдился своей вспышки, но все еще сердито выговаривал нам, что нельзя ни одному человеку говорить таких обидных слов. «Гул» — это такая обида… Он не успел договорить, потому что во двор уже входил Мурти, как всегда благожелательный и спокойный. Так я тогда и не понял, отчего рассердился Келевхан. Вечером я спросил у бабушки, что́ обидного в слове «гул» и отчего так называют Мурти. «О-о, — сказала бабушка, — да кто же это смеет его так называть? Только очень гадкий или глупый человек. А Мурти… он же наш». И опять мне было непонятно, о чем говорит бабушка. Лишь отец после рассказал мне, что до революции и даже в самые первые годы после нее в степях встречались банды, которые налетали на аулы, — и туркменские и иранские. Налетят, разграбят, увезут, что поценнее, дорогие ковры, а иногда еще прихватят с собой девушек и детей, чтобы продать в рабство. Вот таких людей, проданных в рабство на чужбину, и называли «гул» — «раб». Так был когда-то похищен из дому и продан в рабство Мурти. Тяжелое детство выпало маленькому иранцу. Да разве ему одному? Не лучше жилось и туркменским беднякам, батрачившим на своих богачей. Когда же в Туркмении твердо установилась Советская власть, все бедняки получили землю. Получил ее и Мурти. Вступил в колхоз, женился да так и живет в нашем ауле, который полюбил всей душой. И люди полюбили Мурти. Мурти был хороший работник, добрый сосед. Никогда не отказывался от самой трудной работы, всегда готов был прийти на помощь. Так рассказывал мне отец. Последнее-то я и сам хорошо знал. «Ты посмотри когда-нибудь, как Мурти штукатурит дома, — говорил отец. — Лучшего штукатура во всей округе не найдешь. Ведь за ним и из соседних поселков иногда приезжают, правда, у него не всегда свободное время выдается». С тех пор я уже никогда не произносил слова «гул», а здоровался с Мурти очень вежливо: «Здравствуйте, Мурти-ага». И он отвечал с улыбкой: «Алейкум салам, джан Коссек». Нет, только злобный Джапар-сопи мог произнести эти слова — «Мурти-гул», да еще с намеком, что вроде бы Мурти всех обманывает. Хорошо, что слов этих никто, кроме меня, не слышал, потому что все громко хвалили улыбавшегося Мурти и благодарили его за щедрый подарок к тою. Даже строгий Мухат-ага больше не сомневался насчет пшеницы. — Спасибо тебе, брат!.. — сказал он и позвал: — Ну-ка, женщины, несите ручные мельницы, поторапливайтесь. Ну, сегодня у нас будет настоящий той, какого еще не было с начала войны. — Зачем ты столько принес, Мурти? — колебалась Солтан, жена Белли-уста. — Хватило бы и половины. Всем понемногу достанется, а остальное неси своим внучатам. — Нет, нет, — наотрез отказался Мурти. — Откуда вы знаете, может, суслик специально приберег ее для нашего тоя? — пошутил он. Женщины и девушки принесли ручные мельницы и стали молоть зерно. Приготовили тесто. Вот тут моей бабушке пришлось снова показывать свое искусство. Прошло немного времени, и на расстеленных во дворе праздничных скатертях — дастарха́нах, которые принесли соседи, выросли горки румяных лепешек. Сварилось и мясо в котлах. Его отделили от костей, разрезали на ровные куски, перемешали с кусочками хлеба. Потом Мухат-ага высоко поднял над головой большую миску, полную душистых костей с обрезками мяса, и позвал: — Эй, мальчишки, сюда! Но разве нас нужно было звать? Все ребята — и маленькие, и постарше нас с Дангы — давно вертелись у двора Белли-уста, дожидаясь, когда станут раздавать кости. Так бывало даже до войны, когда всем хватало и хлеба и мяса. Просто это очень интересно — дележка костей, кому какая достанется. Все толкаются, кричат: «Мне! Мне!», тянут руки. А кости еще горячие, схватишь и начинаешь дуть, чтобы поскорее остыла. Мухат-ага через головы других мальчишек протянул нам с Дангы большие, полные мозга кости. Конечно, мы это заслужили. Кто возил воду? Мы с Дангы. Потом Мухат-ага стал раздавать кости остальным мальчишкам. Что тут началось! Все так толкались, что Мухат-ага с трудом удерживал большую, размером с добрый таз, миску. Мы с Дангы стояли в сторонке и смотрели. Одни ребята, получив гостинец, тотчас отходили. Другие продолжали кричать и толкаться. Чары-кель ухитрился спрятать большую кость за спиной и выпросить вторую. Так он и грыз их поочередно, то одну, то другую. Ну и хитрец этот Чары-кель! Не работал, а получил больше всех. Мы с Дангы тоже принялись грызть кости. Но не успели их распробовать как следует, когда нас позвал Мухат-ага: — Как поедите, отправляйтесь по всем домам собирать миски и пиалы. Посуды нужно много. Запомнили? Только потом не притворяйтесь, будто плохо меня поняли… И как это он догадался, что мы с удовольствием удрали бы куда-нибудь, вместо того чтобы ходить по домам и собирать посуду для гостей. Но после такого предостережения не удерешь. — Эй, ребята, и я с вами! — закричал Чары-кель, слышавший слова Мухата-аги. — Ладно, — согласился я. — Втроем быстрее соберем. Мы с Дангы уселись на ишака, который возил воду, а Чары-кель бежал рядом, продолжая грызть кость. С первой он уже расправился и теперь заканчивал вторую. Мы быстро собрали все миски и пиалы, какие только были в домах, и, погрузив в мешки, повезли на ишаке к дому Белли-уста. — Эй, ребята! — окликнул нас какой-то человек, шагавший по дороге. Мы пригляделись и узнали районного почтальона. — Вы Мухата-агу знаете? — спросил он. — Конечно, знаем. А что такое? — спросили мы. Почтальон постоял, о чем-то раздумывая, потом быстро сказал: — Вот что, ребята, возьмите-ка вы это письмо и передайте Мухату-аге. Видите, я уже старик, не под силу мне такие дела… — Да он тут, совсем рядом, — удивились мы и заговорили, перебивая друг друга: — Сегодня у нас той… Приходите! Почтальон только рукой махнул, хотел что-то сказать, но, похоже, не сумел выговорить, будто горло ему сдавило. Повернулся, пошел прочь, к другому аулу или поселку, с черной своей сумкой. Мешки с посудой придерживали на спине ишака мы с Дангы. Чары-кель зажал в руке конверт и побежал во весь дух к дому Белли-уста, поднимая пыль босыми ногами. Весело бежал по дороге наш ишачок, весело подгоняли его мы с Дангы. Пусть видит Мухат-ага, как хорошо и быстро справились мы с порученным делом. Но еще издали мы услышали громкие крики, совсем не напоминавшие о веселье. Скорее это было похоже на плач, стоны… Доносились они со двора Мухата-аги. Что это такое? Мы еще быстрей погнали ишака. Едва въехали в аул, увидели: от дома Белли-уста бегут люди ко двору Мухата-аги. Мы тоже погнали ишака туда. Ох, что тут делалось, во дворе у Мухата-аги! Опустившись на землю, громко плакала его невестка. Волосы у нее растрепались, упали на лицо. Ее обнимала наша учительница Шекер, а сама тоже плакала. То и дело кто-нибудь вбегал во двор с криком: «Ой горе!.. Ой беда какая!..» Мы с Дангы стояли, ничего не понимая. Что тут произошло, пока мы собирали посуду? Так было весело, так хорошо, когда мы уезжали. Вдруг мы увидели Чары-келя. Он стоял, прислонясь к забору, и тер глаза кулаками. — Чары, что случилось? — бросились мы к нему. — Байрам… — пробормотал Чары сквозь слезы. — Байрам погиб! В том письме, что я принес… Теперь мы всё поняли. Почтальон отдал нам извещение о смерти Байрама, младшего сына Мухата-аги. Чары-кель отдал его прямо в руки жене Байрама. Та как развернула, так и повалилась… — Лучше б я порвал эту бумажку, — сказал Чары. — Знал бы, изорвал на мелкие кусочки и выбросил. Противный этот почтальон! Противный. Зачем принес такую бумагу? Вон сколько горя от нее. Все плачут. Не той, а похороны. — Посмотри, что сделалось с Мухатом-агой, — тихо сказал мне Дангы. Я посмотрел в ту сторону, куда глазами указал мой друг. Мухат-ага и правда стал совсем другой. Только недавно он всем распоряжался, командовал, чтобы получился хороший той, быстро ходил по двору Белли-уста, все успевал заметить, смеялся, когда мальчишки расхватывали кости. А теперь согнулся, будто его палкой по спине ударили. Постарел за несколько минут. Стоит на коленях на разостланной посреди двора кошме. Люди, входя в его двор, тоже опускаются на колени, будто в доме и в самом деле покойник. Мы не знали, что нам делать с посудой. Может, везти обратно по домам? Будет теперь той по случаю возвращения Белли-уста или нет? Спросить не у кого. К Мухату-аге не подойдешь. Не до тоя ему сейчас. Мы с Дангы погнали ишака к дому Белли-уста — может, там сумеем узнать, будет той или нет. Но ни самого Белли-уста, ни его жены Солтан дома не оказалось. Ну конечно, они сейчас, как и все, в доме Мухата-аги. Во дворе у Белли-уста, где совсем недавно толпился народ и кипели большие котлы, было пусто. На расстеленных дастарханах грудами лежали свежеиспеченные лепешки, стыло нетронутое мясо. Бабушка Дурли́-эдже́, соседка Белли-уста, палкой отгоняет собак и кошек, которые, почуяв запах мяса, так и вертятся вокруг. Тяжело опираясь на палку, пришел Дурдыклы́ч-ага. Он совсем старенький. С тех пор как сыновья его ушли на фронт, он так и живет один. Ни присмотреть за ним, ни сготовить некому. Разве только кто из соседей вспомнит о нем, занесет что-нибудь поесть.
Но сегодня и Дурдыклыч выбрался из дому. Пришел, сел на землю у разостланного дастархана и, не дожидаясь начала праздника, принялся есть. Все же остальные, кто с улыбкой шел к дому Белли-уста, узнав о горестной вести, со слезами сворачивали к дому Мухата-аги. Мы все-таки сгрузили посуду. Надо же и ишаку дать немного отдохнуть. Он сегодня целый день работал. С самого утра возил то воду, то хворост, то вот теперь посуду. — Дурдыклыч, не ешь много, а то заболеешь, — сказала бабушка Дурли-эдже. — Ты, наверно, совсем изголодался… Но дедушка Дурдыклыч и внимания не обратил на ее слова. Только ел он как-то странно, будто сам не замечал, что делает. На еду даже не глянет — протянет руку, будто слепой, нащупает кусок лепешки или мяса и жует долгодолго… Мы с Дангы пустили ишака немного понастись, потом привязали его во дворе и побежали обратно к дому Мухата-аги. Там по-прежнему все стояли на коленях, будто на похоронах. Но вот поднялся Мухат-ага, подошел к жене Байрама, обнял ее за плечи: — Перестань, дочка, плакать, перестань. Может, это еще и неправда. Ведь бывают ошибки. Человека считают погибшим, а он, оказывается, жив. Потом он поднял с земли траурную кошму, свернул ее и швырнул за черную кибитку. — Друзья мои, вернемся на той к Белли-уста, — сказал он собравшимся во дворе людям. Сначала никто ничего не понял. Некоторые, наверно, даже подумали, что старик потерял разум от горя. Переглядывались, пожимали плечами. Но когда он снова твердо повторил слова, люди поняли, что он не хочет, чтобы горе его семьи помешало отметить возвращение Белли-уста. Один за другим люди поднимались и шли к воротам. Белли-уста и Солтан взяли под руки Мухата-агу и жену Байрама и повели к себе, как самых дорогих и почетных гостей. Опять во дворе Белли-уста разожгли огонь под котлами. Мухат-ага, засучив рукава, принялся готовить дограму́. Приготовить дограму — не простое дело, так же как и испечь лепешки в тандыре. Только лепешки пекут женщины, а сделать дограму — мужская работа. Надо сварить крепкий бульон. Мухат-ага попробовал бульон — готов. Взяв половник с длинной ручкой, он разлил бульон в миски и пиалы, покрошил мелкими кусочками остывшее мясо, лук, лепешки. Вот и готова дограма. По всему аулу плывет вкусный запах. Женщины разносили угощение и ставили перед гостями. Всем хватило вдоволь — и взрослым и детям. И все же грустно было на этом тое. Люди уже не могли радоваться, как утром. Музыканты — бахши́, которые пришли из соседнего поселка, прослышав о празднике, теперь спрятали свои дута́ры, прикрыли полами халатов. Мухат-ага крепился изо всех сил, но не мог досидеть до конца тоя. Попросил прощения у хозяина и вместе с заплаканной невесткой ушел к себе домой, едва передвигая ноги. И сразу люди заговорили громче, свободнее, хотя все равно все оставались печальны. А до этого каждому казалось, что улыбнись он — и обидит Мухата-агу, заговори о чем-нибудь — это покажется оскорблением тяжкого горя отца. Да и сейчас, едва на минутку прерывалась беседа, как доносились громкие причитания матери Байрама, плач его жены…
Всякое случается на войне
С той поры как вернулся в аул Белли-уста, люди стали чаще говорить о войне. Каждый день можно было услышать новое. И всякий раз — страшное. Говорили про войну и раньше, но тогда не было таких, кто видел бы ее своими глазами. Люди говорили понаслышке, а газеты доходили до нашего аула не каждый день. Старик почтальон приносил их только в те дни, когда бывали письма. Не часто, ох не часто они приходили! Теперь же в аул вернулся один из первых участников боев. У Белли-уста собеседников с каждым днем все прибавлялось. Каждый хотел услышать от него что-нибудь новое. А тот, кто слышал, хотел узнать еще больше. Мы с Дангы крутились во дворе Белли-уста каждый день, старались ни одного словечка не пропустить. Иногда кто-нибудь из гостей вспоминал довоенное время; начинались разговоры про плов с курятиной или кишмиш без косточек, будто они вдруг могли появиться в доме. Слушать эти разговоры нам было неинтересно. Но когда нам перепадала пиала зеленого чая, которым угощала почетных гостей Солтан, мы с Дангы бывали очень рады. Как-то вечером у Белли-уста собрались несколько человек. Пришел Мурти, Абдул-ходжа… Даже Джапар-сопи явился со своей неразлучной палкой, похожей на дубинку. — Да-а, все же ты, сынок, оказался счастливым, — сказал Абдул-ходжа, наливая из чайника себе в пиалу зеленого, с каким-то солнечным отблеском чая. И тон, и слова Абдула-ходжи означали просьбу рассказать о войне. — Да, сынок, если ты вышел живым из этого огня, не жалей о потерянной ноге… Белли-уста передернул плечами, как будто и в самом деле пламя дохнуло ему в лицо. Хоть и тяжело ему было рассказывать, но, чувствовалось, воспоминания последних месяцев и ему самому не дают спать спокойно, не позволяют молчать. Рассказывал он отрывочно, всякий раз начиная будто откуда-то с середины. Вот и сейчас заговорил неожиданно: — Целую неделю в открытом поле… Представляете? В субботу вроде бы все ничего, вернулись в казармы. Стали сапоги чистить, пуговицы пришивать. Письма домой начали писать. Да только мало кто успел дописать их… В полночь вдруг послышался грохот. Стекла в казарме разлетелись вдребезги. «Землетрясение!» — крикнул кто-то. Потом грохнуло еще и еще. «Нет, братцы, это не землетрясение, — ответил наш старшина. — Это и называется войной…» Оказывается, снаряды упали прямо поблизости от нашей казармы… Белли-уста дрожащей рукой взял пиалу с зеленым чаем, жадно припал к ней. Нам казалось, что пьет он ужасно долго. Потом он заговорил, и трудно было понять, продолжение ли это его рассказа, или он перескочил совсем на другое. — Дома горят… Пламя до самого неба. Крики, плач… Я стою, даже не знаю, куда бежать. Смотрю, наш командир. Кричу ему: «Товарищ лейтенант!» Он мне знак подал: за мной, мол. И бросился к дому, у которого стена обрушилась. А там его жена… и сын… Это его дом был, мы даже не знали. Прямо на них стена рухнула. У нашего лейтенанта были темные кудри. На моих глазах они поседели… Белли-уста тяжко вздохнул и огляделся по сторонам. Увидел нас, нахмурился, сказал устало: — Идите спать, дети. Пора. Мы стояли опустив головы. Не хотелось нам уходить. — Ничего, пусть послушают, — возразил Мурти. — Они ведь уже всё понимают. После того как он вступился за нас, Белли-уста тоже не стал настаивать. А злому Джапару-сопи было не до нас. Он дрожал от страха, будто сам понал под обрушившуюся стену. — Потом наш лейтенант повел нас против вражеских автоматчиков, — рассказывал Белли-уста. — Сняли мы их, но и наших не много уцелело. Что стало с лейтенантом, не знаю. Ранило меня тогда сильно. Очнулся уже в госпитале. Белли-уста умолк. Все сидели задумавшись. — Подумать, вся семья погибла у человека, а он воюет, — сказал Абдул-ходжа. — Кажется, с ума должен сойти от такого горя. — Потому он и командир, — ответил Белли-уста. — Если он растеряется, что же тогда другим делать? Если духом падет, остальные тоже силы потеряют. — Верно, — согласился Мурти. — Такой человек в своем горе все равно и о чужих бедах помнит. Настоящий мужчина. — Говорят, и среди наших джигитов есть такие, что выросли до больших командиров. Правда это, Белли? — И Абдул-ходжа придвинулся поближе, приложил руку к уху, готовясь внимательно слушать. — Конечно, — ответил Белли-уста. — Ты знаешь Кери́ма, сына счетовода Халлы́ из райцентра? Он полковником стал. — Да, выше болкойника уже никого нет, — важно вставил Джапар-сопи, ученый человек. — Это командир командиров. Значит, наш туркмен теперь там самый главный. — Эх, — махнул рукой Белли-уста, — на фронте не разбирают, кто ты — туркмен ли, русский или грузин. Там ценится храбрость, решительность, мужество. Из всех народов есть там командиры, настоящие джигиты. И снова умолк Белли-уста. Первым нарушил молчание Джапар-сопи, сказал, покачивая головой: — Ай, ай, видишь, Абдул-ходжа, что творится на свете! — Неужели, сынок, вы там стреляли, прямо целясь в человека? — спросил Абдул-ходжа. — Да, очень это нелегко — целиться в человека, — сказал Белли-уста. — Никогда бы я не решился поднять ружье, чтобы причинить кому-то бессмысленное горе. Но ведь там все было иначе. Поднимаю я ружье, а думаю в эту минуту о нашем лейтенанте, как стоял он с мертвым сыном на руках… Вот какие гости пожаловали на нашу землю. И чувствуешь уже, что лишь трус или безумец будет в такую минуту раздумывать или сомневаться. Не смерть мы несли, а жизнь защищали, так-то вот. — Ай, ай, — покачиваясь, произнес Джапар-сопи. — Не хотел бы я побывать в таком пекле, жаль мне тебя, Белли… И тут мы впервые увидели, как сердится наш Белли-уста. — Нечего меня жалеть, сопи, — сказал он резко. — Плохо бы нам всем пришлось, если бы остальные так же, как ты, рассуждали. А я вот жалею, что мало успел повоевать.«Дедушка Дурдыклыч, я тебе лепешку принес!»
То, что Мурти нашел в норе суслика полмешка пшеницы, вызвало в ауле настоящий переполох. Некоторые люди целыми семьями шли в свободное время отыскивать сусличьи норы. Будто за кладом! Мы с Дангы несколько раз уходили далеко от аула, рыли коренья разных трав, которые у нас сушили и заваривали вместо чая. Но на поиски пшеницы бабушка боялась нас отпустить. — Мурти, сынок, — попросила она однажды, — если пойдешь опять за пшеницей, возьми с собой моих внучат. Наверно, эта просьба и заставила Мурти поспешить. На другой же день, когда мы вернулись домой, вдоволь наигравшись у арыка, бабушка обрадовала нас: только что заходил Мурти. Завтра с утра велел нам ждать его. — Ужинайте и ложитесь спать. — Бабушка торопливо хлопотала у очага. — Завтра придется вставать засветло. Я вам и лонаты приготовлю, и мешки. Может быть, даст аллах, повезет и вы найдете зерно. Конечно, мы очень обрадовались. Сразу после ужина нырнули под старую отцовскую шубу, которой укрывались на ночь. С тех пор как Дангы поселился у нас, мы всё делали сообща. Если раньше мы просто дружили, то теперь стали как братья. Вместе ходили в школу, обедали, играли, спали. Вот и теперь мы улеглись рядышком, укрывшись шубой с головой. Мне даже странно было представить, как это я раньше мог жить без Дангы. Я лежал и думал: «Поскорее бы наступило завтра! Вот было бы здорово набрать по целому мешку пшеницы!» — Дангы, а Дангы, — толкнул я начавшего засыпать приятеля. — Ну, чего тебе? — отозвался он сонным голосом. — А что мы будем делать с пшеницей? — Как — что? Съедим. — А как мы ее съедим? — Что значит «как»? — не понял Дангы. — А вот что. Я тебе расскажу. Только притащим пшеницу — сразу попросим бабушку разжечь тандыр и испечь целую гору чуре́ков[1]. Гору, представляешь? Как у Белли-уста на тое. — Чуреки? Сказал тоже! — Дангы даже приподнялся на локте. — Муки нету даже, чтоб в траву добавить, а ты — чуреки. — Ну, тогда лепешек. Они поменьше. — Никаких лепешек. Про это и думать забудь, — строго сказал Дангы. — Один раз испечем, а после что делать? Муку беречь надо. Мы начали спорить. Сначала потихоньку, потом всё громче. Я настаивал, что надо непременно испечь белых вкусных лепешек, без всякой травы, из одной пшеничной муки. А Дангы доказывал, что если муку беречь, то можно будет долго-долго варить затируху или кашу. — Что случилось? — В мазанку вошла со двора встревоженная бабушка. — Почему вы не спите? Кто из вас так кричал? Тут мы оба раскричались во всю мочь. Бабушка едва поняла, в чем дело, а когда поняла, засмеялась и покача́ла головой: — Ох, дети, дети… Да ведь ее сперва найти надо, пшеницу, а уж что с ней делать, придумаем. Ну-ка спите сейчас же… Но мы еще продолжа́ли спорить шепотом под шубой, пока не договорились, что в первый день все же попросим бабушку напечь лепешек, а потом уже будем есть только затируху или кашу. И конечно, мы были уверены, что наберем пшеницы много. Ведь мы шли вместе с Мурти. А уж он знает, где искать пшеницу. Мне даже приснилась огромная нора, похожая на комнату, и суслик, который говорил человечьим голосом: «Смотрите, какая у меня пшеница! Это я для вас припасал. Полнее, полнее набивайте свои мешки!..» Утром, едва начало подниматься солнце, Мурти подъехал к нашей кибитке на своем знаменитом сером ишаке с бусами на шее. Ишак иногда потряхивал головой, и бусы мерно позвякивали. Мы дожидались во дворе, выбежали навстречу с лонатами в руках. Бабушка вышла проводить нас. Стояла и приговаривала: — Пошли вам аллах удачи… Мурти велел нам садиться на ишака. Мы с Дангы мигом взобрались на него. Дангы сидел впереди — он ведь побольше меня, я — сзади. Мешки подстелили по́д себя, а лонаты я держал в руках. Ехать пришлось долго. Вернее, ехали-то мы, а Мурти шел всю дорогу. Шагал он очень быстро, в своих легких чока́ях, аккуратно привязанных ремешками к ногам. Наконец мы добрались до поля, где в прошлом году сеяли пшеницу. Нам с Дангы хотелось поскорей слезть с ишака и начать искать норы сусликов. Но Мурти продолжал шагать дальше. Мы перевалили через бархан и оказались на другом поле. Все кругом было так изрыто, будто в этих местах хозяйничали дикие кабаны. Пришлось снова двинуться в путь. Но и на следующем поле, похоже, у каждой норки суслика уже работало по нескольку человек. Все рыли землю, обливаясь по́том. Мурти постоял у одной норы, у другой, заглянул в третью. Мы с Дангы нетерпеливо поглядывали на него: нам не терпелось приступить к работе и поскорее наполнить наши мешки. Ведь чем скорее мы привезем домой пшеницу, тем раньше бабушка успеет напечь лепешек. — Скорее надо найти свободную нору, — сказал я. — Чего на них глядеть, они все одинаковые. — Нет, не все одинаковые, — возразил Мурти. Глаза у него были немолодые, а зорче наших. Вот он остановился у маленькой норки, присел, пригляделся. Мы тоже присели, начали разглядывать норку, но ничего особенного не увидели. Нора как нора. — Может, начнем конать? — спросил я и взялся за лонату. — Нет, — покачал головой Мурти. — Здесь мы вряд ли что-нибудь найдем. Низко пригнувшись, он отошел к другой норе и оттуда позвал: — А вот тут, пожалуй, кое-что есть… Ну-ка, попытайте счастья. — Откуда вы знаете? — удивился Дангы. Мурти пояснил: — Видите, вокруг норы полно муравьев. Присмотритесь внимательнее — что они тащат? — Зерно! — закричали мы в один голос. — И этот, и вот этот!.. Ну конечно, Мурти и в самый первый раз именно так догадался о зерне в норе суслика благодаря муравьям. И как он догадался к ним присматриваться? — Ладно, не буду вам мешать, — сказал Мурти, а сам пошел дальше разыскивать новые поры. Мы поспешно принялись за работу. Сначала мы конали быстро, без передышки, потом устали. Нора казалась снаружи совсем маленькой, а под землей шла все дальше и дальше, извивалась, и неизвестно было, когда она кончится. Мы остановились немного передохнуть. Разогнули спины. Огляделись. Мурти конал землю неподалеку от нас. Халат он сбросил — наверно, жарко стало, и смуглые плечи его блестели под солнцем. Мы снова принялись за работу. Дангы теперь конал. медленно, еле-еле. На минуту прислонил к себе лонату и показал мне красные, вспухшие ладони. У меня кожа на ладонях тоже горела, как обожженная. Но не бросать же работу, когда уже осталось совсем немного. Хоть мы порядком измучились, но расконали нору до конца. Каково же было наше разочарование, когда зерна там не оказалось! Ну и ругали же мы ленивого суслика! Не мог припасти, как другие. Мы пошли посмотреть, как идут дела у Мурти. Оказалось, что и у него не лучше, хотя он за это время расконал две поры и принялся за третью. Везде было пусто. — Нет, видно, сегодня мы зерна не найдем, — сказал Мурти, надевая свой халат. — Ничего не поделаешь, пора возвращаться, поздно. — Видя, что мы с Дангы приуныли, он добавил: — Завтра и послезавтра надо хлопок поливать, у меня и часа передышки не будет. А вот после этого снова отправимся попытать счастья. Однако в следующий раз я ехал с Мурти уже один, без Дангы. Моего Дангы увез к себе дядя в соседний аул. Это тот самый дядя, к которому мы хотели убежать, когда решили бросить школу, брат тети Говхер. Прежде Дангы очень любил ездить в гости к дяде, но теперь ни за что не хотел жить там. Дядя уже два раза увозил его, а Дангы все равно убегал обратно. Бабушка говорила: «Что вы делаете, совсем извели парня. Пусть живет у нас. Он ведь привык к нам, да и мы тоже. Был у меня один внук, а теперь — двое». Но дядя Дангы не соглашался: «Зачем мальчик будет жить у чужих, если у него есть родственники? Что о нас люди скажут?» И вот он приехал в третий раз и опя́ть увез Дангы. «Все равно Дангы вернется, — думал я, покачиваясь на ишаке, в то время как Мурти легкошагал впереди. — Вернется. Разве ему плохо у нас? Мы же не умираем с голоду. Если трудновато живется, так сейчас у всех так. И за зерном мы поехали не потому, что совсем ничего нет в доме. Просто всего маловато, беречь приходится каждую крошку. Ну и будем беречь, что особенного?» Правда, в этот раз Дангы слишком долго не возвращался, наверно, его там стерегли. Я не мог понять, чего должны были стыдиться его родные? Того, что мы с ним подружились, привыкли друг к другу? Ведь к своему дяде и другим родственникам он не мог так привыкнуть, мы-то с ним выросли вместе и каждый день виделись, всю жизнь. Невеселая это была работа — раскапывать сусличьи норы. А может, она казалась такой потому, что рядом не было Дангы? Мурти трудился неподалеку. Он молчал, и я догадывался, что похвастать ему нечем. Я решил теперь все делать по-другому: не раскапывать всю нору в поисках целой груды зерна, а собирать хотя бы по зернышку. Зернышки в норах понадались часто, но их было немного, и раньше я не обращал на них внимания. Теперь же я каждое зернышко поднимал и клал в мешок. Невелика оказалась моя добыча, но все же больше, чем у Мурти: его мешок был совсем пуст. — Эх, — сказал он, — если человек будет надеяться на суслика, ему останется только подохнуть. Поехали домой, сынок. Я показал ему свою добычу. — Молодец, на кашу собрал, — похвалил меня Мурти. Но когда подъехали к нашей мазанке, он сказал: — Ну, всё. Довольно нам за сусликами гоняться. Больше я никуда не поеду. Зерно, которое я привез, все было в земле и в песке. Бабушка просеяла его через решето, а после смолола на ручной мельнице. Получилась небольшая миска муки. Но все равно это была настоящая пшеничная мука. И добыл эту муку я. Долго я любовался мукой, дотрагивался до нее пальцами и все жалел, что в этот день со мной не было Дангы. Бабушка велела мне набрать лебеды. Я взял ведро и пошел к арыку. Там кусты росли так густо, что сплелись в настоящие заросли, ничего не разберешь. Но я знал, где лучше всего собирать лебеду. Раздвинешь сухие колючие стебли, а внизу под ними прячутся свежие красненькие листочки лебеды. Я набрал почти полное ведро. По дороге домой сорвал еще несколько горстей мяты. Если добавить мяту к лебеде, лепешки получаются вкуснее. Бабушка похвалила меня за то, что быстро управился. Вместе мы принялись перебирать листочки, обрывать стебли. Потом бабушка мелко изрубила лебеду, добавила мяту, все это перемешала с мукой, полила маслом. Ну, теперь лепешка будет что надо! Я помог бабушке разжечь тандыр. Из теста получились даже две лепешки. Красивые, душистые. Одну лепешку бабушка отложила и сказала: — Коссек, внучек, отнеси это дедушке Дурдыклычу. Пусть отведает горяченького. А вернешься — сам поешь спокойно. Раньше я часто бегал к дедушке Дурдыклычу: бабушка всегда посылала ему что-нибудь поесть, да и другие соседи тоже. Но в последние дни у нас с бабушкой у самих было туговато. Зато сегодняшние лепешки — это вроде подарка. Значит, и мы можем преподнести человеку хороший гостинец. Еще со двора я громко закричал: — Дедушка Дурдыклыч, вставай, я тебе лепешку принес! Но дедушка не отзывался. Наверно, уснул. Или не слышит — он глуховатый. Я крикнул еще громче: — Дедушка Дурдыклыч! Нет, никак не разбудишь. Я приоткрыл дверь дома. Дедушка неподвижно лежал под старым одеялом. Ну и крепко же он спит! Я хотел было оставить лепешку возле постели — проснется и поест, но вспомнил, что бабушка велела отнести лепешку поскорее, чтоб дедушка поел горяченького. Потом, когда лебеда застынет, лепешка становится жесткой и горчит. Я подошел совсем близко и тронул дедушку за плечо, за руку. И вдруг у меня дыхание остановилось от страха. Я закричал и бросился вон из дедушкиного дома, уронив лепешку на пол. — Бабушка, ой, бабушка! — кричал я, влетев в наш дом. — Дедушка Дурдыклыч… он… Неживой он! — Не может быть! Бабушка поднялась. Пододвинула мне дрожащей рукой горячую лепешку, а сама есть не стала. Поспешно вышла из дому. Я был очень голоден. Отломил кусок лепешки и побежал за бабушкой. Наверно, соседи услышали мой крик. У дедушкиного дома уже собрался народ, всё больше старики. Пришел даже Мухат-ага, который нигде не показывался с того дня, как пришло сообщение о гибели Байрама. Он ходил только на канал, открывал воду для полива хлопка и возвращался домой, чтобы от всех закрыться до следующего дня. Несколько человек пошли копать могилу. Кого-то из ребят послали в поле, где работал народ, сообщить о смерти дедушки Дурдыклыча. Он был одинок с той поры, как ушли на фронт его молодые, еще неженатые сыновья, и сейчас все как будто чувствовали себя немножко виноватыми. Похоронить дедушку Дурдыклыча решили как положено по обычаю. Нас с Мурти послали за Джапаром-сопи, потому что он когда-то учил Коран и умеет читать молитвы. Я боялся злых собак и остался было на улице, но Мурти отворил калитку и потянул меня за собой. — Что? Дурдыклыч умер? — переспросил Джапар-сопи. — Ай-я-яй, беда какая! Но все же для него это даже лучше… Я не понимал, как можно о ком-то говорить, что для него лучше умереть. Не понимал этого, наверно, и Мурти. Он еще больше нахмурился, потупил голову и отрывисто передал просьбу людей почитать молитвы над дедушкой Дурдыклычем. — Ой нет, сейчас не могу, — торопливо ответил Джапар-сопи. — Не могу, лук сохнет. Возле крыльца были уже приготовлены большие корзины с зеленым луком, который Джапар-сопи возил продавать на станцию. Вот и теперь, не обращая на нас внимания, он принялся грузить свои корзины на ишака. Мухат-ага только головой покачал, когда мы рассказали ему, что Джапар-сопи не может прийти проводить в последний путь дедушку Дурдыклыча из-за лука. Люди стали возмущаться: — Для него лук дороже, чем человек. — Да всегда он и был такой, а вы — «сопи, сопи…», — сказал кто-то. — Я бы его на порог не пустил, — пробормотал Мурти. А Белли-уста громко сказал: — Нужен он очень. Без него сумеем проводить нашего Дурдыклыча. Но старики не соглашались. Как же провожать в последний путь старого человека без молитвы? Решили дождаться Джапара-сопи. Он вернулся в аул к вечеру, с пустыми корзинами. Через некоторое время Мухат-ага сам пошел к его дому и вернулся вместе с ним. Я слышал из-за калитки бранчливый голос Джапара-сопи: — Сами виноваты, посылаете ко мне какого-то мальчишку вместе с этим Мурти-гулом! Они толком и объяснить ничего не могли. Знал бы я, что такое дело, сразу бы пришел… Я едва не крикнул, что он все лжет, все прекрасно знал и понял! Как, оказывается, ловко подлые люди умеют выкручиваться и сваливать вину свою на других!Суюнчи
Ну конечно, Дангы опять убежал от своего дяди и вернулся к нам с бабушкой. Он даже не совсем убежал, а вроде бы уговорил дядю пока за ним не приезжать. Сказал, что бабушка моя много для него сделала, а теперь она старенькая, ей трудно, и он вместе со мной хочет ей во всем помогать. И тут дядя его согласился, что он в самом деле должен отблагодарить бабушку за ее добро. Может, это все и так, но я-то знаю, что самое главное — Дангы любит нас с бабушкой больше всех на свете и хочет быть вместе с нами. Однажды рано утром мы услышали из своей кибитки громкий голос Чары-келя. Между прочим, голос его можно узнать где угодно. Ни у кого из мальчишек нет такого хриплого, громкого голоса. — Эй вы, сони! — кричал Чары-кель с улицы. — Разве можно столько спать? Бабушка, разбудите их, пожалуйста. Не дожидаясь ответа, Чары-кель ворвался в нашу кибитку. Мы были уже на ногах. — Ага, проснулись, голубчики! — Мы давным-давно встали, — ответил я, хотя мы только что вынырнули из-под шубы. — Видали это? Мы так и ахнули. В руках у Чары-келя была новенькая, ярко расшитая тюбетейка. — А это видали? Он по локоть засунул руку в длинный карман своих штонаных-перештонаных синих штанов, перешитых из отцовских, и вытащил несколько радужных бумажек. Таких денег мы с Дангы в жизни в руках не держали. — Эй, где ты их нашел? — Где нашел? Не нашел, а заработал. Вы продолжайте спать, а я и сегодня заработаю новую тюбетейку и кучу денег. Чары-кель важно выпятил грудь. Но мы не поверили, что он мог столько заработать в один день, и приставали к нему с расспросами. А он, ужасно довольный, хвастался: — Уметь надо! Дангы рассердился. Убирая свернутую шубу в большой ящик, проворчал: — Что там долго говорить. Украл, и все… — Эй, ты, думай, что говоришь. Может, ты сам вор… — Я-а?! Ну-ка, скажи, кто уволок яблоки прямо с веткой из сада Джапара-сопи? — Джапар-сопи не в счет. Я его собак боюсь, а то бы весь его сад растащил. Он сам вор и мошенник… Я очень боялся, как бы они опять не подрались, и постарался перевести разговор: — Ладно, будет вам спорить. Так откуда ты все это взял? Я даже положил руку на плечо Чары-келя, чтобы, в случае чего, удержать его от драки. — Вчера после уроков я ездил на станцию Кара́-бата́. — И долго ты пробыл там? — удивился я. — Мы же вместе вчера ходили выкапывать коренья для чая. — Ну и сказанул! — откликнулся Дангы, поливая себе на руки из кумга́на. — Я правду говорю! — закричал Чары-кель. — Клянусь! Если человек клянется, нельзя, конечно, ему не верить. — Ладно, продолжай, — сказал я. — Поехал ты в Кара-бата, ну и что? — А то, что я не просто поехал, а подвез одного дяденьку со станции. — На чем? — На ишаке. — И заработал столько денег? Не выдумывай. — Клянусь! И снова пришлось его слушать, вместо того чтобы спорить. — Так вот, приехал я и вижу — какой-то человек с фронта вернулся. Только он с поезда сошел — я к нему. Спрашиваю: «Дядя, ты моего папу не видел?» Правда-правда. Я ведь для того и поехал, чтобы у кого-нибудь про отца спросить. Сами знаете, как без отца трудно. Я еще и не думал, чтобы подзаработать. «Нет, — сказал он, — не видел я твоего отца. Но ты жди, он обязательно придет. Меня вот, может, давно дома не ждут, а я приехал». Ну, я обрадовался. А то ведь от отца уже пять месяцев и восемь дней, как нет писем… — Ну, это еще ничего, — ответил я Чары-келю. — От моего отца два года нету писем. Я мысленно попытался представить лицо своего отца, по почему-то не смог. Лицо расплывалось, и отец становился похожим то на Келевхана, то на Мурти. Дангы не понравилось, что мы заговорили про отцов. Он сильно переживал, что отец его так опозорился — сбежал из дома. — Ну ладно, надоели, — сказал он грубо. — Рассказывай, Чары, про того дяденьку. Только не думай, будто мы поверим, что он просто так дал тебе деньги. — Вовсе не просто так, — запротестовал Чары-кель. — Потом он меня спросил: «Ты колхоз «Мукомол» знаешь?» Я ответил: «Знаю». Тогда он сказал: «Ты бы не отвез меня туда? А то у меня нога прострелена, я совсем идти не могу». Ну, я его и отвез. У меня ведь ишак был с собой. Нет, не могли мы поверить Чары-келю. Даже если бы он отвез фронтовика со станции домой, за это нельзя так много получить. Но мы упустили самое главное… Чары-кель продолжал: — Подъезжаем мы к колхозу, а дядя слез с ишака, взял свой черный чемодан в левую руку. Смотрю, правая у него совсем неподвижна. Я этого сперва даже не заметил. И на шее справа у него был глубокий такой шрам. Он постоял немного и говорит мне: «Иди вон в тот крайний дом и сообщи им, что Какамура́д с фронта возвращается!» Тут-то мы с Дангы все поняли! Суюнчи — радостная весть. По нашим обычаям, человек, который первым приносит в дом радостную весть, достоин награды. А тут такая радость: хозяин возвращается! Теперь мы уже верили всему. Даже могли себе представить, как Чары-кель вбегает в дом и громко кричит: «Суюнчи! Суюнчи!» Все смотрят на него, ждут, что он скажет. А когда узнают о возвращении Какамурада, не знают, чем отблагодарить вестника радости. И тут хозяйка со слезами счастья на глазах вынула из сундука расшитую тюбетейку и вручила Чары-келю, другие совали в широченные карманы его штанов деньги на гостинцы. Да я сам и бабушка моя отдали бы все самое лучшее человеку, который прибежал бы сказать нам, что по дороге идет, направляясь к родному дому, мой отец! Чары-кель рассказывал, что ему еще насыпали в карманы сушеного урюка, который он ел всю обратную дорогу. Он даже протянул нам с Дангы несколько замусоленных желтых комочков. Но нам было не до них. — Когда ты еще поедешь на станцию? — спросил я с волнением. — Да хоть сейчас. Хотите, поедем вместе? Он уселся на своего ишака, а я и Дангы по пыльной дороге зашагали следом. Семь потов с нас сошло, пока мы добрались до станции Кара-бата. Чары-кель привязал своего ишака и важно сообщил: — До прихода поезда остался час и сорок минут. Пошли посидим в тени. Мы уселись под деревьями, и Чары-кель снова вытащил из кармана тюбетейку. Стал разглядывать узоры. Такой замечательной тюбетейки еще ни у кого из нас не было, ее и вышивали, должно быть, специально для подарка. — Чары, будь другом, отдай тюбетейку мне или Дангы, — сказал я. — Все равно ты ее носить не будешь. У тебя ведь болячки. Мы знали, что Чары страшно сердится, когда его называют «кель». Ясное дело, неприятно, если тебя дразнят шелудивым. Поэтому мы смягчали это слово и болезнь Чары называли «болячками». Этих болячек у Чары было так много, что он не мог надеть новую тюбетейку вместо старой облезлой меховой шапки. — Э-э, какой хитрый, — возразил Чары. — Я ее сам буду носить, когда болячки пройдут. — А когда они у тебя пройдут? — вмешался Дангы. — Не беспокойся, вылечусь. Мама говорит, что отправит меня в больницу, как только вернется дядя Аши́р. Он письмо недавно прислал из госпиталя. А я, может, его и дожидаться не буду, сам в больницу махну. Вот тогда и пригодится мне тюбетеечка. — И Чары ласково погладил свою новую тюбетейку. — Эх, ты, давно бы и шел в больницу, — сказал я. — Что же ты в прошлом году от доктора в коровник спрятался? Дал бы себя осмотреть, давно был бы здоров. — Да, зря я тогда убежал. Но мне тогда как-то все равно было. — И Чары влюбленными глазами стал опять разглядывать узоры тюбетейки. Видно, очень уж хотелось ему пощеголять в этой обновке. Вдруг он стал с тревогой шарить по карманам. — Что, деньги потерял? — испугались мы. Лицо Чары-кель расплылось в улыбке. — Целы. У меня карманы глубокие. Да я еще булавкой заколол. — Он показал огромную булавку и наглухо застегнул карман. — Как думаете, не выпадут? — И сам подтвердил уверенно: — Не выпадут. В самом деле, разве можно быть растеряхой, если в руки тебе понала такая уйма денег? Признаюсь, больше рублевки я лично никогда в руках не держал. У Дангы иногда бывали деньги. В последний раз дядя дал ему денег, но он не дразнился и не хвастался, как Чары-кель, а сразу отдал их бабушке. Сколько ни дожидались мы в тот день, никто так и не сошел с поезда. А ведь прошло несколько длинных составов. Одни останавливались на нашей станции, другие проносились мимо с такой быстротой, что только ветер свистел в ушах. Начало уже темнеть, когда подошел еще один поезд. Старик, продававший на перроне семечки, пробормотал: — Опять плохой поезд. Что-то часто он стал проезжать за последние дни. Этот поезд стоял особенно долго. Но почему-то никто из него не вышел — ни за водой, ни за семечками. На ступеньках одного из вагонов появилась девушка в белом халате, постояла недолго и снова захлопнула дверь. Потом мы увидели, как из вагона в вагон торопливо переходил пожилой человек в очках. На нем тоже был белый халат, на голове белый колпак. Мы все-таки ждали, надеясь, что кто-нибудь сойдет с поезда. Неподвижно стоял на перроне и старый торговец семечками. — Эй, ребятки! — окликнул он нас. — Ступайте-ка домой, сегодня вы никого не дождетесь. — Почему? — Поздно уже. А с этого поезда никто не сойдет. Разве вы не видите красные кресты на вагонах? — Ну и что? — Этот поезд возит только раненых. Люди не домой, а в госпиталь едут. Видите, никто даже к окнам не подходит, все лежачие. Вконец расстроенные, представляя себе вагоны, где на каждой полке лежит тяжело раненный человек, мы отправились домой. Дома я рассказал бабушке, куда мы ходили и как Чары-кель заработал деньги и тюбетейку. — Суюнчи — это хорошо! — обрадовалась бабушка, но тут же встревожилась: — Ох, как бы не потерял он эти деньги… Но Чары-кель деньги не потерял. На следующий день он куда-то запронал сам. А мы-то надеялись снова сходить вместе с ним на станцию. Решили зайти к нему сами. Мать Чары-келя толкла в большой медной ступе зерно. — Ба, хватились! — сказала она. — Чары-джан с утра поехал в больницу. — На чем? Кто его повез? — Поехал он на фургоне, в котором жмых возят. Я его спросила: «Сам сумеешь найти больницу?» А он говорит: «Найду. У каждого человека буду спрашивать и найду. Люди покажут». — А деньги он куда девал? — вырвалось у Дангы. Тут мать Чары-кель перестала толочь зерно и шагнула к нам: — Так вы тоже про деньги знаете? Откуда они взялись? Я только сейчас заметила, он их на столе под миску сунул, когда уходил. Чьи это деньги? Вид у нее был очень встревоженный. — Его это деньги, — сказал я. — Ну и ваши тоже. Это он одним людям из «Мукомола» радостную весть сообщил, что их сын с фронта возвращается. Мать Чары-кель присела на лавку и рукавом вытерла вспотевший от волнения лоб: — Уф, тогда ничего… От вас ведь всего можно ждать. А у меня вся душа перевернулась. Думала, уж не ограбили ли вы кого. Ах, сыночек, сыночек, ему ж самому и купить там чего-нибудь нужно, и на дорогу обратную… А он их мне под миску подложил. Эх, детки, были бы ваши отцы дома… Дангы, как услышал последние слова, бросился вон из дома Чары-келя. Я — за ним. Нет, не только вестником чужой радости стал Чары-кель. Эта чужая радость лучиком сверкнула и в его жизни. Не получил бы он в подарок такую красивую тюбетейку — может быть, и лечиться бы еще долго не стал. И какой он, наверно, был гордый, когда тихонько подкладывал матери под миску деньги. Мужчиной, джигитом себя чувствовал. Помощником. Только вот не пришло ему в голову, что, если бы не мы, мать его и прикоснуться не решилась бы к этим деньгам.Келевхан прощается с сыном
— Если аллах не хочет, чтобы мы умерли с голоду, завтра он что-нибудь нам пошлет, — сказала бабушка, когда варила затируху из последней горсточки муки. Мы поужинали и улеглись пораньше спать. Я заснул сразу: очень уж мы устали за день. После школы безуспешно встречали поезда на станции, Отмахали порядочный кусок дороги туда и обратно. Утром меня разбудил скрип двери. Я высунулся из-под теплой шубы и с недоумением разглядывал человека, стоявшего на пороге. Снится это мне или нет? Вытянувшись во весь рост, в мазанке нашей стоял тот самый солдат, которого мы так безуспешно пытались встретить в эти дни. Нет, не солдат — командир! Нет, это, наверно, сон. Не может быть, чтобы он сам пришел просить нас сообщить его близким радостную весть. А командир все стоял неподвижно, в ушанке, в туго перепоясанной шинели. Вдруг он заговорил тихо: — Коссек, не спишь?.. Я приподнялся на локте. Я уже успел немного забыть лицо своего отца, но все равно знал твердо, что это не он. Тогда кто же? Ой!.. Это же отец Дангы! Просто я никогда не видел его в военной форме и потому не узнал спросонок. Я начал трясти спящего Дангы: — Эй, вставай, вставай!.. Дангы, отец приехал! — А?.. — Дангы проснулся и сел, протирая глаза. Келевхан шагнул вперед и склонился над нами, протянул руку, чтобы погладить Дангы по голове. — Сыночек мой, здравствуй… Дангы отшатнулся. Прижался ко мне. Глаза у него стали совсем круглыми. — Дангы, это же твой отец. Дангы будто застыл: смотрит на военного и губы у него дрожат. — Сынок, Дангы… Келевхан хотел обнять его. Дангы буквально выпрыгнул из-под шубы. Отскочил в сторону и стоит. — Я специально из-за тебя приехал, — начал уговаривать его отец. — Я все знаю. Мама, бедняжка… Дангы вдруг осмелел: — А разве не ты убил маму? Что ты сейчас притворяешься? Уходи, ты мне не нужен! — Дангы-джан, сынок, не говори так… — Я тебе не сын. Уходи отсюда! Уходи из нашего дома! Для чего ты нарядился в военную форму? Военные — они не такие… Дангы изо всех сил хлопнул дверью и убежал. Я, пораженный, сидел на полу, прикрывшись шубой. Когда исчез Дангы, мне стало страшно, я не знал, о чем буду говорить с этим человеком. А он и не замечал меня, стоял неподвижно, прижав руку ко лбу. Долго он стоял так со склоненной головой. Я успел выскочить во двор, позвать бабушку. Она вошла, спросила: — Ну что, жив-здоров, Келев? Он промолчал. Бабушка разожгла очаг, заварила чай из сушеных кореньев. — Снимай шинель, садись поудобнее. Прости, накормить тебя нечем. Я уж ходила с утра к председателю. Обещал сегодня дать крупы, тогда кашу наварю. Поешь с моими ребятами. Келевхан глубоко вздохнул: — Говхер, бедняга… Ушла, значит. Да будет ей земля пухом. Бабушка не ответила, отвела взгляд. Снова стало тихо, тоскливо. Наконец Келевхан заговорил: — Вот к сыну пришел… А он гонит, Мамур-эдже. — Что поделаешь. Ведь ему уж двенадцать лет, не маленький, все понимает. Келевхан вспыхнул, закрыл лицо руками. Бабушка попыталась перевести разговор на другое: — Значит, и ты, Келев, идешь воевать с этим негодяем? — Да водь я уже воевал, прямо отсюда и пошел. — Не хитри, Келев. Люди лучше знают, куда ты пошел отсюда. Только и ждал случая бросить бедняжку Говхер. Мальчика сиротой оставил. Ну, поступай как знаешь, если эти дела тебе по душе. Но сам видишь, ни один человек не идет тебя встречать, поговорить с тобой. А ведь народ бежит даже в другой аул, если кто-то с фронта возвращается. Прости меня, может, следовало и промолчать, но не могу. — Ладно, Мамур-эдже, ладно. Все равно вы сейчас не поймете меня. Наверно, никто не поверит, что прямо отсюда я уехал на фронт. Ранен был, в Баку в госпитале лежал. Подлечили, и вот опять на фронт еду. Отпросился только сынка повидать. О смерти бедняжки Говхер мне на станции сказали. Я понимал, что бабушка не верит ни одному его слову и если порой говорит: «Да-а, так-так…», то даже эти коротенькие слова звучат осуждением. Келевхан развязал свой вещмешок. Достал оттуда сухарь, протянул мне. Я чуть не выхватил из рук у него и сухарь, и кусочки сахару, которые он вынул полной горстью. — Оставь Дангы половину, — напомнила мне бабушка. — Ешь, ешь, Дангы тоже хватит, — сказал Келевхан и высыпал на скатерть еще сахару и сухарей. Достал еще какой-то сверток: — Мамур-эдже, отдайте это моему Дангы. Тут ремень с пятиконечной звездой — давняя его мечта. Келевхан завязал вещмешок, поднял его и направился к двери. — Куда же ты? Ну-ка сбрасывай шинель, отдохни. Завтра ребята проводят тебя на станцию. — А сын?.. Ведь он из дому убежал. — Ничего с ним не будет, вернется. Келевхан снял шинель и присел у очага. Но Дангы так и не вернулся домой. Он не пришел даже ночевать. Я обошел весь аул, но его нигде не было — ни в школе, ни у ребят. Весь вечер мы просидели втроем молча, как незнакомые. Бабушка молча приготовила ужин, молча поставила перед нами миски с кашей, пиалы с чаем. Келевхан к еде не притронулся, только выпил несколько глотков чая. Утром он спросил у меня: — Коссек, сынок, ты сумеешь найти место, где похоронена Говхер? Я знал могилу тети Говхер, но почему-то растерялся и посмотрел на бабушку, не зная, как ответить. — Сумеет, отчего не суметь, — ответила бабушка. — Проводи его, внучек, на могилу, а потом на станцию… Ссутулившись, Келевхан поднялся, низко поклонился бабушке и вышел из дому, не поднимая глаз. Я повел его к кладбищу. Мы уже далеко отошли от аула, когда я случайно обернулся и заметил вдали маленькую фигурку, похожую издали на тень. Я остановился. Тень тоже остановилась. Я еще несколько раз оглянулся — тень не отставала от нас. Оглянулся и Келевхан. — Кто это идет за нами, Коссек? — спросил он. — Кажется, Дангы, — ответил я не очень уверенно. — Дангы? — переспросил он и остановился. Да, это был Дангы. Теперь я уже ясно различал его. Он остановился, когда остановились мы, но едва мы двинулись вперед, как он снова пошел за нами. — Знаешь что, — сказал Келевхан, — я обожду там, за арыком, а ты вернись, попробуй привести его. Я побежал к Дангы. Он молча поджидал меня. Был он бледный, заплаканный. Не знаю, где провел он эту ночь, но вряд ли ему удалось поспать и поесть. Теперь Келевхан медленно шагал впереди, а мы с Дангы на расстоянии шли за ним. Шли мы по бездорожью, прямо через вспаханное поле, спотыкаясь о большие комья земли. Признаюсь, мы побаивались одни ходить в эти места даже днем. Сразу после поля начинается кладбище. Могила за могилой. А справа поднимаются полуразрушенные стены старой крепости Гулаклы́ гала́ — это значит «Ушастая крепость». Непонятно, откуда взялось такое название, но говорили, что в развалинах крепости погибло много людей, что тут, среди кустарников, водятся огромные змеи — драконы. Они блеют, как козы. Джапар-сопи, когда ругал нас, часто поминал старую крепость и желал нам найти конец в ее развалинах. Возле этой крепости увидела страшный призрак и бедная Говхер. Но ни Дангы, ни отец его не знали про это. Бабушка только мне одному рассказала, как все случилось. Вряд ли успел узнать об этом и Келевхан. Возле кладбища Келевхан остановился, а мы с Дангы, не глядя на него, прошли вперед. Надо же было показывать дорогу. Вот и маленький холмик. Трудно поверить, что здесь нашла свое последнее прибежище тетя Говхер. Она такая рослая, красивая. В ауле считалось, что она красивее всех, а уж силы ей было не занимать. Любая работа кипела у нее в руках… Дангы всегда плачет, вспоминая мать. Заплакал он и сейчас. Келевхан опустился на колени, взял горсть земли с могилы, поднес к глазам. Стоя в сторонке, я поглядывал то на Дангы, то на Келевхана. Дангы тихо плакал. Отец его долго стоял на коленях, будто застыл. Наконец он бросил горсть земли на могилу и скорбно прошептал: — Прощай, Говхер… И мы пошли обратно: Келевхан впереди, а я и Дангы на расстоянии за ним. Неподалеку от крепости, у переходного мостика через арык, маячила чья-то худая длинная фигура. Джапар-сопи! Отец Дангы, прихрамывая, заторопился ему навстречу, подошел вплотную. Джапар-сопи попятился, не забыв притворно воскликнуть: — А, Келев-джан, здравствуй! Как жизнь идет? Хорошо, хорошо, что к сыну вернул… — Прекрати! Келевхан поднял кулак над головой Джапара-сопи. Я зажмурился. Но Келевхан справился с. собой, опустил руку, лишь голос его дрожал от ярости, когда он спросил тихо: — Куда ты идешь, Джапар? — Я… на кладбище. — В такую рань? И не боишься драконов, что блеют в крепости козьими голосами? Не боишься призраков?.. Джапар-сопи молчал. — Так вот… — тихо произнес Келевхан. — Нечего тебе делать на кладбище. Ты знаешь, кто там лежит? Моя жена там лежит… Мать вот этого сироты… Говхер лежит. Келевхан взял Джапара-сопи за шиворот и слегка тряхнул, потом тихонько толкнул. Вовсе он его не сильно толкнул, но Джапар-сопи клубком покатился вниз по отвесному берегу арыка. За ним катились его галоши. Потом раздался всплеск воды, во я видел, что Джапар-сопи успел ухватиться за прибрежный куст… До самого аула я не мог вымолвить слова от изумления. Дангы тоже угрюмо молчал… Эх, где наш Чары-кель? Вот кто посмеялся бы вместо со мной! Вот кто порадовался бы такому унижению врага нашего — жадного и злобного Джапара-сопи! Хотя бабушка велела мне проводить Келевхана сразу после кладбища, он все же вернулся в наш двор. Дангы как ветром сдуло. Исчез. — С сыном я хотел попрощаться, — беспомощно сказал Келевхан бабушке. Бабушка стала звать: — Дангы, голубчик, где ты? Иди попрощайся с отцом. Аллах ведает, когда увидитесь… Но Дангы будто испарился. — Ну что ж, будьте здоровы, Мамур-эдже. Вернусь живым, не забуду вашу доброту. Прощай, Коссек. Бабушка пошла к матери Чары-келя, попросила ишака, чтобы отвезти Келевхана на станцию. Я видел, что она и сердится на него, и жалеет. Я тоже расстроился. Только сейчас я обратил внимание, какой Келевхан ладный и красивый в своей военной форме. И ведь он уходит на фронт. Эх, Дангы, Дангы! Кто знает, как оно все получилось? Ведь тетя Говхер и сама прогоняла Келевхана, верила тому, что говорили глупые люди, что говорил Джапар-сопи. Хорошая она была, тетя Говхер, но и Келевхан тоже хороший… «Приехал бы мой отец хоть на денек», — думал я, сидя сзади Келевхана на ишаке. Мы поравнялись с домом Мурти. Вдруг мне показалось, что из ямы за домом высунулась чья-то голова. Я приподнялся на стременах и увидел Дангы. Засунув палец в рот, он во все глаза смотрел на отца.
— Дангы! — неожиданно для самого себя крикнул я. Спрыгнул с ишака и побежал к дому Мурти: — Дангы, идем проводим отца!.. Он стоял в полной растерянности. Слезы ручьем лились у него из глаз. Келевхан подошел торопливо, присел на корточки возле ямы и ласково начал гладить голову Дангы. — Сыночек мой… Ну скажи мне хоть слово на прощанье…
Чары-кель возвращается здоровым
Быстро пролетели летние каникулы, мы и не заметили. Чары-кель провел их в больнице. Я и Дангы помогали бабушке, несколько раз ходили безуспешно искать сусличьи норы и так же безуспешно пытались встречать фронтовиков на станции Кара-бата. Видно, не приспело еще время возвращаться нашим воинам, много у них оставалось горячих дел впереди. Чары-кель вернулся так же неожиданно, как исчез. Весь этот первый день мы провели вместе, втроем. Коричнево-красная голова Чары-келя сверкала будто медный кумган. Вообще Чары вернулся каким-то другим. Прежде всего он уже был никакой не «кель». На сверкающей его голове не осталось ни одной болячки. Раньше Чары обижался, что к имени его постоянно прибавляли «кель», а теперь важно сказал: — Зовите меня «кель» сколько вздумается, хоть с утра до вечера! Мне ни капельки не обидно. А мы прекрасно понимали, что звать его так никто не будет, просто язык не повернется, и говорили приветливо: «Чары-джан». Мать Чары позвала нас к нему в гости, угостила сладостями и лепешками. Должно быть, специально приберегала к этому дню деньги, заработанные сыном. Но в доме было полно гостей, поэтому мы и сотой доли не сказали друг другу из того, о чем нужно было незамедлительно рассказать. Чары отпросился к нам ночевать, и мы все трое отправились, прихватив шубу и толстое ватное одеяло, в дом Дангы. Тут можно было и кричать, и нахохотаться вволю. Мать отпустила Чары и долго, стоя у ограды, смотрела нам вслед. Мы ее, сказать по совести, немножко побаивались. Была она нелюдима, неразговорчива, а когда она смотрела на тебя пристально строгими черными глазами, так и казалось, что ты в чем-то виноват. Сам не знаю, как мы решились попросить ее отпустить к нам Чары. Может быть, потому, что сегодня она тоже была не совсем такой, как обычно. — Ну, Чары, рассказывай, что там в больнице. Интересно? — набросился на приятеля Дангы, едва за нами захлопнулась дверь дома и мы остались втроем в большой комнате. Чары всегда был немножко хвастуном, умел любую мелочь раздуть в целое событие. Приврать он тоже был великий мастер. Но сейчас у него была полная возможность похвастаться, а врать вроде бы ни к чему. Правда оказалась получше всякого вранья. — Интересно? — начал он, усаживаясь на полу на шубу. — Хм, так интересно, что вы, голубчики, удрали бы оттуда в первый же день. Слово даю, удрали бы! Это один я мог выдержать. — Что ж, ты только один и оставался там на всю больницу? — ехидно спросил Дангы. — Почему один? — не понял Чары. — Там народу много. — Да ведь другие-то не могли выдержать, разбежались, наверно! — завопил я. — Про других речи нет, я про вас сказал к примеру. — Не надо нам твоих примеров, — сказал Дангы. — Мы не собираемся бегать из больницы, мы туда просто не поедем, и все. — Я к тому говорю, что если у вас болячки появятся. — Никогда у нас болячек не будет, — возразил Дангы. По привычке я на всякий случай стал между ними, а сам постарался перевести разговор: — Ты лучше рассказывай, Чары, как ты там жил, в больнице. — Во-первых, там еду всякую дают по норме. Дома когда бывает еда — наедайся хоть до отвала, а нету — можешь с голоду помирать. Верно? Мы с ним не совсем согласились, но промолчали. До отвала мы уже позабыли когда ели и с голоду не умирали. — Так вот, а там дают еду не тогда, когда тебе вздумается, а по часам. Спать тоже велят по часам. Тебе, может, поиграть хочется, а велят спать ложиться. Утром еще полежал бы — велят вставать: доктор пришел. Ну, это бы все еще можно вытерпеть, а вот хуже всего, когда голову йодом мажут. Чары зажмурился и сморщил лицо. — Здорово больно, да? — А вы что, никогда йода не видели? Маленькую царапинку намажут, и то больно, а тут — всю голову. Я один могу такое вытерпеть. Теперь мы уже не стали ему возражать. — Мне ведь и дома чем только не мазали голову: и хлопковым маслом, и керосином, и травами пахучими… Ух, жгло! Еще один раз мне обрили голову, а после порохом прижигали. А я не плакал. — Мог бы от обиды заплакать, что ничего не помогает, — сказал Дангы. И я согласился с ним — очень обидно просто так, зря принимать такие мучения. Конечно, порядком он намучился, наш Чары. Заметив наше сочувствие, он изменил хвастливый тон и сказал просто: — В больнице-то я плакал. Очень уж больно. Даже большие ребята, у которых усы растут, и то плачут… — Ну ладно, рассказывай по порядку, — перебил я. — Хорошо, слушайте. Начну с того, как нас в баню водили. — Он погладил ладонью свою медную голову. — Повели нас всех вместе, в первый же день. Потом одежду выдали. — Там что, даже одежду дают? — удивился Дангы. — А куда ты ее девал? — Оставил. Это же особая одежда, больничная. Так полагается. Шапку мою там сразу же сожгли. — Туда ей и дорога, — заметил Дангы. — Мне не жалко. У меня теперь тюбетеечка есть, дареная… — Хватит вам про одежду, — опять перебил я. — Рассказывай, Чары. — На другой день нас грели электричеством. Вы такой лампы сроду не видели. Положат тебя на стол, вниз лицом, а над головой что-то как зажужжит! Большая такая сте-кляппая штука. Вроде миски. А доктор стоит рядом и тебя переворачивает — то на правый бок, то на левый, то на спину. Прогреют тебя как следует, а после целую неделю даже не лечат, ждут. Доктору на эту неделю можно хоть в отпуск ехать. — Ну и ты бы домой поехал, а после вернулся. — Нет, я себе клятву дал не приезжать домой, пока не вылечусь. — Жаль, что не приехал. Увидел бы интересное событие, — сказал я и фыркнул. Чары, глядя на меня, заранее начал смеяться. — Какое событие? — пристал он. — Какое? Ну скажи! — Увидел бы, как Джапар-сопи летит прямо в арык! — И я захохотал во все горло, вспомнив перепуганного Джапара-сопи и катившиеся вниз по берегу огромные галоши. Я смеялся даже больше, чем в тот раз. — Ну говори, — не отставал Чары. — Подробно все расскажи. Как это было? — А так, что вначале Келевхан схватил Джапара-сопи за горло и стал душить, будто курицу. А после ка-ак его толканет, он так кубарем и покатился вниз вместе со своими галошами! — Ух ты, а потом чего? — спросил Чары. — Ладно, хватит, — вмешался Дангы. — Про больницу так про больницу. А то вы говорите о чем понало. И снова Чары с восторгом стал рассказывать, как старательно его и остальных лечили в больнице. Но ему пришлось, пожалуй, хуже всех: очень уж он запустил свою болезнь. Зато после нескольких дней мучений собственная голова показалась ему вдруг легкой-легкой… А до того он не ходил по двору, а прыгал от нестерпимой боли. Так и прыгал через весь двор из конца в конец, из конца в конец… — И это все? — Ну, в общем-то, все. — Признайся, Чары, плакал ты сильно? — Сильно, — вздохнул Чары. — Я вроде и не плачу, а глаза сами плачут. Только это недолго. Мы там помогали друг другу. Намажут тебе голову йодом, а после человека четыре на нее начинают дуть. Сразу легче становится. — Чары, — спросил Дангы, — а что же, теперь у тебя голова всегда будет такая коричневая? — Нет, это пройдет, — уверенно ответил Чары. — Скоро волосы вырастут. Да ведь в новой моей тюбетеечке и без волос будет красиво, да?Письмо, слетевшее с небес
«Что-то долго папа не пишет, Коссек», — все чаще стала повторять бабушка. Я видел, что она очень тревожится: почти перестала спать, начала так глубоко задумываться, что иногда надо несколько раз окликнуть ее, прежде чем она услышит. «Некогда ему, бабушка. Нету времени письма писать», — пытался утешить я и себя и бабушку. Но однажды бабушка прослышала, что в соседнем поселке появилась будто бы гадалка, и решила вместе с соседками отправиться к ней. Погоревала бабушка, что отблагодарить ей гадалку почти нечем, сияла с нитки, которую иногда надевала на шею бедная мама, четыре старинные золотые монетки и уехала. К вечеру она воротилась радостная: — За отца, голубчик, будь спокоен. Гадалка говорит, жив-здоров. И как она гадает, внучек! Просто чудо какое-то. Точно в волшебное зеркало глянула, обрисовала твоего отца. «Рослый, говорит, джигит, красивый. Взгляд как у орла — зоркий да смелый». Верно люди сказали: не простая это гадалка, на эту женщину сам аллах обратил свой взор. Велела она еще нам святое письмо взять у Джапара-сопи и переписать. «От многих бед, говорит, поможет». Только вот чем отблагодарить мне его?.. Бабушка подумала, потом достала из глубокого сундука теплую отцовскую шубу, поновее той, которой мы укрывались с Дангы. Похоже, бабушка немножко меня стыдилась да и шубу жалела, но ведь она верила, будто все это необходимо для спасения любимого сына, моего отца. И она понесла шубу Джапару-сопи. Я смотрел вслед ей, когда она торопливо шла по пыльной дороге, старенькая, сгорбившаяся, и на душе у меня было нехорошо. Не верил я, что Джапар-сопи может помочь смелому моему отцу. И откуда взялась эта гадалка? А с шубой, казалось, уходила из дому частица отцовского тепла… Вернулась бабушка от Джапара-сопи уже без шубы. — Вот что, Коссек, — сказала она серьезно, — зови-ка Дангы, и садитесь за работу. Бабушка раскрыла свой старенький потертый кошелек. Интересный это был кошелек. Он достался бабушке от ее бабушки и во времена моего раннего детства был весь украшен серебром. Такого кошелька ни у кого больше не было, и некоторые люди специально приходили на него полюбоваться. Но в начале войны, когда начали собирать ценности в фонд обороны, бабушка ободрала все серебро с кошелька. С той поры кошелек стал просто кожаный. Но бабушка все равно брала его с собой в торжественных случаях. Сейчас бабушка вытащила из кошелька простой листок бумаги, вырванный из школьной тетради. Листок был мелко исписан непонятными письменами. Прибежавший домой Дангы с удивлением посмотрел на меня. Я в свою очередь поинтересовался: — Что тут написано, бабушка? Ничего не поймешь. — И не надо понимать. Перепишите, и все. Это святое письмо, с неба его спустили. Кто хочет, чтоб было хорошо ему и его близким, должен каждую буковку переписать, а потом еще десятерым дать, чтобы переписали. Пишите чисто, не торопитесь… Мы с Дангы принялись прилежно переписывать непонятные значки, из которых состояло письмо. Весь вечер на это ушел, едва успели уроки сделать. А уже с утра к нам в кибитку повалили соседки. Кто несет горсть фиников, кто сушеную дыню, и каждая просит: «Для меня перепиши… Для меня…» Мы хотели было проскользнуть мимо них и бежать в школу, но бабушка остановила: — Это не простое дело, дети. Помогите себе и людям, переписывайте письмо… Честное слово, дня четыре потом мы только тем и занимались, что переписывали это «слетевшее с небес» письмо. Чары — тот вовсе не ходил в школу, сидел дома и тоже переписывал. Этим были заняты на уроках и другие ребята, пока учительница Шекер не обратила внимания, что никто не слушает, как она объясняет урок, зато все, склонившись над учебником, старательно пишут. Она выхватила у одного из мальчишек письмо и, покраснев от гнева, изорвала в клочья. — Ребята, можете вы попять, что кто-то придумал это глупое, пустое письмо? — сердито кричала она своим звонким голосом. — Как это — «слетело с небес»? — укоряла она кого-то из ребят. — Ну сам подумай, что ты говоришь. Это какой-то проходимец подсунул темным, неграмотным людям. Ребята смущенно переглядывались. Дома многим говорили, что письмо «святое», а учительница Шекер говорит, что его подсунул какой-то проходимец. Как тут быть? Кому верить? Но я-то знал, что первое письмо дал бабушке Джапар-сопи, и потому я сразу поверил словам учительницы. Сказать не могу, как обидно мне было, что мы так мучились, переписывая его. Подумать только, чему поверили! И снова я вспомнил теплую мохнатую отцовскую шубу: ничего не скажешь, ловко Джапар-сопи сумел выманить ее у бабушки. За бумажку, ни на что не годную… А Джапар-сопи тем временем не унывал. Он обосновался на кладбище. Прошел слух, что нужно каждую пятницу приходить на кладбище со своими просьбами к аллаху и с подношениями, тогда исполнится все, чего ты хочешь. И вот матери фронтовиков шли просить аллаха за своих сыновей, жены — за мужей. Джапар-сопи даже торговать бросил. Ходил и собирал подношения. Вместе с ним восседал на кладбище, среди могил, мулла Абдул-ходжа, который жил в соседнем ауле и к нам только наведывался. Мы с Дангы один раз увязались следом за бабушкой и видели важных и довольных Джапара-сопи и Абдула-ходжу. Джапар-сопи как раз напялил на себя шубу моего отца. В такой шубе не то что вечер просидеть можно — всю ночь и то не замерзнешь. Я показал на шубу Дангы и Чары, и мы еще сильнее возненавидели Джапара-сопи. «Ну я ему когда-нибудь отплачу за все!» — пробормотал Чары, сжимая кулаки. Между прочим, я не сказал, что Чары тоже остался один в своем доме. Мать его неожиданно, никому ничего не сказав, уехала из аула. Люди думали, что она просто сбежала и бросила Чары одного. Только мы знали, что она решила уехать на работу в новый нефтяной район. Я уже говорил, она была скрытная, молчаливая женщина и боялась раньше времени рассказывать о своем решении. А жилось им с Чары нелегко. Только и всего, что корова была, но и та почти не давала молока. Матери Чары обещал, что управится один и с делами по дому, и с коровой,по едва она уехала, только и слышно было: «Тетя, вы не можете подоить нашу корову?..», «Бабушка, подоите, пожалуйста, нашу корову…». А в один прекрасный день Чары привел свою корову в наш двор да и остался у нас жить. И все было бы хорошо, если бы они не начали с Дангы чуть ли не каждый вечер о чем-то шептаться. Шептались они так день, два, неделю. Иногда переглянутся и выйдут из кибитки — вроде бы и не вместе, но я-то прекрасно знаю, что это им поговорить захотелось. Я обижался. Раньше врагами были, так что приходилось все время следить, как бы не подрались, а теперь… Нет, я совсем не хотел, чтобы Дангы и Чары ссорились, это очень хорошо, что они помирились. Но зачем же тайком шептаться о чем-то? Ведь мы все трое друзья. Так я думал, но виду старался не подавать. Пусть сами поймут, что поступают не по-дружески. Но вот в один прекрасный день Дангы сообщил мне: — Коссек, мы с Чары уезжаем учиться в ФЗО. Я так и сел на пол, ноги у меня подкосились. — Зачем? — спрашиваю. — Хотим специальность получить. Уже нам и документы оформили. — А я как же? Они молчали. Эх, Чары, Чары, это ты виноват, отнимаешь у меня лучшего моего друга! Лучше бы тебе и не приходить в наш дом. — Ты… ты… Дангы ничего не смог мне ответить, только отвернулся. — У тебя есть бабушка, Коссек, — сказал Чары спокойно, рассудительно, будто взрослый. И я сразу увидел то, чего не замечал в последнее время: как он вытянулся, окреп. — У тебя есть бабушка, а вот мы должны сами о себе позаботиться. — У вас тоже есть, — сказал я, чуть не плача. — Разве она вас не любит? А потом война кончится, к Дангы отец приедет… — У меня отца нет, — быстро сказал Дангы. Я не стал спорить. И как я не догадался, о чем они шептались в эти дни? Ведь уже несколько подростков из нашего колхоза уехали учиться в ФЗО. Они раза два приезжали на побывку. Так они и говорили: не в отпуск, не на каникулы, а именно «на побывку». И очень этим гордились. У этих ребят даже военная выправка появилась. Уж на что вялый парень был Акга, внук Джапара-сопи, но и он изменился, когда поступил в ФЗО, не поладив с дедом… Видя мое расстроенное лицо, Чары постарался меня утешить: — Погоди, я, кажется, придумал, как забрать у Джапара-сопи вашу новую шубу, — и подмигнул хитро и весело. Услышав эти слова, я уже не сомневался, что отцовская шуба снова будет дома. Не такой человек Чары, чтобы отступиться от своей затеи. Бабушка, когда мы рассказали ей про ФЗО, спросила у Дангы: — Может, с твоим дядей посоветоваться? Как бы они потом нас не упрекнули… — Нет, бабушка, вы с Коссеком самые для меня родные, — решительно сказал Дангы. — Дяде я уже из ФЗО напишу… В тот вечер мы рано улеглись спать. Мне не давали покоя слова Чары. Я прекрасно понимал, что сам, без друзей, уже не сумею отобрать шубу у злого, жадного сопи. Но какую хитрость придумал Чары? Я начал у него допытываться. — Ха, это раз плюнуть! — хвастливо заявил Чары. — Ну как? — Вот разбужу вас завтра чуть свет, тогда и поймете, как… Я лежал в темноте и вспоминал разные проделки Чары. Однажды Джапар-сопи торговал урюком. С кого брал деньги, с кого — пшеницу, в обмен. Мы только поглядывали с завистью да слюнки глотали. А Чары, оказывается, посадил потихоньку на урюк маленькую черепаху. После этого сам же подошел к жене Мурти, которая, причмокивая, пробовала сладкий урюк, и сказал: «Тетя Огульния́з, а моя мама говорит, что урюк испоганенный, если на нем сидит черепаха». Тут все покупатели окружили корзину, поднялись крики. Огульнияз раскричалась всех сильнее, стала швырять урюком в Джапара-сопи. Даже те, кто уже расплатился, вернулись обратно и стали требовать свои деньги и пшеницу… Вспоминая эту историю, я не заметил, как уснул. Утром Чары в самом деле разбудил нас засветло. Вид у него был таинственный. Он взял под мышку полосатый мешок и зашагал в сторону арыка. Мы спрятались в кустах за мостиком и вскоре увидели, что в нашу сторону семенит по дороге ишак Джапара-сопи, нагруженный двумя тяжелыми корзинами с виноградом. Джапар-сопи направлялся к новому станционному разъезду. Своего винограда у него не было, зато был ишак и сколько угодно свободного времени, вот он и скупал виноград по всей округе, а потом втридорога продавал на станции пассажирам во время стоянки поездов. Все ближе, ближе к нам ишак с большими корзинами. Между корзин, на подстеленной шубе, важно восседает Джапар-сопи. Уже слышно, как он что-то негромко напевает, погоняя ишака. Мотив не молитвенный, а веселый, даже разухабистый. Мы и не знали, что наш Джапар-сопи знает такие песни. Чары давно уже напялил на себя полосатый мешок и забрался в трубу, врытую поперек дороги для стока весенних вод. Как только ишак Джапара-сопи ступил на мостик, буквально из-под земли поднялось с громким рычанием что-то длинное, полосатое и подпрыгнуло вверх. Ишак отпрянул назад, а уже через мгновение мчался во весь дух прочь, рассыпая вдоль дороги спелые грозди винограда. Мы с Дангы схватили упавшую в пыль шубу и потащили в кусты хлопчатника. Улеглись на ней и стали смотреть, что будет делать Джапар-сопи. Он долго лежал в пыли. Так долго, что мы даже испугались. Но потом поднялся и с бранью стал подбирать виноград. Окликнул остановившегося вдали ишака, снова уложил виноград в корзины. Про шубу он и не вспомнил.
Когда ишак Джапара-сопи вместе со своим хозяином и виноградом скрылся за облаком пыли, перед нами предстал улыбающийся Чары. — Пу как? Хорошо я отплатил за письмо, слетевшее с небес? Это была последняя месть Чары Джапару-сопи. Почему-то в эти минуты Чары показался мне самым старшим из нас троих. Пожалуй, приехав из ФЗО в аул «на побывку», он уже не решится на подобную проделку. Не из трусости, нет, а просто потому, что перешагнет окончательно через ту грань, которая отделяет нескладного подростка от юноши, джигита. Вон у него под тюбетейкой и волосы давно уже отросли. Раньше, когда он ходил в своей облезлой старой шапчонке, чтобы скрыть болячки на голове, он и сам весь как-то горбился, словно старался стать незаметней. Шагая к дому, Чары оглянулся на старый мостик, подмигнул нам. А мне опять показалось, что оглянулся он туда, где простерлась невидимая линия, четко отделившая паше вчера от нашего завтра.
Новый друг
Дней через десять после отъезда в ФЗО Дангы передал нам с дедушкой одного своего нового товарища, что их скоро переведут в Красноводск. Передал, что очень скучает и просит в назначенный день встретить поезд, с которым он будет ехать, на станции Кара-бата. К этому времени бабушка получила в колхозе три полных мешка пшеницы. Теперь она бегала по домам, выменивая мисочки пшеницы на финики, урюк, ломти сушеной дыни. Складывала все эти гостинцы для Дангы и причитала: — Ой бедняжечка моя, ребенок ведь еще малый, каково ему там одному?.. Уж эта Шекер, ее это проделки! Самостоятельность им понадобилась. Профессия. Мы и слов таких не знали, а прожили жизнь, не жалуемся Только и отлучались от дому, если беда нагрянет… Под горестные причитания бабушки добрались мы до станции Кара-бата. Я ничего не мог понять и вертел головой во все стороны: маленькая наша станция стала вдруг похожей на город — так много было тут людей. Они толпились на платформе, у станционных построек, сидели на узлах и чемоданах, на скамейках в маленьком скверике. Некоторые спали, постелив коврики либо одеяла прямо на земле. Откуда могло здесь взяться столько народу? Все чужие, незнакомые, больше женщины с детьми да еще седые старики. А сами худые, изможденные и такие светлокожие, будто никогда солнца не видели. — Кто они такие? Откуда приехали? — допытывался я у бабушки, по она тоже не могла объяснить и лишь скорбно головой покачивала, глядя на худых, бледных детей. — Это ленинградцы, — коротко пояснил нам знакомый старик, торговавший, как всегда, семечками на платформе. Ленинградцы! Так вот, значит, они какие… В школе нам рассказывали про героический Ленинград. Фашисты окружили его. Били по городу из орудий. Хотели задушить его голодом. Но Ленинград не сдался. Теперь наши войска прорвали блокаду, стали вывозить женщин, детей, стариков… — К нам целый эшелон привезли, — рассказывал бабушке торговец семечками. — Вы, может, видели повозки там, за станцией? Из колхозов прислали. Каждый колхоз к себе десять — пятнадцать человек возьмет. Вон видите, высокий парень с тетрадкой ходит? Это из райкома. Он распределяет кого в какой колхоз. — Ой, страдальцы… — запричитала бабушка. — Сколько ж они вытерпели, бедняги! И голод, и холод, да еще стреляют! Скорее бы везли их по домам. Хоть отдохнут немного… Пока мы ожидали поезда, с которым будет проезжать Дангы, на станции произошло событие, надолго запомнившееся мне. Малыш лет пяти, наверно сынишка какого-нибудь железнодорожника, подбежал к крану напиться. В руках у него был большой ломоть лепешки. Вдруг к нему метнулся беловолосый мальчик, примерно вдвое старше, выхватил из рук малыша лепешку и стал торопливо есть. Малыш растерянно и удивленно смотрел на своего обидчика. Белокурая женщина, сидевшая на узлах, — видимо, мать большого мальчика — вскочила и подбежала к нему. Она говорила что-то, но мальчик не слушал, продолжая жадно есть. Женщина крикнула и ударила сына, но и это не подействовало. Мальчик, видно, был такой голодный, что не мог остановиться. И ел он как-то странно: глотал, почти не разжевывая. — Миша! Нельзя так, Миша… — тормошила его мать. Потом схватила за руку и потащила к своим узлам. Лишь теперь мы заметили, что на узлах, согнувшись, сложив на коленях худые ручки, сидит маленькая девочка, похожая на старушку. Добросердечная моя бабушка не могла устоять. Развязала хурджун и вытащила чурек, приготовленный для Чары и Дангы, подошла к женщине: — Не надо бить ребенка. Он не виноват. Изголодался… Бабушка говорила по-туркменски, и женщина не понимала слов. Но, должно быть, по бабушкиному лицу догадалась, что та жалеет ее Мишу. Когда бабушка протянула чурек, женщина отрицательно покачала головой. — Возьмите, — сказала бабушка. — Прошу вас, возьмите. Женщина посмотрела внимательно, благодарно кивнула и отломила кусок чурека Мише, который виновато смотрел на нее. Кусочек побольше она отломила девочке, а остальное разделила между другими детьми, сидевшими рядом. Я смотрел на этих ребят и думал, что вот и нам жилось туговато, но разве можно было сравнить нашу трудную жизнь с тем, что перенесли ленинградцы… Вдали послышался нарастающий грохот. Подходил поезд. Я сразу забыл о Мише, о происшествии, со всех ног помчался вдоль вагонов. Поезд остановился. Выходили люди. Кто-то кого-то звал, здоровался. Приехавшие и встречавшие переговаривались, стараясь перекричать друг друга. Я носился по платформе вдоль состава, подпрыгивал, пытаясь заглянуть в окна, и кричал во весь голос: — Эй, Дангы, где ты? Чары! Это я, Коссек!.. Но разве можно было расслышать мой голос в таком шуме? Протискиваясь между столпившимися у вагонов людьми, я неожиданно столкнулся с Джапаром-сопи. Он тоже бегал вдоль платформы, по никого не искал. Он тащил полный хурджун чуреков и пронзительно выкрикивал: — Чурек, кому чурек? Подходи! Кому чурек?.. Не впервые Джапар-сопи торговал тут чуреками. Обычно люди выпрыгивали из вагонов и толпой окружали его. — А ну подходи, покупай чуреки! Белые чуреки! На молоке замешаны! На чистом молоке!.. Но всякий раз толпа вокруг Джапара-сопи быстро редела. Очень уж дорого запрашивал он за свои чуреки. Сейчас за мелькавшими в воздухе пышными чуреками следили голодные глаза ленинградских детей. Джапар-сопи торговался охрипшим голосом, показывал чуреки пассажирам, снова прятал в хурджун. Не только дети смотрели в ту сторону. Уже несколько минут за торговлей наблюдал высокий парень из райкома, который составлял списки приехавших ленинградцев. Вдруг парень решительно сунул тетрадку в карман и направился к Джапару-сопи. — Не стыдно тебе? — сказал он, схватив хурджун с чуреками. — Посовестился бы своей седой бороды! Ты мне в отцы годишься, иначе я бы с тобой крепко расправился. Ослеп ты, что ли, от жадности? Не видишь, что здесь дети сидят голодные? Чтоб ноги твоей больше тут не было, торгаш этакий! Я тебя давно приметил. Ух как я обрадовался! Парень все больше сердился, и я подумал, что вот сейчас он стукнет Джапара-сони как следует или сбросит его с платформы. Но парень не сделал ни того, ни другого. Просто с хурджуном в руках он направился к детям и начал раздавать им большие куски белых пышных чуреков. А Джапар-сопи, бормоча под нос проклятия, направился к своему ишаку. Спорить он не решился. Я так засмотрелся на эту сцену, что забыл про своих друзей. Они сами отыскали меня: — Коссек, Коссек, сюда, скорее!.. Я подбежал, обнял Дангы, потом Чары, потом снова Дангы. Бабушка торопливо совала им гостинцы, приговаривая: — Попробуйте дыни сушеной… Урюка поешьте сладкого… Всем делитесь. Вы ведь теперь как братья. А я не знал, что и сказать, стоял и смотрел на них во все глаза. Оба они были одеты в одинаковые черные рубашки и брюки, перепоясаны широкими ремнями. Они как-то очень изменились, выросли, повзрослели. Чары стал выше ростом и разговаривал и держался как взрослый. Так хотелось расспросить подробнее, как они живут, как учатся, но поезд тронулся. И снова бабушка, прощаясь, приговаривала: — Будьте как братья. Всем делитесь друг с другом… — Да ну, бабушка, поделимся, разве мы маленькие? — засмеялся Дангы. Они оба обняли нас на прощание и побежали догонять свой вагон. — Дангы, Чары, пишите мне! Письма пишите! — кричал я, махая руками. Не знаю, слышали они или нет мои слова, а поезд, будто в ответ, прогудел прощально и громко… Платформа быстро опустела. Расходились пассажиры, сошедшие с поезда, ушли и те, кто встречал или провожал кого-нибудь. Почти не осталось приезжих ленинградцев — большинство из них разъехались по окрестным колхозам. Не было и белобрысого Миши с матерью и сестренкой. И почему-то сразу же я подумал о том, как плохо живется, если рядом нет друга. После отъезда Дангы и Чары я ни с кем из ребят близко не подружился. А теперь вон и бабушка сказала: они будут как братья. А я остался один. …В аул мы с бабушкой вернулись перед заходом солнца. Проходя по улице, я увидел, что Мурти помогает штукатурить старую мазанку Чона́на, где никто не жил с той поры, как сыновья Чонана ушли в армию. Я остановился. Во-первых, всегда было интересно смотреть на ловкую сноровистую работу Мурти, а потом, я очень удивился: для чего вдруг старику Чонану понадобилось приводить в порядок эту мазанку? Неужели ему в доме мало места? Там ведь только он, его старуха да еще невестка — жена старшего сына. Я даже во двор вошел, остановился, держась за калитку. Что за чудеса? Директор школы Илли-ага белит внутри потолок и стены. Ему помогают ребята-старшеклассники. — Ну-ка посторонись, — услышал я знакомый голос, и мимо меня прошла учительница Шекер, а с ней девочки. Они тащили воду в больших кувшинах и тряпки. — Вы куда? — крикнул я вслед. — Окна мыть. Так я ничего и не понял. Решил остаться и посмотреть, что дальше будет. Хорошо, бабушка ушла домой, не стала меня дожидаться. Подошел поближе. Тут Шекер оглянулась и говорит: — Чему ты удивляешься, Коссек? Мы каждой семье решили помогать сообща… И тут я услышал, что в мазанке Чонапа будут жить приезжие ленинградцы. Пока мы с бабушкой были на станции, в наш колхоз привезли восемь эвакуированных семей. Расселили по тем дворам, где пустуют дома или мазанки. В опустевшем доме Чары поселили целых две семьи. Еще в доме дедушки Дурдыклыча и, по соседству с нами, у Чонапа. Только вот мазанку нужно привести в порядок. Так, значит, и у нас будут жить ленинградцы! Все в ауле уже знают про это, лишь мы с бабушкой узнали позже других. С колхозного склада по распоряжению председателя притащили во двор Чонана две новые кошмы — постелить на пол. Кто-то принес из дому теплое одеяло. До войны у нас в каждой семье нашлось бы штук десять, а то и двадцать одеял. Какой же ты хозяин, если в доме твоем гостям нечем укрыться! Теперь, правда, многие стали победнее. Но все равно хоть два-три лишних осталось. Жена Белли-уста и еще одна соседка разжигали во дворе тандыр — значит, решили испечь для гостей лепешки. На скамейке во дворе уже стояла кое-какая посуда. Правильно, должны же люди устроиться! — Вот сейчас побелку закончат, — сказала Шекер, — мы сразу помоем окна и полы. Ты, Коссек, помоги девочкам кошмы расстелить, им тяжело будет. Тогда и пригласим гостей отдохнуть, они, бедные, намучились за дорогу. — А где они сейчас? — спросил я. — Да вон там, в саду за сараем. Женщина и двое детей. Не ходи туда, не надо их беспокоить. Но я не мог послушаться. Как только Шекер занялась окнами, я тихонько прошмыгнул за сарай. У сарая сидел белобрысый Миша и жевал чурек. Он посмотрел на меня, заметно удивился, но продолжал жевать. Потом на крыльцо дома вышла его мама и тоже удивилась, увидев меня. Она поманила меня рукой, я подошел. Она стала мне что-то говорить, но я не мог понять ни единого слова. Хотя мы в школе проходили русский язык, но так быстро, разговаривать не умели. Я не знал, что ответить, и молчал, опустив голову. Хорошо, в это время, постукивая своей деревянной ногой, подошел к нам Белли-уста. На фронте он научился русскому языку и сейчас заговорил с женщиной, как старый знакомый. Потом он сказал мне, что она спрашивает, есть ли в нашем ауле баня. А какая в ауле баня? Может, в новом поселке и будет, но ведь мы-то не успели еще переехать. Белли-уста подтолкнул меня вперед, погладил по голове и сказал: «Коссек». Спросил что-то у женщины и, погладив по голове Мишу, сказал: «Миша». А я это уже знал и без него.Петя-шоколад
Вернувшись с фронта, Белли-уста отдыхал всего лишь неделю. Да и ту потратил не без пользы: смастерил себе новую ногу. Эта новая нога сгибалась в колене, и вообще с этой ногой Белли-уста, мне кажется, смог бы и наперегонки бежать, не отстал бы. Он снова открыл двери своей старой, прокопченной кузницы. Мы с Мишей, улучив свободную минутку, бежали посмотреть, как он работает. Да, ведь я еще не рассказал, что мы с Мишей подружились. Это как-то само собой получилось. Ну, побелили им тогда мазанку, напекли вкусных лепешек, и все разошлись. А на другой день было воскресенье, и я с самого утра опять пришел во двор Чонана. Просто так, посмотреть. Помочь, если что понадобится. Да и вообще интересно, как они устроились. Ну, вошел я во двор. Миши не было видно, а сестренка его играла у крыльца. Я ее даже не узнал сначала. Вчера она была грязная, в запыленном, порванном платье, а сегодня стала такой красивой девочкой. Наверно, мать выкупала ее в арыке. И платье на ней было красивое, чистое, и белокурые волосы заплетены в две косички. Она подняла голову, увидела меня и крикнула: — Коссек! Ишь ты, ведь запомнила. Я очень удивился. Тут на крыльцо выскочил Миша и тоже крикнул: — Коссек! И лицо у него было веселое, не такое хмурое и равно душное, как вчера. Он улыбнулся и повторил: — Коссек… Ясное дело, что я уже никуда не ушел, и мы стали играть во дворе дедушки Чонана. Оказывается, можно играть, если даже говоришь с человеком на разных языках. По крайней мере, с Мишей у нас все очень хорошо получалось. Сначала я повел его к арыку. После мы побродили по аулу. Мне хотелось ему всё показать. За нами увязались некоторые мальчишки, но они видели, что Миша все время говорит только со мной, и держались на расстоянии. Мише все было интересно: и сам аул, и скотный двор, и хлопковые поля. Он всему удивлялся. Долго стоял над арыком, спустился по берегу, поболтал в воде ногами. Удивленно вскидывал голову, если пролетала птица, и долго смотрел вслед. А при виде огромного колхозного быка Миша просто рот разинул от удивления. Я повел его на ферму. Кривоногие, пятнистые быки стояли там за прочной загородкой и жевали траву. Но еще больше Мишу заинтересовали кони. Я тащил его дальше, говорил, что всех настоящих коней забрали в армию, но он упирался, никак не хотел отойти от коней. Между прочим, до войны наш колхоз в самом деле славился своими конями. А как ловко гарцевали наши молодые джигиты на скачках! Все призы в районе доставались нашим колхозным наездникам. Но теперь и кони и джигиты были на фронте. Остались только старые кони или с какими-нибудь повреждениями. Однако Мишу они все равно привели в восторг. — Каждый день будем приходить их смотреть, ладно? — просил он. — Будем, — ответил я. На каком языке это было сказано? Сам не знаю. Но, право, в тот первый день Миша уже кое-что запомнил по-туркменски, а я по-русски. Только, сказать по правде, Миша выучил туркменский быстрее и лучше, чем я — русский.{1} Все даже удивлялись. И сестренка его быстро начала разговаривать со своими подружками. Ну, поводил я Мишу по аулу, а напоследок привел к кузнице Белли-уста. В тот день ему помогал кузнец из соседнего поселка. Но далеко было этому мастеру до нашего Белли-уста! Он ничего не умел, кроме как чинить старые ведра да класть жестяные заплаты на треснувшие котлы либо чайники. А у дверей кузницы стояли сеялки, бороны, ожидавшие ремонта. Раньше они просто валялись в поле, а теперь люди всё тащили в кузницу. Кто просил поточить кетмень, кому требовалось заострить зубья серпа… Одним словом, работы у Белли-уста было хоть отбавляй. Но работа не мешала Белли-уста встречать одинаково приветливо и взрослых и ребят. А уж таких интересных историй, как тут, нигде больше не услышишь. Говорят всё больше про войну, спорят. Чуть ли не каждый устанавливает сроки, в какие война непременно должна прийти к концу. Иногда Белли-уста начинает по-русски пересказывать Мише то, о чем только что говорилось. И Миша кивает радостно. Ведь у него и его близких из-за войны этой вся жизнь перевернулась. Хорошо, еще живы остались… Последнее время Миша реже стал со мной видеться. Его мама пошла работать на колхозную животноводческую ферму, занята она была с утра до вечера, и Миша бегал ей помогать: пас колхозных свиней. Как-то мы с ним опять урвали свободный часок, погуляли у арыка, потом пришли к кузнице. На этот раз Белли-уста был один: ни гостей, ни помощников. Между прочим, с помощниками нашему уста не повезло. Кузнец, про которого я говорил, поработал недолго и уехал. Вместо него появился в кузнице какой-то русский человек с сыном. Они хорошо делали арбы, но больше ничего не умели. И когда каждое хозяйство нашего аула было обеспечено отремонтированной либо повой арбой, перебрались на новое место и эти мастера. После них работал вместе с Белли-уста мастер — старик по имени Магмура́. Говорили, что при желании Магмура сумеет все сделать — хоть часы, хоть ружье. Не знаю, довелось ли это кому-нибудь проверить, но и Магмура уехал из нашего аула. Ведь все эти люди понадали к нам случайно, занесенные военной бедой, и при первой возможности пытались отыскать своих близких или вернуться в родные края. Так вот и получилось, что мы застали нашего Белли-уста в полном одиночестве. Может быть, поэтому он особенно при виде нас обрадовался: — А, Коссек! Как дела? Жив-здоров? Давно я тебя что-то не видел. А не видел он меня, надо сказать, всего лишь один день: я помогал Мише пасти свиней. — Ну, как ты живешь? — продолжал расспрашивать Белли-уста, а сам в это время затачивал серп. — Чем занимаешься? — Ничего живу, — сказал я. — Так себе… — Так себе — это не годится, жить надо хорошо. А как Петька? (Белли-уста почему-то всегда называл Мишу Петькой.) Я хотел было поправить его, но ведь разговор про это бывал у нас и раньше, неудобно же постоянно делать замечания взрослому человеку. — Все скучаешь по своему Ленинграду? — спросил Белли-уста у Миши. Тот молча кивнул. Я знал, что Миша постоянно думает о Ленинграде. Однажды я даже спросил у него с обидой: «Разве так уж плохо у нас в ауле? Посмотри, какой арык красивый, сколько зелени вокруг…» — «Нет, у вас хорошо, — ответил Миша, — просто… я люблю свой Ленинград, понимаешь?» — Потерпи немного, скоро поедешь домой, — ласково сказал Мише Белли-уста, а у меня сердце почему-то сжалось. Нашел я нового друга и опять потеряю. Миша будто угадал мои мысли, толкнул меня плечом: — И Коссек в гости ко мне поедет. Да, Коссек? — Поеду, — согласился я. Ведь я уже много узнал о Ленинграде, так много, что казалось, будто сам побывал там. «Нева, Невка, Мойка, Фонтанка…» — говорил Миша, и я уже не удивлялся этим словам. Знал, что это названия рек и улиц. «Каналы у нас тоже есть, — рассказывал Миша. — Весь город изрезан ими. А еще есть Финский залив. Там, куда ни глянешь, все вода и вода. Целое море…» Я старался представить себе водную гладь, протянувшуюся так широко и далеко, что не видать другого берега… Наверно, это немного похоже на наши пески, которые начинаются за аулом. Сначала идут барханы, поросшие саксаулом, а дальше песчаная пустыня. Ветер передвигает песчаные волны, заметает следы. Там ничего не стоит заблудиться. А Миша рассказывал, что у них и мосты совсем другие, не похожие на паши: огромные, легкие. Днем по ним мчится поток автомашин, идут автобусы, а на ночь их разводят, чтобы пропустить суда. Интересно было слушать Мишу — точно книжку читаешь. Только вот про войну Миша не хотел говорить, не мог. Едва спросишь его, сразу помрачнеет и молчит долго-долго. Потом я узнал — Мишина мама и другие эвакуированные рассказывали, — как фашисты обстреливали город, как голодали и умирали от голода люди, как продолжали учиться голодные дети в бомбоубежищах. А еще я узнал, что Мишин отец погиб на фронте… — Эй, Коссек, о чем задумался? — окликнул меня Белли-уста. — Значит, говоришь, поедешь в Ленинград? — Поеду. Обязательно, — повторил я. — Ну, а пока чем занимаешься? — лукаво спросил Белли-уста. — Такой джигит вырос, пора бы и за дело приниматься. — Я же в школе учусь. Он вон тоже не работает, — кивнул я на Мишу. — Нет, я маме помогаю на ферме, — торопливо возразил Миша. — Вот видишь, — сказал Белли-уста. — Он и работой занят. Ну-ка, Коссек-джан, подбрось углей в печь да разожги посильнее… Я, будто давно ожидал этого, добавил углей, схватил длинную ручку меха и принялся раздувать огонь. Громко ухая, мех нагнетал воздух, и в печи все сильнее разгорался жар. Белли-уста подхватил щипцами лежавший в печи раскаленный кусок железа, вытащил его, опустил на наковальню. — Ну-ка, Петя-шоколад, подержи вот это, — попросил он, передавая Мише щипцы, а сам взял в руки молот. — Отверни лицо, а то искра может понасть, — предупредил он и стал бить молотом по раскаленному бруску. Железо расплющилось, стало похожим на одну из тех лепешек, какие пекла бабушка… — Белли-ага, почему вы Мишу всегда называете Петей? — спросил я. — А сейчас вот сказали «Петя-шоколад». Почему? — Значит, Миша? — сказал Белли-уста. — Погодите минутку, вот сейчас охладим эту штуку, насадим на плуг, тогда я вам расскажу… Он бросил деталь, в которой уже успел проделать две дырочки, в ведро с холодной водой, а через несколько минут приладил ее к плугу. Потом Белли-уста присел на большую колоду, заменявшую в кузнице табуретку, скрутил цигарку и сделал несколько затяжек. Мы пристроились поближе, готовые слушать. Я уже догадался, что Белли-уста не случайно так упорно величает Мишу Петькой, Петей. — Сколько тебе лет, Миша? — вдруг серьезно спросил Белли-уста. — Двенадцать, а что? — удивился Миша. — Ну вот и ему было столько же или, может, чуточку поменьше. — Кому? — спросили мы в один голос. — Пете. И глаза у него были такие же голубые. А сам белобрысый, курносый, совсем как ты. Вот мне и кажется иногда, что это он тут рядом. Мы переглянулись, по-прежнему ничего не понимая, а Белли-уста продолжал: — Был в нашем полку мальчик-скрипач, ваш ровесник. Та́к уж получилось, что пристал он к нам. Делил с нами все трудности и онасности. Однажды мы неожиданно понали в окружение. Сидим в подвале большого дома, а среди нас и женщины и дети — все, кто тут от пальбы укрылся. Ни еды у нас, ни питья. Ну, воды кое-как раздобыли в доме — еще голоднее стало. Ночью стою я на карауле у окна подвала, смотрю — кто-то ползет. Приглядываюсь, вроде бы знакомое что-то вижу. Человек ползет и на веревке за собой ящик тащит. Подполз он поближе, я и крикнул: «Стой, руки вверх!» А в ответ слышу: «Это я… Петя-скрипач». Тут он протянул мне конец проволоки и просит: «Тащи». С трудом дотянул я эту тяжесть до окна. Вижу, большой ящик. Тяжелый. Я поначалу думал, патроны. Открыли мы ящик, а в нем — шоколад. Доверху набит шоколадом. Каждому по плитке досталось, и съели мы его с превеликим удовольствием. Вот и прозвали мы с той поры скрипача нашего Петей-шоколадом. — Сам-то он небось наелся, прежде чем вам принес, — сказал я, глотая слюнки. — Нет, только одну плитку съел, когда проверял, что это за ящик. Командир дал ему плитку, он ее хотел обратно вернуть, а командир сказал: «Пусть та плитка будет тебе вроде премии». Но за самовольную отлучку крепко его отчитал… Белли-уста с доброй улыбкой посмотрел на Мишу и сказал мне: — У твоего друга тоже что-то есть от нашего Петьки. Не отпускай его, Коссек, из нашего колхоза. А уж если уедет, не теряйте дружбу. Может, и придется в жизни чем-нибудь друг другу помочь. Когда уходили мы, Белли-уста снова сказал мне: — Правду я говорил, Коссек: уже не к лицу тебе слоняться без дела. Я и сам не однажды про это думал. Школа школой, но ведь это вроде бы только для себя, а работать — значит помогать бабушке, колхозу… Белли-уста будто угадал мои мысли: — Приходи завтра с утра. Такое будет дело — фронту поможешь. О таком я и помышлять не осмелился! Наутро я пришел к кузнице засветло, еле дождался Белли-уста. Вместе с ним подошли незнакомые мне люди — наверно, из райцентра. Белли-уста дал мне острый топор, посадил на своего ишака. — Поезжай с ними. Там поймешь, что делать. И мы отправились в путь. Далеко за барханами, где рос гребенчук, спутники мои остановились. — Вот, сынок, руби этот кустарник. Выбери местечко поровнее и складывай ветки. — Зачем? — Увидишь. Я начал рубить гребенчук, недоумевая, почему Белли-уста сказал мне, что этой работой я смогу помочь фронту. Может быть, он думал о какой-то другой работе? Оглядевшись, я увидел, что и спутники мои заняты тем же самым делом. Я нарубил несколько больших охапок прутьев, а они — еще больше. Мы расстелили ветки на земле и отправились в аул. Несколько дней мы рубили гребенчук. На краю барханов были целые заросли гребенчука. «И зачем им столько?» — думал я, но уже больше не расспрашивал. Листочки на срубленных ветках подсохли на солнце. Тогда мы принялись отряхивать их с веток; они ломались, крошились. Но мои спутники не обращали на это внимания, аккуратно сгребали листья и ссыпали их в припасенные мешки. Когда все было упаковано, мешки погрузили на ишаков и повезли в аул, а потом отправили в райцентр. Вместе с товарищами из райцентра поехал и Белли-уста. И меня прихватил с собой. Я остался стеречь ишаков, а Белли-уста и наши спутники понесли мешки в какой-то дом. Вскоре он вернулся веселый. — Ты хорошо поработал, Коссек, — сказал он и дал мне две пачки чая и пакетик леденцов. — Это тебе за работу выдали. Неси чай и конфеты бабушке. В следующий раз получишь масло. Мне казалось, что я не ехал на ишаке, а пари́л над ним, возвращаясь домой. Ведь это был мой первый трудовой заработок. То-то бабушка обрадуется! Но тут снова вернулась мысль, не дававшая мне покоя все эти дни. Неужели Белли-уста мог так подшутить надо мной? — А фронт, — сказал я тихо, — фронт… при чем? Разве этими листиками поможешь фронту? — Поможешь, — серьезно ответил Белли-уста. — Из этих листиков, сынок, говорят, порох делают.На фронте нужны такие, как Тувактаган-джан
Почему-то, если я чему-нибудь очень удивляюсь, это обязательно мне приснится. Так получилось и с Петей-шоколадом. Я уже несколько раз видел его во сне, даже разговаривал с ним, и он рассказывал, как решился незаметно выскользнуть из подвала и проползти чуть ли не под пулями фашистов, чтобы накормить голодных людей. В моих снах Петя был худеньким, белобрысым, с такими же большими внимательными глазами, как у Миши. Эх, а ведь я тоже мог бы так! И стрельбы не испугался, и людям сумел бы помочь. Интересно, а Миша помнит про Петю? Может быть, и он хотел бы стать таким же героем? Я отправился к другу на ферму и, даже не поздоровавшись, выпалил одним духом: — Миша, а ты Петю во сие тоже видел? — Какого Петю? — пожал он плечами, а сам продолжал гладить поросенка, которого держал на руках. — Да брось ты его! — И я толкнул поросенка в бок. — Эй, ты, поосторожнее! — сердито крикнул Миша, погладил поросенка еще раз и осторожно опустил на землю. Поросенок убежал. Глядя ему вслед, я вдруг вспомнил наказ бабушки: «Только прошу: держись на ферме подальше от свиней. До них дотронуться — грех большой». Я старался незаметно вытереть руки о рубашку. В самом деле, ведь испокон веку у нас считалось грехом есть свинину. Да и теперь многие старики, в том числе и моя бабушка, до нее не дотрагивались. Вытирая руки, я накинулся на Мишу: — Я тебя про Петю спрашиваю!.. Ну помнишь, Белли-уста рассказывал? — А-а, этот… — протянул Миша. — Ну и что? — Как — ну и что? Неужели ты его не вспоминаешь? Ведь это герой. — Ну, — сказал Миша, — на войне бывают случаи поудивительнее этого. Я разозлился. Как он может так спокойно рассуждать? Всякое геройство бывает удивительным, кто бы ни говорил, что ничего удивительного в этом нет. Не зная, как выразить свою обиду, я сказал грубо: — А ты только и умеешь пасти свиней. — Это я-то? Во-первых, я их вовсе не пасу. Просто у меня мама на ферме работает. А во-вторых, показал бы я тебе… — Ну покажи, покажи… Пошли! — Куда? — На фронт. На войну. — Да ты что? Ты хоть знаешь, где он, этот фронт? — Ничего, поезд довезет. Ты лучше сознайся, что струсил. — Это я струсил? Я? — Трус, трус! — Ты сам трус! Так мы пререкались довольно долго. Я напомнил Мише, что он совсем недавно показывал мне на станции красные вагоны и говорил, что они идут прямо на фронт. Значит, добраться туда нетрудно. Миша задумался. Долго сидел молча, потом сказал неуверенно: — Да, если б мы поехали, то сумели бы отомстить фашистам и своим бы помогли. — А как же! И фашистам бы отомстили, и гитлеровцам, и фрицам, — подхватил я. — К твоему сведению, это одно и то же. Просто называют их по-разному, — сказал Миша. — Эх, может, и правда махнуть? В Ленинград заехали бы, на наш дом посмотрели. Он целый был, когда мы уезжали. А так много домов разбомбило… — Ладно, посмотрим на твой дом, — согласился я, радуясь, что он соглашается. — А потом фронт отыщем. Нам сразу дадут оружие, патроны. — Оружие — ерунда. Можно, как в кино, у мертвых фашистов взять. Эх, если б сейчас было у меня ружье, а мимо шел бы фашист, я бы прицелился да ка-ак бахнул! Тр-р-р, тр-р-р!.. Так бы и затрещало. Сразу наповал. А что? Ведь они папу моего убили. И твоего тоже убили. Вот теперь и Миша сказал, что отец мой убит. Чуть ли не с начала войны нет вестей, и бабушка давно уже перестала верить счастливому предсказанию гадалки. А вот я все равно жду отца живым, не могу думать, будто его убили. Ну что мне сейчас делать? Со слезами бежать к бабушке? Что пользы! Только ее расстроишь. Нет, надо быть мужественным. Я представил себе отца — рослого, сильного, с веселыми темными глазами. Потом перед мысленным взором моим возникли братья Чары, и прежде всего Ашир. Какие он отливал для нас свинцовые альчики! И всегда готов был после работы сам с нами поиграть. Еще я вспомнил Белли-уста… Каким он был перед самой войной и каким вернулся, когда потерял ногу. И я почувствовал себя смелым, как никогда. — Поедем, друг, — сказал я Мише. — В ауле нам делать нечего. Миша согласился: — Поехали. Только не сегодня. Ведь к дороге приготовиться нужно, сухарей насушить. У тебя мешок есть? — Откуда? Из последнего мешка бабушка мне вот эти штаны сшила, остальные все порвались. Да и на этих вон уже две заплаты. — Не беда. Найдем. Несколько дней после этого мы собирали остатки хлеба. Сложили в небольшой мешок, который нашел у себя дома Миша. Я достал старый бурдюк, жесткий, как фанера. Бросил его в воду, и к утру он совсем размяк. Бурдюк мы наполнили свежей водой. Еще Миша принес из дому соленого свиного сала: его мама получила на ферме в премию целую свинью. Хотели мы было захватить шубу моего отца, чтобы было на чем спать и чем укрываться в дороге, но она оказалась слишком тяжелой. Ничего, обойдемся и без нее. Главное, что она Джапару-сопи не досталась. В один из темных вечеров мы отнесли свое имущество к арыку и припрятали под мостком. Кто нас может в чем-нибудь заподозрить, если мы утром выйдем из дому с пустыми руками и, вместо того чтобы идти к школе, свернем ненароком в другую сторону? Мало ли что могло нас задержать, какие домашние дела или поручения. Чего греха таить, в школе занятия шли кое-как. Учились ребята, и ладно. Девушки, сами недавно окончившие школу, вроде Шекер, были заботливыми старшими товарищами, но учительскую премудрость одолевали с трудом. На следующее утро я долго не мог подняться. Лежал под шубой и во все глаза смотрел на бабушку. Она не замечала меня, молилась. А если бы глянула в мою сторону, наверно, сразу бы все поняла. Я весь дрожал под теплой шубой, а щеки у меня пылали. Я очень любил свою бабушку и просто представить себе не мог, как я уйду от нее. Ведь кто знает, когда мы теперь свидимся, и свидимся ли вообще. «Прощай, моя дорогая, любимая бабушка, не поминай лихом», — говорю я. Все, кто уходит на фронт, так говорят. Но только они говорят вслух, а я про себя. Ведь я знаю, что, скажи я эти слова громко, бабушка нарушит священную утреннюю молитву, которую не нарушала никогда в жизни, и скажет: «Нет, нет, ты никуда не поедешь!» Несколько часов мы с Мишей пролежали в кустарниках, ожидая прихода поезда. Но поезд с красными вагонами все не шел. Мы наблюдали за людьми, которые грузили сено в вагоны. Правда, эти вагоны были не похожи на другие, открытые со всех сторон. Миша называл их платформами. Я вспомнил, что видел когда-то — на таких платформах везли танки. И вдруг у меня мелькнула мысль… — Погоди, — сказал я Мише, — ведь это сено отправят на фронт. — Откуда ты знаешь? — Знаю. Мой отец ушел на фронт прямо с конем. И многие наши джигиты ушли с конями. А коням нужно сено. Где они его возьмут там, на фронте? — Пожалуй, ты прав, Коссек. Тогда пошли. Со стороны станции у платформ были люди, а с другой стороны — никого. Кустарник подбирается к самой железной дороге, густой, высокий, будто маленький лесок. Миша привязал на спину мешок с сухарями, я надел на плечо бурдюк. Мы подползли к самым вагонам. И, как только люди, грузившие сено, отошли, мы торопливо забрались наверх, улеглись на сене. Совсем неплохо: тепло, мягко. Мы устроили себе из сена маленький шалаш на двоих. Сделали дырки, чтобы смотреть. Нам все вокруг видно, а нас никто нипочем не заметит. Теперь мы спокойно могли ждать, когда наши платформы прицепят к какому-нибудь составу и повезут на фронт. Да, я забыл сказать, что по дороге к станции мы с Мишей сильно поспорили, чуть назад не вернулись. Он говорил, будто нам нужен поезд, который идет на восток, а я доказывал, что на запад. Переспорить его было невозможно, и я взмолился: «Миша, друг, послушайся на этот раз меня. Давай доберемся до Красноводска. Там мы захватим с собой Чары и Дангы. Увидишь, они поедут. А дальше будь спокоен: Чары в любом случае найдет выход, с Чары мы не пронадем». «Послушаться, что ли, в самом деле?» — неожиданно сдался Миша. И вот мы оба уже сидели в мягком, душистом сене, уверенные, что эти вагоны непременно прежде всего довезут нас до Красноводска. Ждать пришлось не так уж до́лго. Не успели мы изгрызть несколько сухарей, как с востока, тяжко дыша, подошел какой-то черный поезд с глухими, закрытыми вагонами. К этому поезду прицепили и наши платформы. Паровоз протяжно загудел, раздался металлический лязг, резкий толчок отшвырнул нас назад. Поехали! Через дырки в сене мы любовались местами, которых раньше никогда не видели. Миша хоть и ехал к нам на поезде, но он редко подходил к окошку, не до того ему было. Мы ехали всю ночь. Спали мало. Всё разговаривали, смотрели да грызли сухари, запивая водой. На следующий день мы очень долго стояли на каком-то маленьком полустанке. Нас нагнал другой поезд, остановился рядом. Вот тут не было никакого сомнения, что соседний поезд следует прямо на фронт. На платформах стояли, взъерошившись стволами пушек, танки, покрытые брезентом. Миша высунул голову из сена, огляделся вокруг. Никого не видно. Не смотрит в нашу сторону и солдат, который стоит с винтовкой между двумя вагонами с танками. Не сговариваясь, мы спрыгнули на землю и перебежали к соседнему поезду. Нам повезло. Солдат нас так и не заметил. Очень довольные, мы улеглись под танком. Но оказывается, мы, на свою беду, покинули теплое сено, где нас, наверно, до конца никто бы так и не заметил. Мы это поняли, когда было поздно… Поезд наш мчался изо всех сил. Поднимешь голову. — ветер свистит в ушах. К полудню следующего дня мы прибыли в Красноводск. Я обрадовался, будто домой приехал. То и дело выглядываю из-под брезента, и все мне кажется, что сейчас увижу встречающих нас Дангы и Чары, вот-вот услышу их голоса. Миша толкает меня в спину, закрывает брезентом, а я опять высовываюсь. Ведь это Красноводск, значит, должны тут быть Дангы и Чары. Куда там!.. Вместо встречающих, какие бывают у каждого поезда, платформу заполнили солдаты. И откуда их взялось столько! Наверно, из других вагонов вышли. Солдаты стали развязывать веревки, снимать брезент. Мы спрятались за колеса, сидим не дышим. Но один солдат все же увидел нас и пришел в ужас. Веревку бросил, за винтовку схватился, гаркнул: — Руки вверх! Он целился прямо в меня. Я зажмурился, ноги у меня подкосились, будто несколько пуль уже прошили меня насквозь. Откуда-то издалека донесся запинающийся голос Миши: — Дяденька, мы свои… Мы свои… Солдат что-то крикнул. Подбежали еще несколько человек во главе с офицером. — Это еще кто такие? — спросил офицер. Мы хотели ему объяснить, кто мы и куда едем, но он не стал слушать, велел солдату нас куда-то отвести и сдать. — Ну, пошли, — сказал солдат, тронув меня за плечо. На улице мы увидели, что танки уже грузят на пароход… До чего ж обидно! Вместо фронта мы оказались в тюрьме. Вокруг милиционеры, смеются, разглядывают нас. Я был так расстроен, что впервые в жизни стал есть сало — то сало, которое прихватил с собой Миша. Поел и удивился, до чего вкусно. А в поезде никак не решался, несмотря на все Мишины уговоры: помнил слова бабушки, будто есть свинину — великий грех. Пробыли мы под арестом почти два дня. Спали на жестких диванах. К вечеру следующего дня пожилой милиционер с длинными висячими усами повел нас на вокзал.
— Дядя, нас куда отправляют? — спросил Миша. — Как — куда? Домой, конечно. — Мы же на фронт едем. Старый милиционер укоризненно покачал головой: — На фронт… Сначала сопли утрите. Мать и бабушка с ума сходят от горя. Эх, вы… Вчера начальник по телефону разговаривал. А мы-то уж хотели вас в ФЗО устраивать, думали, может, откуда из оккупированных районов… — Дядя, мы не хотим обратно, мы хотим в ФЗО, — сказал я с надеждой. Нам бы только встретить Дангы и Чары, а там мы сумеем продолжить свой путь. — Нельзя, нельзя. Говорю же, вас дома заждались. Старый милиционер долго молчал. Мы дошли до вокзала, уселись на скамье. Милиционер стал прохаживаться по перрону, потом подошел к нам: — Эх, ребята, ребята… Вот вы говорите, на фронт поедете. А знаете ли вы, что для этого надо быть такими, как Тувактага́н-джан? Он достал из нагрудного кармана кителя конверт, вытащил фотографию широкоскулого парня в военной форме, с орденом на груди. Нетрудно было догадаться, что это его сын. — Вот он, Тувактаган-джан. Храбрый, сразу видно. Старый милиционер присел возле нас, начал скручивать новую козью ножку. — Мой Тувактаган-джан — молодец. Только началась война, он в военкомат: «Возьмите меня, — говорит. — Я хочу на фронт». Военком знает людей. Только в глаза глянет, сразу определяет, кто храбрый человек. Ответил ему: «Кого же нам брать, если не тебя. Готовься». Теперь мой Тувактаган-джан — командир на фронте, орден получил. Пока эта фотография шла по почте, он опять отличился, две медали заслужил. Только вот фотографироваться больше некогда. Подошел поезд. Милиционер спрятал фотографию сына и повел нас к первому вагону. — Поезжайте домой, — сказал он строго. — Чтобы никакого озорства больше. Поняли? В другой раз понадетесь мне в руки, добра не ждите. В. настоящую тюрьму посажу, под арест… Он отвел в сторону проводницу и долго что-то объяснял ей, кивая в нашу сторону. А я раздумывал, что значит «настоящая» и «ненастоящая» тюрьма? Значит, мы даже не были по-настоящему под арестом? Проводница до самой станции Кара-бата не выпускала нас из вагона. Смотрим, а на станции нас встречают бабушка, Мишина мама и сестренка, Мурти и… милиционер. — Ох, дитя мое дорогое, ты жив? — бросилась ко мне бабушка. Она принялась целовать меня, а сама плачет. У ограды стояли два ишака. Мы с Мишей сели на одного. На другого Мурти посадил Мишину сестренку. — А мы пешком пойдем, — сказал Мурти. Знакомые стали понадаться нам еще дорогой, и все обращались к бабушке: — Поздравляем, Мамур-эдже… Нашли внука? Вот и хорошо. Поздравляем… И всякий раз я краснел и низко пригибал голову к шее ишака. «Нашли»… Будто я вещь, которая затерялась. И хоть бы один человек сказал: «Поздравляем, Мамур-эдже, Коссек с фронта вернулся…»
Подарок от Коссека Базарова и Миши Антонова
Шло время, а война все продолжалась. И опять начинало казаться, что мы тоже могли бы помочь нашим храбрым воинам. Эх, пустили бы нас тогда на фронт! Не мы одни хотели помочь фронту. Женщины из аула вязали носки, варежки и отправляли в подарок фронтовикам. Недавно бабушка собрала последнюю шерсть, какая оставалась у нее в корзинке, и связала белые носки. В носки она вложила записку, которую писал я под ее диктовку: «Дорогой джигит, эти носки посылает тебе мать База́ра Атаджа́на-оглы́. Да посчастливится тебе износить их до дыр. Вернись с победой раньше, чем они порвутся. Донашивай уже дома. От моего сына давно нет писем. Если встретишься с ним, передай салам моему Базару. Скажи, что мать его и сын Коссек живы-здоровы, только очень по нему тоскуют. Пусть непременно сразу напишет письмо…» Получил ли солдат паши носки и сколько он носил их, я не знаю. Писем нам по-прежнему не приходило — ни от отца, ни от незнакомого фронтовика. А люди продолжали посылать на фронт разные вещи. Ватные брюки, меховые шапки, шубы. Каждый давал что может, а у нас уже ничего не осталось. — Эх, будь сейчас дома новая шуба твое о отца, — сказала однажды бабушка, — мы бы её подарили фронтовикам. У меня чуть не вырвалось: «Да водь шуба-то у Дангы в доме спрятана!» Но я вовремя прикусил язык. Слишком уж много всякого болтали в ауле про нападение на Джапара-сопи: мол, набросились на него среди бела дня настоящие разбойники, чуть не убили, деньги требовали. Ударили по голове, да так, что он по сей день шею повернуть не может. А уж сам Джапар-сопи чего только не выдумывал: и стреляли-то ему вслед из пулемета, и ишака пытались отнять… Слушая эти разговоры, я смеялся до слез. Бабушка даже сердилась: «Хоть и неважный он человек, но такое пережил, а ты смеешься. Будь добрым, Коссек. Жалеть и тварь бессловесную нужно». Мог ли я рассказать ей, что Джапар-сопи просто-напросто великий трус и все выдумывает про разбойников? Все равно она бы не простила мне и того, что мы обидели старого человека, да еще отобрали у него заработанную им шубу. Может, в глубине души бабушка и сама понимала, что заработок этот нечестный, но она никогда бы в этом не призналась. Хорошо, что бабушка напомнила мне про шубу. Ведь мы ее тогда приволокли и сами не знали, что с ней делать. Ее, пожалуй, моль съест. Но как сдать ее в фонд обороны? Кто-нибудь еще увидит и спросит: «А не та ли это шуба, которую разбойники отняли у Джапара-сопи? Вроде бы та…» В самом деле, ее многие видели на Джапаре-сопи. Стоит людям узнать шубу — и я превращусь в одного из разбойников, которых онасается чуть ли не весь наш аул. Будь рядом Чары, он бы непременно что-нибудь придумал! Я рассказал всю эту историю, без утайки, Мише. Он тоже призадумался. Потом мы пошли вместе в помещение, где принимали подарки для фронтовиков. Там директор школы вместе с Белли-уста складывали в одну сторону шубы, в другую — шапки и телогрейки. Они клали одну вещь на другую, связывали веревками, готовили к отправке. Наша помощь пригодилась: оба они очень устали, а тут еще люди приходят с разными вопросами. Один хочет знать, на какой фронт поедут подарки, другой спрашивает, можно ли принести подарок завтра или послезавтра… Мы пообещали к вечеру прийти еще помочь, а сами побежали за шубой. Решили просто сунуть ее в кучу подарков, и все. Даже сами потом завяжем, никто ничего не увидит. Мы достали шубу, очистили ее от пыли и прикололи к ней записочку: «Дорогой фронтовик, это пода́рок от Коссека Базарова и Миши Антонова». Все получилось очень удачно. Миша вошел первым, стал упаковывать тюки и разговаривать. После вошел я с шубой в руках, будто вернулся со двора, где вытряхивал ее перед отправкой. Незаметно мы положили свою шубу вместе с остальными. Их упаковали, потом погрузили в фургон и увезли. — Интересно, кто будет носить нашу шубу? — спросил Миша, когда мы уже уходили. — Пусть кто угодно ее носит, — сказал я, — лишь бы она не досталась Джапару-сопи. А про себя я подумал: «Кто знает, может, понадет эта шуба прямо в руки моему отцу?»Мальчик военного времени
Я получил муку и деньги на трудодни, заработанные в колхозе. Видно, не прошел даром тот разговор с Белли-уста, когда он посылал меня рубить гребенчук… А до того как я стал настоящим колхозником, произошло вот что. Как-то мы с ребятами пошли к арыку искупаться. Смотрим, спускается к воде дочь Джапара-сопи Джамал с большим медным кувшином. В ауле толстуху эту больше знали по прозвищу «Харма́н», что означает «копна». Так у нас дразнят толстых и ленивых девушек, к которым даже никто не сватается. Так вот, подошла она к нам и говорит: — Эй, вы, накупались — хватит. Пошли прочь отсюда, я воду набирать буду. Если б хоть попросила, а то на́ тебе — гонит, и всё. Мы отплыли подальше и барахтаемся в воде, визжим, будто не слышали. Тогда она от злости взяла да и пошвыряла в воду наши вещи — и штаны и рубашки. После купания согреться хочется, вода в арыке холодная. Мы разозлились, выловили вещи и разложили на солнышке сушить. Сидим на другом берегу, зуб на зуб не понадает. Я тогда и крикнул:Убежали женихи от Джамал
Грубый голос женихов распугал!
* * *
Теперь лошадей водили только мальчишки. Из стариков оставались в поле те, кто покрепче, а женщины и вовсе вернулись к более легким делам. В ауле нашем произошло важное событие: отправились на фронт ребята, которым исполнилось по восемнадцать. Еще вчера они учились в школе, помогали колхозу, а потом всех их вызвали в военкомат. Не буду рассказывать о проводах. Известно, как могут провожать люди своих близких на войну. А между прочим, многие из этих ребят пахали на быках. Теперь несколько колхозных быков ходили свободными, хотя прежде с их помощью делали чуть ли не половину работы. Опять пришлось женщинам браться за пахоту. Ведь известно, что женщины справляются с любым делом. Но вот тут ничего не получалось. Быки женщин не слушались ни в какую. Тащат за собой соху и бредут, куда им вздумается. Однажды председатель колхоза нагнал нас на дороге, когда Мурти, Миша и я возвращались с поля. — Как думаешь, Мурти, — спросил он, — если поставить Коссека к быкам, справится он? Мурти твердо ответил: — Они с чем угодно справятся, Агаджан-ага. Это ведь мальчишки военного времени. В тот же вечер Мурти решил показать мне, как придется работать. Пока я снимал с лошадей хомуты, он надел на шеи здоровым быкам ярмо. Я наблюдал со стороны, и мне казалось, что все это вроде бы и не трудно. Однако, взявшись за соху, я растерялся. Огромная, в рост со мной, тяжелая соха заваливалась то на одну, то на другую сторону. В какую-то минуту я выпустил ручку, и соха поранила ногу быку, идущему справа. Мурти осмотрел рану, перевязал, но работать этот бык пока что не мог. Привели другого. Пу просто хоть плачь! Стиснув зубы, я продолжал работать. До начала сева хлопчатника старшие мальчишки должны были научиться пахать на быках. Мне стало немного легче, когда я увидел, что другие ребята умеют еще меньше моего. Ничего, научимся! Ведь когда нужно, человек может справиться с самым трудным делом. Зато по вечерам нас нередко ожидала награда: в аул приезжала кинопередвижка. В начале войны нередко случалось так, что председатель наш отправлял киномеханика сразу обратно — некому было крутить движок, который дает свет. А без света какое кино? Случалось, председатель сам стоял у движка. Где людей-то взять? У каждого куча дел. Зато теперь, когда нам доверили копей и быков, мы смело начали помогать и киномеханику. Кинопередвижка всегда останавливалась возле школы, потому что это было самое белое здание в ауле. Боковая стена заменяла экран. Помогая механику сгружать большие железные коробки, мы забрасывали его вопросами: — А кино про что? Про войну? Если он отвечал: «Про войну», ликованию нашему не было конца. Мы выбегали на улицу и кричали: — Эге-гей, люди, кино привезли про войну! Не только для нас, для всех остальных каждая такая картина казалась весточкой от ушедших на фронт близких. Чаще всего кино бывало немым. Люди на экране просто раскрывали рты, не произнося ни слова. И все равно было очень интересно. Иногда кто-нибудь спросит у механика: — Это наши? — Наши, наши, — отвечает механик. — А вон те — враги… Всякий раз, когда наши теснили врагов, будь то белые, будь фашисты, мы вскакивали с мест и громко аплодировали. Я смотрел картины про войну, стараясь разглядеть все лица. Мне казалось, что где-то среди наших воинов я замечу вдруг лицо своего отца…Миша Антонов становится знаменитым
Мы с Мишей по-настоящему подружились. Он был хороший товарищ, как Дангы или Чары. Но вот уж не думал я, что он станет знаменитостью во всем нашем районе. Вместе с другими мальчишками Миша работал в поле. Он старался держаться и на работе поближе ко мне, но это не всегда удавалось. У него работа была все же полегче. Однако он оказался упорным и тоже научился пахать на быках… Эх, быки, быки, бедняги! Война не только людям принесла тяжелые испытания, крепко доставалось и животным. В колхозе половину работ выполняли быки. Они не знали покоя ни зимой, ни летом. Кончало́сь одно дело — начиналось другое. Бывало и так, что днем они тащили за собой соху, а вечером — нагруженные фургоны. Всем приходилось нелегко: и лошадям, и верблюдам, и ишакам. Но эти хоть знали иногда передышку, быки же заменили все машины, даже трактор. Взять хотя бы пшеницу. Тут с помощью быков и землю пашут, и сеют, и молотят. Когда хлопок выращивают, бык тоже во всем участвует от начала до конца. Быки упрямые, но очень выносливые. Правда, с ними управляться трудно. Председатель наш это хорошо понимает, потому и прозвал всех, кто работает на быках, «танкистами». Мы с Мишей очень гордились этим званием. Нам казалось, что поле — это фронт, и в короткие минуты отдыха мы с ним переговаривались деловито и отрывисто, как воины, которым предстоит вот-вот двинуться в решительный бой. Нас, «танкистов», ценили в колхозе. Это было видно хотя бы из того, что мы всякий раз получали во время обеда лишнюю ложку каши. Это не так уж мало — большая ложка, полная каши! Но вот, говорю, я никак не предполагал, что Миша вдруг прославится. Началось с того, что нам поручили проводить культивацию хлопчатника. Хлопчатник зарастает сорняком, земля вокруг кустов твердеет, и ее необходимо разрыхлить, чтобы корни впитывали воду. Культиватор разрыхляет землю и уходит. Пропольщики работают вручную, торопятся, не успевают. А поля хлопчатника зарастают сорняками с каждый днем всё сильнее. Миша посмотрел, посмотрел… Я ни о чем не догадывался, а он, оказывается, раздобыл где-то старый рубанок, заточил хорошенько его лезвие да и прикрутил проволокой к своему культиватору. Лезвие вонзалось в землю и вырывало сорняки прямо с корнем. Кусты хлопчатника оно не задевало: ведь землю-то мы разрыхляли между рядами. Народ быстро узнаёт про такие вещи. Все приходили и смотрели на Мишино изобретение. Как-то приехал председатель, спешился, долго стоял, смотрел, как Миша работает, потом отправил одного мальчишку на своем коне за Белли-уста. Потом они вместе осмотрели Мишин культиватор. — Ну, молодец! — сказал председатель. — Премию тебе за это дадим. Миша смущался, хмурился, сказал, жалуясь: — Вроде бы крепко прикручиваю, а все равно часто падает. — Ничего, теперь не упадет, — ответил Белли-уста. Целую неделю Белли-уста лишь тем и занимался, что прикреплял к культиваторам траворезки. Он усовершенствовал Мишино приспособление. Ведь у Миши было только лезвие от рубанка, а Белли-уста заточил более широкие железные пластинки. И прикреплял он их к культиваторам не проволокой, а болтами, проделав предварительно дырочки. А в колхоз наш уже ехали люди из окрестных аулов, чтоб сделать такие же траворезки. Потом мы узнали, что на важном собрании секретарь райкома похвалил Мишу. Районная газета напечатала портрет юного колхозника и рассказала о его нововведении. Я нисколько не завидовал Мише, а наоборот — гордился своим другом. Теперь многие вспоминали, что Миша и прошлым летом всех удивил. Было это так. В полдень мы искали, где бы нам спрятаться от жары. Вы, наверно, знаете, какая погода бывает летом у нас в Туркмении: пятьдесят, а то и шестьдесят градусов жары. Люди боятся выйти из тени, прячутся. Мы с Мишей купались в арыке, собирали тутовник. Возвращаясь домой, мы вдруг заметили большую птицу. Нам показалось, что она вылетела из заколоченного гаража. Миша встал согнувшись, уперся руками в колени. Я взобрался ему на спину и заглянул в гараж. Вместо красивых птиц я увидел на полу гаража несколько старых покрышек. — Миша, пусть меня солью побьет, если тут не найдется резины на сотню рогаток! — закричал я. — Что-что? — заинтересовался Миша. — Ну-ка пусти, я тоже посмотрю. Он, в свою очередь, взобрался мне на спину и мгновенно через дыру в окне юркнул в гараж. — Ого! — услышал я его крик. — Целое богатство. Тяни! В дыру просунулся кусок порванной покрышки. — Ой, Миша, не стоит… Влетит! — От кого влетит? Она же порванная. Да тяни же ты! Я ухватился рукой за холодную резину. Огромная покрышка грохнулась о землю, подняв облако пыли. Следом выпрыгнул Миша. Мы потащили покрышку к арыку и спрятали. — Красота! Под покрышкой и камера… Столько резины! — ликовал я. — На сотню рогаток хватит. На всех ребят. Тр-рах! — и наповал! — Кого наповал? — тихо спросил Миша. — Ну… любая птица. — А зачем? — сказал Миша. — Для чего убивать любую птицу? Певунью или ту, что на гнезде сидит… Я и сам не знал зачем. Просто все мальчишки так делают. — Мне птиц жалко, — продолжал Миша. — А потом, эта резина и не годится для рогаток. Попробуй, какая жесткая. В самом деле жесткая. К чему же мы ее тогда тащили? — Теперь мы будем делать шлепанцы. — Какие шлепанцы? — Ну, тапки, — пояснил Миша. Еще что выдумал! Я не представлял, как он станет из этой круглой жесткой резины шить тапки. Мы промучились, наверно, целый час, силясь разрезать покрышку. Миша сбегал за ножницами, потом за ножом — ничего не вышло. Попытались рубить топором — покрышка подпрыгивала как мячик. Я сказал с надеждой: — Знаешь, ее можно катать вместо колеса. Интересно! — Зачем колесо, — сердито возразил Миша, — это же целое богатство! — Конечно, это очень хорошая вещь, она еще пригодится. Не положить ли нам ее обратно? Миша молчал и изо всех сил трудился топором. Я с досадой смотрел на его сосредоточенное лицо. Люди называют это настойчивостью, а мне казалось, что он просто упрям, и все. Однако вслух я об этом не сказал. Убедившись, что так ничего не получится, Миша разжег в небольшой яме костер, бросил в него покрышку. Резина долго не загоралась, клубы вонючего дыма выбивались из-под покрышки. Внезапно она полыхнула и загорелась. Тогда Миша принялся забрасывать ее песком. Я стал помогать. — Ну-ка, ставь ногу, — торжественно произнес Миша. Я с онаской поставил ногу на теплую резину. Миша схватил нож и, придавив покрышку, обвел ножом вокруг моей ноги. Потом я выравнивал покрышку, а Миша обвел очертания своей ноги. Теперь я начал кое-что понимать. Оказывается, Миша хотел сделать выкройку подметок. Резать прогревшуюся покрышку было совсем не трудно. Вскоре выкройки были готовы. Остальную резину Миша отнес домой и сделал тапки матери и сестренке. Очень простые тапки: подметки с небольшими прорезями, куда вдевались веревочки — шнурки. Из одной покрышки получилось несколько пар шлепанцев. Самая лучшая обувь для лета! Конечно, были у наших тапок некоторые недостатки: в них нельзя было бегать по горячему песку — жгло ноги. Но мы нашли выход: старались почаще окунать ноги в воду. Хуже было то, что шнурки часто перетирались. Тогда мы решили заменить веревочки проволокой. Толсто скрученная, она почти не натирала ноги, а служила надежно. Все вокруг стали просить у Миши сделать им тапки. Мы выволокли целую кучу старых покрышек, валявшихся в углу гаража. Даже у Белли-уста не всегда бывало столько заказчиков. А что делать? Босиком все ноги собьешь. Никто не спрашивал у нас, откуда мы берем резину, хотя все должны были понимать, что резинового завода у нас нет. Было похоже, что Миша просто кажется людям добрым волшебником. Женщины, девушки, девчонки и мальчишки нашего аула — все щеголяли в Мишиных шлепанцах. Так началась его слава задолго до того, как он придумал траворезку.«Прости меня, отец»
Война подходила к концу. Миша с мамой и сестренкой уже уехали обратно в освобожденный Ленинград. В каждом письме Миша звал меня погостить в Ленинград. А что? Непременно поеду, когда окончится война. От моего отца так и не было вестей. А может, он нагрянет к нам неожиданно, как тот фронтовик, которого встретил некогда наш Чары? Ведь там семья тоже ничего не знала, не ждала его, а он вернулся и лишь в последнюю минуту послал мальчишку сообщить о своем возвращении. Я представлял себе этого мальчишку. Он вбегает в нашу кибитку и кричит: «Суюнчи!» Мы с бабушкой бросаемся к нему. «Сыночек, — говорит бабушка, — говори скорей, какую радостную весть принес ты в наш дом?» А я уже догадался какую. Вернулся отец! Он долго лежал в госпитале тяжело раненный и не мог писать. Но вот он пришел. Теперь нам с бабушкой уже не придется с волнением прислушиваться к чужим шагам на улице и к стуку почтальона… Но это были только мечты. Отец не возвращался. И невольно злые слова Джамал-Харман нет-нет да и вспоминались мне. Откуда она взяла, что я должен устраивать по отцу поминки? Тот, кто ждет и любит, будет ждать до последнего. Эх, тоскливо опять остаться одному, без близкого друга. Чары и Дангы как уехали в последний раз, так и пронали. Только изредка приходили короткие письма. И вдруг однажды кто-то из мальчишек шепнул мне, будто в аул вместе с военкомом приехал Дангы. Могло ли такое быть, что он ходит по аулу, забыв про меня? Но происходило что-то необычное. Людей созывали к школе. Мимо нас торопливо прошел взволнованный Мурти и даже не ответил на приветствие. Все спешили к школе, на митинг, еще не зная, в чем дело. Я тоже побежал, надеясь увидеть там Дангы. По дороге я попытался у кого-то спросить, зачем нас зовут. Мне коротко ответили: «На митинг». Тогда я спросил, что такое митинг, и мне объяснили, что это короткое собрание, где все стоят. Тут я вспомнил про бабушку и побежал к нашей кибитке. Но бабушка отказалась идти, не поверила, что услышит радостные вести. Ну что ж, пусть не идет, если не хочет. Она старенькая, ей трудно ходить. Я обогнал Мурти, который опять не обратил на меня внимания. Он разговаривал о чем-то с Мухатом-ага. Старик последнее время никуда не выходил, но на митинг выбрался. Постукивая деревянной ногой, к ним подошел Белли-уста. Возле школы уже собралась толпа. Протолкавшись вперед, я увидел за столиком, покрытым красной материей, председателя колхоза и рядом с ним военкома Кады́рова. Кажется, военком привез хорошую весть: оба они улыбались. Агаджан-ага постучал по столику карандашом и сказал: — Товарищи! Наш военком хочет сообщить вам удивительную новость. — Что, война кончилась? — крикнул кто-то сзади. — Война, друзья мои, идет к концу, — звучным голосом произнес Кадыров, поднимаясь со стула. — Наши сражаются в самом логове врага. Но сегодня я привез вам весть о присвоении звания Героя Советского Союза вашему земляку, Келевхану Джумания́зову. Я захлонал было в ладоши, но хлопок мой прозвучал беспомощно и странно среди общего гробового молчания. Военком посмотрел в мою сторону и продолжал: — Не скажу, что это нужно делать теперь, но, наверное, после войны вы поставите своему земляку памятник. — Кто он такой, этот Келев, чтобы ставить ему памятник? — раздался голос из толпы. Мухат-ага, чтобы не обидеть гостя, вмешался: — Говори, товарищ Кадыров, мы тебя слушаем. Но военком растерялся: — Может быть, вы меня не поняли? — Понимают, понимают, товарищ Кадыров, — сказал Агаджан-ага. — Я все же добавлю несколько слов. Да, товарищи, ваш земляк под Берлином проявил высокий героизм. Он остался один, но не отдал врагу очень важный объект. Указом Президиума Верховного Совета ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Военком говорил очень медленно и с тревогой вглядывался в мрачные лица окружающих. Наверно, ему казалось, будто он что-то говорит не так, и он крикнул, повысив голос: — Один уничтожил два танка и более пятидесяти солдат! Представляете? Келев Джуманиязов — настоящий герой! Кругом царила тишина. Председатель колхоза, смущенный не меньше военкома, пожал ему руку. — Благодарим за добрую весть, товарищ Кадыров. Мы все скорбим о гибели нашего земляка. Но было бы лучше, если бы героизм этот проявил другой джигит нашего аула. — Может, и в самом деле кто другой совершил это геройство? — спросил Мухат-ага. — Нет, все верно. Наступила гнетущая тишина. Разыскивая в толпе глазами Дангы, я увидел бабушку, которая медленно подходила, опираясь на посох. Эх, лучше бы она не приходила! Сейчас начнет плакать, расстроится. Вон даже Агаджан-ага поник головой, сгорбился и не знает, что еще сказать людям. Бабушка подходила все ближе. Она что-то говорила стоявшим впереди людям, и они расступались. Сперва я думал, что она ко мне пробирается, однако это оказалось не так. Бабушка подошла к столику и протянула председателю сверток в белой тряпочке: — Вот возьми, Агаджан-ага, и делай с этим что хочешь. Он мне оставил, когда приезжал в последний раз. Это всего-навсего солдатский ремень. Вместе с ним письмо. Сыну Келевхан написал, но мальчишка заупрямился и даже взглянуть не захотел. А я так думаю, что письмо нельзя выбрасывать непрочитанным, да еще когда погиб человек… Агаджан-ага достал заклеенный конверт, повертел нерешительно в руках, медленно прочитал надпись: — «Сыну моему Дангы-джану». Мне очень хотелось узнать, что там, в письме. Я даже не знал, что бабушка хранит такой сверток. А теперь я почувствовал себя вправе услышать последние слова Келевхана. Наверно, так же решили и другие. Раздались голоса: — Читай, председатель! — Шекер, дочка, прочитай ты, у тебя голос звонкий. Шекер взяла у председателя конверт, разорвала его и принялась вслух читать: — «Сынок мой, Дангы-джан! Ты теперь стал настоящим джигитом, многое понимаешь. За нелегкое твое детство прости меня, сынок. Не я виноват в этом…» Учительница запнулась и обвела глазами толпу. Люди стояли потупив головы, никто не смотрел друг на друга. — «Односельчане мои, братья старшие, братья младшие! Я был оклеветан. Клевета разрушила мой дом, лишила меня самого родного человека, доброй жены моей…» Шекер не смогла читать дальше. Письмо взял из ее рук Илли-ага. — «Единственный сын мой, маленький Дангы, отвернулся от меня. Все вы лишили меня своей дружбы. Знаю, кто-то пачкал чистое имя односельчанки нашей Якшигозель, ее вынудили уехать, а ведь у нее и в помыслах не было отнимать меня у семьи. Может быть, я был неправ в своем горе, своей обиде. Но как поступить человеку, если ему не верят, если самые близкие люди казнят его и казнятся сами? Я уехал в райцентр и сразу же подал заявление с просьбой отправить меня на фронт. Был ранен, выхлопотал после госпиталя короткий отпуск, но сын сказал: «Ты не отец мне». Снова иду на фронт. Буду сражаться до последней капли крови. Останусь ли я жив, погибну ли, простите меня. Будьте осторожны, оберегайте людей от злых наветов, от клеветы. Человек, его семья, его доброе имя — это очень дорогое богатство. Охраняйте это богатство, не губите…» Теперь тишина, стоявшая вокруг, показалась мне совсем иной. Доносились чьи-то тихие всхлипывания, шепот. — Вот видите, как мы были неправы, друзья, — расстроился Агаджан-ага. — Такую рану нанесли нашему джигиту. Не ты должен просить у нас прощения, а мы у тебя, Келевхан. Прости нас, наш герой! Даю тебе слово, что, как только война окончится, я найду этого клеветника ж все выясню. — Зачем ждать конца войны? — спокойно произнес Мурти. — Если хотите, я сейчас приведу его сюда на аркане. — О ком ты говоришь, Мурти? — Пусть люди вспомнят получше, кто им рассказывал, что Келев решил оставить свою семью. Например, мне говорил об этом Джапар-сопи. — И мне Джапар-сопи! — Неправда, Мурти, ученый человек не станет заниматься такими делами! — Это крикнула моя бабушка. — Нет, правда, Мамур-эдже. Клянусь своими детьми!.. Пока бабушка и Мурти спорили, двое стариков уже привели Джапара-сопи. Его не было на митинге, он собирался везти на станцию зеленый лук, и его перехватили по дороге. Ишак с двумя переброшенными через седло корзинами, полными зеленого лука, остановился в отдалении от толпы. Джапар-сопи угодливо пробился к председательскому столику: — Ты меня звал, Агаджан-ага? Вот, на станцию спешу. Порученьице, что ли, какое будет? Председатель не спускал с Джапара-сопи пронзительного гневного взгляда. — Ну-ка повернись к народу и признайся, какую ты подлость совершил. Расскажи всем, вслух, довольно шептать в темных уголках!.. — Ха, что я такого совершил? Я простой человек, еду продать свой лук, выращенный собственными руками. Это меня едва не убили, ограбили среди бела дня… — Говори прямо, лицемер! Кто оболгал Келевхана? Джапар-сопи заколебался. Огляделся вокруг. Что он мог солгать сейчас людям, если каждый из них слышал от него злую сплетню? Нет, никто не защитил бы и не поддержал его. — Говори или я своими руками отверну тебе сейчас голову! Пусть меня потом судят за это. Значит, ты все выдумал и сам же рассказывал об этом каждому встречному? Я очень боялся, что бабушка снова начнет защищать Джапара-сопи, но она молчала. Убедившись, что помощи ждать неоткуда, Джапар-сопи жалобно залепетал: — Люди… я… я… ошибался. За это я уже понес кару. Ведь Келев чуть не убил меня. Разве вы не слышали? Он сбросил меня с высокого берега арыка… С тех пор я тоже начал болеть. Этому и свидетель есть… Как его… Он никак не мог припомнить мое имя и стал озираться.
— Да, да, вот он, вот! Коссек-джан, правда ведь ты видел, как Келев меня убивал? Агаджан-ага не выдержал: — Замолчи негодяй! Хорош «ученый». Подумать только, сам назвал себя «сопи», а люди и поверили. Смотрите теперь, к кому вы ходили за советом да за молитвами! А лучше идите-ка все вместе да разберите по бревнышку его дом. Пусть убирается из нашего аула куда хочет! — Нет, Агаджан-ага, если уж мы начали, давайте доведем это дело до конца! — звенящим голосом крикнула Шекер. Она поднялась с места и обратилась к окружающим: — Говорите, люди, что вы знаете об этом человеке. Почему же мы шепчемся по уголкам и боимся вслух сказать слова правды? Она отбросила назад косы, глаза у нее горели. Теперь это была настоящая учительница: решительная, правдивая, умная. Пожалуй, у такой уже не осмелишься болтать на уроке. Даже взрослые люди смущались под ее взглядом. Джапар-сопи, вначале было растерявшийся, понял, что сейчас Шекер — самый онасный для него враг, и решил с ней расправиться. — Вы что, суд мне устраиваете? — взъярился он. Но тут сорвался с места Илли-ага: — Мы хотим знать, кто ты таков. Все говорят, что это ты, одевшись в белое, напугал Говхер. Люди видели… Мы так и не узнали, что видели люди. Джапар-сопи от неожиданности пригнулся. Видно, он не ожидал такого прямого обвинения. — Это не я! — закричал он пронзительным голосом. — Клянусь, это не я. Абдул-ходжа часто сидел у дамбы, под крепостью, и подкидывал вверх зажженные клочки соломы. — А в белое кто переоделся? Ты ведь не один живешь на свете, Джапар. Вот и внук твой от тебя отрекся. Мы можем вызвать его, чтобы он рассказал тут про твои белые одежды… — Не надо! — еще пронзительнее закричал Джапар-сопи. — Это меня Абдул-ходжа научил. Велел мне ходить в белом за трактором, чтобы Говхер испугалась, а потом придушить ее: мол, она сбивает с пути наших девушек и женщин. Где такое видано, чтобы женщина водила машину? А я его не послушался, я ее не душил… Илли-ага рванул ворот рубахи, будто ему самому стало душно. Сзади меня кто-то громко застонал. Я оглянулся. Это бабушка срывала с шеи шнурок. — Проклятый, — бормотала она, — а мы носим твои амулеты… Коссек-джан, сорви со своей тюбетейки бумажку! Не пачкай свою голову этими грязными заклинаниями… Мы с бабушкой сорвали свои амулеты и швырнули под ноги Джапару-сопи. Оказывается, не только мы, но и многие в нашем ауле носили разные амулеты и талисманы, за дорогую плату приобретенные у Джапара-сопи. Сейчас все это сыпалось на землю. Кадыров смотрел с изумлением. — А кто мешал учиться моим ребятам? Кто распространял письма, «слетевшие с небес»? — закричала Шекер. — Их… тоже мулла писал. Я просто передал, он велел… — Ах ты, бедняжка… Научили тебя, заставляли… У самого-то у тебя разума нет? Ну-ка пустите меня поближе, я его поганую бороду по волоску повыдергаю! — закричала жена Мурти Огульнияз, энергично расталкивая людей. — Отойди, женщина! — взвизгнул Джапар-сопи. — Не касайся моей бороды! Огульнияз была далеко от него, но он знал, что с ней шутки плохи. Проталкиваясь вперед, она перечисляла обиды: — А сколько ты с людей за лук сдирал? А как ты заставил нас есть запоганенный урюк, припомни-ка… — Погоди, жена, — досадливо потянул ее за руку Мурти. — Тут речь идет о делах поважнее урюка. Огульнияз умолкла, только со злостью плюнула в сторону Джапара-сопи, забыв, что кругом стоят люди. Агаджан-ага поднялся со своего места: — Простите меня, колхозники. Заботы меня задушили. Сами знаете, бегал дни и ночи, чтобы наладить работу в колхозе. Но все равно виноват я перед вами. Сколько зла может принести негодный человек! Не будем сейчас говорить про муллу, его делами другие займутся. Скажу только, что он давно уже лежит, разбитый параличом. Ты что, Джапар, не знал об этом или просто решил, что мы не узнаем? Джапар-сопи не ответил. — Так вот, дорогие земляки, — продолжал председатель, — Джапар-сопи упомянул тут слово «суд», мы и передадим дело его в суд, в район. Там решат, какого онзаслуживает наказания после того, как мы его от себя прогоним. — Верно! — раздались голоса. — А еще я хочу сказать вам: давайте теперь же соорудим памятник Келеву. Надеюсь, вы не возражаете? У меня есть еще предложение: поставить рядом с бюстом Келева памятник и Говхер. Ведь это наша первая жешцина-трактористка. Я и сам не заметил, как вскочил с места и завопил: — Ура-а! Бабушка дернула меня сзади за рубашку, старенькую, в заплатах рубашку, которую мне сшила когда-то Говхер. Но Агаджан-ага наклонил голову: — Спасибо, Коссек. Только тут я заметил в уголке Дангы. Оказывается, он пришел на собрание. Давно ли он тут? Многое ли услышал? Бедняга, каково ему сейчас!.. Я протиснулся к другу, взял его за руку, и мы вместе вышли на улицу. Долго шли, не говоря ни слова. Вдруг мне показалось, будто Дангы что-то шепчет. Я прислушался. — Прости меня, отец, — повторил он сквозь слезы.
Эпилог
Потом был День Победы, но рассказать о нем невозможно. Невозможно передать, сколько радости и слез принес людям этот день. А я получил первую в своей жизни телеграмму. От Миши. «Дорогой брат Коссек, поздравляю с Победой тебя, твою бабушку и всех людей нашего аула». И я бегал от дома к дому, чтобы поздравить каждого, как велел мне Миша. К концу дня приехали Дангы и Чары. Их отпустили домой и даже помогли долететь до райцентра самолетом. Дангы перепоясался широким ремнем со звездой, который подарил ему отец после ранения, и вместе с Чары принялся обтесывать камни для памятников Келеву и Говхер. А я помогал и рассказывал им все колхозные новости. Но самой большой новостью была та, которую я узнал потом. В честь Дня Победы был составлен список лучших колхозников нашего аула, представленных к награждению медалью за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Как вы думаете, чьи фамилии завершали этот список? Могу сказать: Миша Антонов Коссек Базаров.НАШИ ГОСТИ


В дедушкином шалаше
Пусть хоть что говорят, но я не думаю, что на свете может быть что-нибудь слаще сна. Правда, вкусных вещей много. И поесть вкусно приятно. И пить вкусные напитки тоже. И играть с ребятами очень даже неплохое дело. Но все равно слаще всего — сон. Потому что можно обойтись и без еды и без игр. А вот без сна — никак нельзя. В этом я сам убедился. В прошлом году я упал с урюкового дерева и сломал ногу. Доктор сказал, что мне придется лежать в больнице столько дней, сколько мне лет. Выходило, по одному дню на год. На первый взгляд кажется: подумаешь, один день в год. Но это легко сказать. А я подсчитал, и получилась целая неделя, да еще с половиной. И плюс еще один день. Я подумал, что ошибся, и стал пересчитывать. Для верности считал, загибая пальцы. Но, сколько ни считал, счет не менялся. Вот тогда я и понял, как много прожил на свете. И зачем нужно было жить столько? Было бы мне шесть или семь лет, тогда бы пришлось полежать всего неделю. Но теперь уже поздно сожалеть. Когда твою ногу до колена заковывают в гипс, да еще и подвешивают ее, куда ты денешься? Будешь лежать как миленький. Вот я и лежал с подвешенной ногой на узенькой больничной кровати. Не очень-то веселое занятие! А тут еще бородатая медсестра. Подойдет и ворчит: «Надо было хорошо вести себя, тогда не пришлось бы лежать в больнице. Выдумал с ветки на ветку прыгать! Разве ты обезьяна?» Мне кажется, правильно говорят, если у женщины растет борода, она очень злая. У медсестры на подбородке, правда, торчит всего один волосок. Ну и что, что один, все равно ведь это борода. Когда сестра, склонившись над тобой, начинает сердито ворчать, кажется, что этот волосок вот-вот вонзится тебе в глаз. А рассердиться ей ничего не стоит. Лежишь, например, и чувствуешь: то бок зачесался, то спина. Не утерпишь же, если чешется. А она сразу начинает кричать: «Что ты чешешься, словно с собакой спишь!» Или кровать заскрипит, и опять раздается ее голос: «Ты что вертишься, как юла!» А если тебе становится тоскливо и ты вдруг засвистишь, то она и вовсе готова растерзать тебя. Сидит у входа в палату, вяжет что-то, но тут бросит все свои дела и подскочит к тебе: «Ты что, забыл, где находишься? Здесь тебе не баня, чтобы свистеть…» Да ладно, теперь все это позади. Нога давно зажила, и меня выписали из больницы. Я опять могу бегать и прыгать и даже на деревья взбираться. Я бы, наверное, и не вспомнил про больницу, но просто хотел сказать, что можно обойтись без игр. И без еды можно обойтись. Не верите? Однажды к нам в гости приехала моя тетя. Как обычно, она привезла гостинцы. Развязала завязанный в большой узел платок. А там в маленьких узелках и горох, и кишмиш без косточек, и миндаль. Мама только попробовала понемногу от всех гостинцев, а остальное разделила между нами. Старший брат Керве́н тогда еще не был солдатом. Он учился не то в шестом, не то в седьмом классе. И сестра Тазегу́ль тогда еще не была такой взрослой, как сейчас. Только-только начинала косички заплетать. Они торчали в разные стороны, как мышиные хвостики. Теперь совсем другое дело, теперь она взрослая девушка с двумя толстыми косами на груди. При виде гостей смущается, а когда мы с ней одни, важная такая: словно большой начальник. Но тогда и Кервен и Тазегуль были просто школьниками. А я и вовсе был совсем маленьким, ни в каком классе не учился. Увязался было за братом и сестрой в школу, даже старый букварь Тазегуль взял с собой, а учительница погладила меня по голове и сказала: «Приходи в будущем году». Так я и вернулся с букварем домой. Дома скучно, особенно если нету ребят. И я очень обрадовался приезду тети. Только когда мама стала делить гостинцы, мне досталось меньше, чем Кервену и Тазегуль. Может, и не меньше, но мне так показалось. Я обиделся. Кервен и Тазегуль закричали: «На обиженных воду возят!» — и быстренько съели мою долю. А мама, вместо того чтобы отругать их, меня же и упрекнула: — Ах ты, жадина! Вот и сиди без угощения! Я еще больше разобиделся. — Не надо мне никаких гостинцев! — закричал я. — Я совсем не буду есть… И десять дней, и тысячу дней буду ходить голодным… — Ходи, ходи! — засмеялась мама. Я чуть не заплакал, но слово свое сдержал. Только один раз, спрятавшись, выпил воды из кумгана[2], а так в тот день ни крохи во рту не было… Вот видите, оказывается, можно и без еды прожить. А вот попробуйте обойтись без сна. Я, например, не могу. Уж сладок больно сон. И особенно утренний. Просыпаться-то я просыпаюсь, но вставать не хочется. «Еще немножечко посплю. Еще чуть-чуть…» — и лежу в полудреме. Потом приходит мама, и все кончается тем, что она откидывает мое одеяло: «Завтра же перенесу твою кровать на солнечную сторону шалаша, посмотрим тогда, как ты будешь валяться! Солнце припечет, быстро поднимешься!» Но я знаю, что мама только грозит, на самом же деле не сделает этого. Потому что я сплю вовсе и не на кровати, чтобы можно было перетаскивать ее с места на место. Постель у меня знаете какая? Наверное, ни у кого такой нет! Две пустые железные бочки из-под керосина, на которые уложены доски. По углам отец с дедушкой вбили четыре высоких кола, а на них натянули полог. По вечерам, как только комары оживают, я, мама и дедушка забираемся под полог. А иначе эти противные комары не дают даже чаю попить. Одно спасение под пологом. И только когда уже пора спать, мама уходит в шалаш, дедушка забирается на стог сена. Под пологом на своей постели остаюсь я один. Я забыл сказать, что это лето я, мама и дедушка живем не в ауле, а на бахче. Здесь ни улицы нет, ни дома. Только дедушкин шалаш. Да моя постель под пологом. Да тандыр, в котором мама печет чурек. Ну и, конечно, хлев, в котором живут ишак и верблюдица. Еще когда мы собирали вещи, чтобы ехать сюда, дедушка сказал: «На бахче очень хорошо. Проснешься утром и вдруг увидишь серенькую крольчиху. Прибежала прямо к шалашу, сидит и жует цветочки люцерны…» В первое же утро, едва открыв глаза, я сразу же в одних трусах побежал к грядке с люцерной. Люцерна высокая, мне до пояса. Я ползал в ней, искал крольчиху, но ее нигде не было. — Не огорчайся, — стал утешать меня дедушка, — не сегодня, так завтра обязательно увидишь. Может, она окотилась. — А что это значит? — спросил я. Дедушка сказал: — Родила детенышей. Пройдет немного времени, и увидишь ее вместе с маленькими крольчатами. Дедушка много раз видел ее. Уши большие, как у нашего ишака, губа раздвоенная. Прыгает и в люцерне, и в грядках с фасолью и морковкой. А мне вот не везет. Ну хоть бы один разок увидеть ее. Я еще ни разу в жизни не видел диких кроликов. Однажды эта крольчиха даже приснилась мне во сне: будто бы бежит за шалашом, своровав морковку. «Эй, крольчиха, постой! Не убегай, я не трону тебя!» — кричу я. И сам от собственного голоса просыпаюсь. И никакой крольчихи нет. Но сегодня я не побежал ее искать. Сколько же можно без толку ползать по люцерне? Может, она и вовсе никогда больше не появится, эта крольчиха с большими ушами и раздвоенной губой. Убежала и живет со своими крольчатами где-нибудь в другом месте. Я сел на постели и прислушался. Кругом тихо. Знаю, мама сейчас отправилась на грядки с дынями снимать с них плющ. А дедушка погнал пастись верблюдицу. Он каждое утро, пока еще стоит прохлада, некоторое время пасет верблюдицу возле огорода, а потом спутывает ей передние ноги и отпускает в заросли верблюжьей колючки. Я сидел и думал: «Что делать? Чем заняться?» В ауле хорошо! Там ребят много, выбеги на улицу и играй. А здесь надо самому себе придумывать развлечения. Я всего дня три-четыре назад приехал сюда, а уже мне скучно. Всю зиму ждал каникул, хотел поехать к дедушке на бахчу, а теперь вот сижу и думаю, скорее бы начинался учебный год. Если слушать маму, то надо утром, проснувшись, поиграть немного на песочке. А потом умыться, позавтракать ж сидеть в шалаше, не вылезая на солнце. Но разве можно так жить? Не дождешься, пока кончится день. А летние дни особенно длинные. И впереди их знаете сколько? Почти сто! Я сидел и думал об этом и вдруг вспомнил: пока не вернулась мама, надо поскорее сбегать к арыку. Потому что мама не пустит меня туда. Она меня хорошо знает. Когда я иду к арыку, я не скоро возвращаюсь домой. Арык, поросший по краям камышом, не так далеко от нашего шалаша. Я бегом добегаю до него. Здесь достаточно развлечений. Я сажусь на берегу, отламываю куски высохшей под зеленой травкой глины и начинаю бросать их в арык. Они с плеском падают в воду, образуя на ее поверхности круги. А потом, выпуская пузырьки, медленно опускаются на дно. На противоположном берегу квакают пучеглазые лягушки. Каждый раз, когда раздается всплеск воды, они испуганно прыгают в воду. Сначала я боялся, что они утонут, но им в воде не страшно. Они плавают, ныряют. Вроде бы только что были в воде — и опять слышно, на берегу квакают. А те самые или другие — не разберешь. Ру́ки мои все в глине. Я споласкиваю их в арыке, а заодно и лицо. Здесь легко умываться. Никто не пристает к тебе, чтобы ты мыл руки с мылом, чтобы чистил щеткой зубы. Да и вообще на бахче ни к чему щеткой чистить зубы. Целыми днями только и грызешь зеленые дыни, морковь, так что зубы сами по себе очень чистые… Возле арыка можно даже ничем не заниматься. Просто сидеть и смотреть на течение воды и то удовольствие. Посмотришь — вроде бы обыкновенная проточная голубая вода. Но если посмотреть попристальнее, то на поверхности ее увидишь всякую живность. Вот плывет навозный жук. Наверное, упал в воду вместе с навозом. Ему все равно, куда плыть, главное — не упустить свою добычу. Сидит себе на комочке навоза, крепко обхватив его лапками. А вот другой путешественник — совсем маленький жучок. Плывет, уцепившись за соломинку. Наверное, страшно ему. Однажды утром я сидел возле арыка. Вдруг что-то шлепнулось в воду. Посмотрел, а это черепаха. И плывет как-то чудно: брюхом кверху. Когтистые ноги широко разбросаны. Шею вытянула. Обычно глазки ее еле прорезаны, а сейчас они выпучены. И морщинистая морда синяя-синяя. Вначале даже не верится, что это черепаха. Ведь, когда ее видишь в песках, она совсем другая. Карабкается на сыпучие холмы, как маленький танк. Кроме нее, никто так не умеет. Надменная такая. И морды не покажет, даже если захочешь посмотреть. А сейчас она жалкая. «Ах ты, трусиха! Посмотри, лягушка вдвое меньше тебя, а как легко ныряет вниз головой, и то ей ничего. А ты лежишь на спине, даже перевернуться не можешь». Я схватил в руки прутик и, наступая на колючки, побежал вдоль арыка. Дотянулся до черепахи и перевернул ее брюхом вниз. Теперь она сама выберется на берег, если захочет. — Зачем ты вытаскивал эту тварь! — ворчит дедушка, когда я рассказываю ему, как спас черепаху. — Лучше бы они все потонули! Говорит он так потому, что черепахи погрызли всходы дыни. И тогда дедушка, ругаясь, снова посадил на этой грядке, но уже не дыни, а огурцы, причем поздний сорт. «Нет, надо мне покончить с этими дармоедами», — говорит дедушка сердито. Роет большую яму и складывает в нее всех черепах, которые ползают по огороду. А потом ему становится жаль их: «Подохнут с голоду». Он складывает черепах в мешок, уносит подальше от огорода и высыпает. «Пока вы оттуда доберетесь, все дыни вырастут!» — говорит он. Я только было собрался отправиться к арыку. Вдруг угол полога за моей спиной легонько приподнялся. Смотрю, дедушка. Подошел неслышно, кошачьим шагом, стоит и улыбается. — Ого, ты уже проснулся, соня!Белли-уста
Моего дедушку называют в ауле Белли́-уста. Уста — это значит мастер. Я очень часто слышу: «У Белли-уста золотые руки. Он все умеет». Некоторые спрашивают: «Скажи, Базар, кем ты будешь, когда вырастешь? Наверное, таким же мастером, как дедушка?» Однажды я спросил у папы: — Папа, а почему все называют дедушку уста? Он ведь ничего не мастерит! — Дедушка твой замечательный мастер, сынок, — стал расхваливать его отец. — Когда я сам был таким же мальчишкой, как ты, в его кузнице не утихал стук молота. Днем он чинил колхозные бороны, мастерил сохи, шил седла для верблюдов, чинил хомуты. Мастерил колеса для мельниц. Строгал деревянные вилы для ворошения соломы… Точил серпы, делал черенки для лонат, кетмени закалял… — Я впервые слышал названия многих инструментов, которые перечислял мой отец, и не знал, какие они, для чего нужны. А отец продолжал: — Днем дедушка работал в колхозе, а по ночам чинил людям ичи́ги и чары́ки. — А что это такое? — спросил я. — Самодельная обувь, — отвечал отец. Ремесло дедушки показалось мне неинтересным: к чему надо носить залатанные ичиги и чарыки, когда можно пойти в магазин и купить новые башмаки? Впрочем, одно изделие дедушки, очень красивое, я видел. Когда Тазегуль закончила десятый класс, мама подарила ей свой дагда́н — женское украшение. Тазегуль собиралась на школьный вечер, надела новое нарядное платье, прошлась по комнате. И вот тут мама достала из шкатулки украшение и протянула Тазегуль: «На, дочка, носи! Этот дагдан достался мне в наследство от твоей бабушки. А бабушке его собственными руками смастерил твой дедушка». Тазегуль прицепила дагдан к платью. Маленький дагдан из светлого дерева был очень красивым, на нем сверкали красные камни. Дагдан еще бывает из серебра или же каркасового дерева, иногда отделан красными камнями. После этого, когда я видел на платьях девушек украшения, мне казалось, что все они сделаны руками дедушки. «Дедушка, а у кого ты научился все мастерить?» — спросил я как-то. Дедушка с улыбкой посмотрел на меня и сам задал мне вопрос: «Ты скажи мне вначале, у кого ты научился писать?» Я немного растерялся. Писать? Подумаешь, какое дело! Любой мальчишка, любая девчонка умеют писать. Но как бы там ни было, я вспомнил человека, обучившего меня грамоте. Да и как можно такое забыть? Я быстро и уверенно ответил: «Учительница Шекер! А кто же еще!» «Молодчина! Вот видишь, ты научился писать не сам. У тебя была учительница. Никто ничему не учится в чреве матери. У каждого непременно есть свой учитель. А моим учителем был отец! Он тоже был кузнецом. Но отец отца был еще бо́льшим мастером. И слава о нем шла по аулам. Все так и называли его — Белли-уста, что значит «известный мастер». А потом и вовсе забыли имя, которое было ему дано в детстве! А когда я вырос и стал работать, меня тоже стали называть так же. Ну а раз я ношу это имя, значит, и я тоже немножечко мастер…» Дедушка мой одноногий. И поэтому некоторые называли его Белли-одноногий. Я ненавидел этих людей. Ну и что, что он без одной ноги, разве надо за это обзывать его одноногим! Ему ведь тоже это совсем не по душе. Каждое утро он цеплял на обрубок ноги деревянный протез и в двух местах закреплял ремнями. Видя, с каким удивлением мы, ребята, смотрели на него, он спрашивал: «Ну, как, идет?» Куда уж там идти! Как ни аккуратно была вырезана деревянная нога, как ни красивы были желтые ремни, которыми дедушка прикреплял ее, все равно она не шла ему. Ведь живая нога все равно лучше деревянной. Мы молчали. И тогда дедушка говорил бодрым голосом: «Ничего страшного, ребята. Но вы берегите свои ноги. Не дайте их украсть. Мне тоже, по правде говоря, надоела эта деревянная нога. Если нельзя бегать, нельзя перепрыгнуть через арык, залезть на дерево, пронади она пронадом, эта нога! Как только она сломается, я пойду и заберу у фашистов свою настоящую ногу…» Мама как-то рассказывала, что в семье у дедушки долго не было сыновей. Дочка, моя мама, росла, а ее маленькие братишки умирали. И один, и второй. Наконец у дедушки родился третий сын. Из суеверия мальчику не давали имени целый год. Когда же, наконец, маленькому братишке моей мамы исполнился год и он начал ходить и вообще рос крепкий и здоровый, его назвали Дурды, что означает «выжил». Дядю Дурды я видел редко. Он уехал учиться в Ашхабад и приезжал в аул только на каникулы, да и то не всегда. Гораздо чаще я стал видеть его после того, как он окончил институт и приехал работать в аул. Он был юношей с большой копной волос, очень веселый. Вернулся он в аул не один — привез с собой жену. Поселились они недалеко от нас у дедушки и к нам в гости приходили и на праздники, и просто так. Дядя Дурды работал в колхозе агрономом, а его жена — докторшей в нашей больнице. Кто-то сказал, что у жены дяди Дурды длинная шея, как у жирафа. Но я все равно очень любил ее. В глаза ли она закапывает, рану ли перевязывает — все делает не больно. И лекарства дает самые негорькие. И мама ее полюбила, и дедушка. Но вот однажды к нам прибежала соседка и стала потихоньку что-то рассказывать маме. У мамы сразу стало испуганное лицо. Мне было интересно узнать, что сказала маме соседка, но она говорила очень тихо, и я ничего не расслышал. Потом я узнал, что жена дяди Дурды уехала в Ашхабад. А еще через несколько дней я пришел из школы домой и увидел, что мама плачет. Правда, как только я вошел, она быстро вытерла слезы, но глаза у нее были красные. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего… Ничего не случилось, детка. Иди играй», — отвечала мама. Но я ведь не ребенок, понимаю, что, если бы ничего не случилось, она бы не плакала. Тогда я стал приставать с расспросами к Тазегуль. Она тоже сначала не хотела ничего говорить, но потом не выдержала — наверное, ей нравилось, что она большая и все знает. Она напустила на себя важный вид и сказала: «Ты можешь поклясться, что никому не скажешь?» «Ба, да я ведь мужчина!» Тазегуль нахмурилась, и я испугался, что она разозлится и ничего мне не расскажет. Она всегда злится, когда я напоминаю ей, что я не девчонка, а мужчина. Наверное, ей обидно, что она хоть почти взрослая, а все равно девчонка. «Тоже мне еще, мужчина, — проворчала она. — Поклянись, что будешь молчать!» Я согласен был на все. Поклялся, что никому не скажу. И Тазегуль сдержала свое слово. Она наклонилась ко мне и прошептала: «У дяди Дурды жена сбежала!» «Подумаешь, какая важная новость! — чуть было не закричал я. — И это все, что ты хотела мне сказать?» Я думал, она и в самом деле что-нибудь интересное мне скажет. Про жену дяди Дурды я и без нее знал. Вот уже несколько дней все соседки об этом судачили. Уехала, мол, докторша потому, что в ауле негде танцевать и кино всего два раза в неделю привозят. Не то что в городе. Там хоть каждый день ходи в кино. Соседки дружно осуждали жену дяди Дурды, и сам он ходил грустный. Но тут Тазегуль и в самом деле удивила меня: «А о том, что дядя Дурды уехал следом за женой, ты знаешь?» Вот этого я не знал. Эту новость я услышал только что от Тазегуль. «Он поехал, чтобы привезти жену назад, а вместо этого сам остался в городе!» «А тебе откуда известно?» «Дедушка письмо получил. Дядя Дурды написал: «Я вынужден был остаться в Ашхабаде. Пока мы живем у тещи, но вскоре получим квартиру и возьмем тебя в город». Дедушка очень рассердился, — продолжала рассказывать Тазегуль. — Дядя Дурды прислал дедушке деньги, но дедушка не взял их. «На что мне деньги, — сказал он. — Мне не деньги его нужны, мне он сам нужен…» Теперь мне стало понятно, почему плакала мама. Прошло немного времени после отъезда дяди, и папа с мамой уговорили дедушку, чтобы он переехал жить к нам. А его дом закрыли и заколотили досками крест-накрест. Дедушка стал жить у нас. Я был очень рад, потому что люблю дедушку. Я и раньше бегал к нему каждый день. А теперь и бегать не надо, он всегда рядом. Однажды, когда мы с дедушкой были дома одни, я спросил у него: «Деда, а когда теперь дядя Дурды приедет к нам?» Спросить-то спросил, но тут же и пожалел об этом, потому что дедушка прикрикнул на меня: «Нет у тебя дяди Дурды!.. Нет больше у тебя этого дяди!» И он выплеснул из пиалы остатки чая. Мы оба помолчали. Потом ему стало жаль меня, он погладил меня по голове и ласково сказал: «Нельзя называть сыном человека, который оставляет одного своего старого отца. Для меня теперь все равно, есть он или нет его…» Я думал некоторое время. Мне кажется, что здесь дедушка неправ. Во-первых, он не одинок. Есть мы. И особенно мама очень заботится о нем. «Папа, чего тебе недостает?», «Папа, одежда у тебя уже грязная, смени», «Папа, я приготовила лапшу, как раз по твоим зубам…» А если на то пошло, то дядя Дурды прислал ему денег. Написал, как получит квартиру, заберет его к себе. Что же ему еще надо? Живи себе в свое удовольствие в Ашхабаде! Я не смог удержаться, чтобы не сказать этого вслух. «Деда, но ведь в Ашхабаде жить очень хорошо. Поехал бы. Я даже завидую тебе. Каждый день будешь газированную воду с сиропом пить». «Я в ауле родился. И в ауле хочу умереть, детка», — грустно ответил дедушка. Хотя дедушка и не велел, чтобы при пем говорили о дяде Дурды, сам он все время помнил о нем. «Но он тебя хочет забрать к себе», — неуверенно возражала мама. «Разве я вещь, брошенная в старом доме, чтобы меня забирать?» — сердился дедушка, и они замолкали. Каждый день, когда мимо проходил почтальон, дедушка с надеждой смотрел на него. Когда они остаются вдвоем с мамой, то ведут какие-то непонятные разговоры. Они не называют имени, а все равно понятно. Я ведь знаю, что они говорят о дяде и его жене-докторше. Мама говорит: «Она получила городское воспитание, разве же она уживется тут у нас, в ауле?» А дедушка возражает ей: «Ах, дочка, сколько городских девушек прекрасно привыкают к селу». Так дедушка и остался жить у нас. Он старенький, но просыпается раньше всех в доме и ни минуты не сидит на месте без дела. Целыми днями на ногах. Вот и сегодня он уже успел столько дел переделать, поднял меня, чтобы вместе со мною попить чаю: — Сынок, а серая крольчиха и сегодня не показалась! Мне захотелось ответить: «Да пронади она пронадом — эта серая крольчиха! Даже думать о ней не хочу!» Я и без дедушки знаю, что ее не найти. Я молча встал, кое-как умылся и сел пить с дедушкой чай. Хотя мне вовсе не хотелось думать о серой крольчихе, мысли о ней, как назло, лезли в голову. С большой вязанкой плюща за спиной появилась мама. Она остановилась возле топчана, на котором мы с дедушкой сидели, и громко сказала: — О, аллах, наверное, солнце сегодня с другой стороны взойдет! Я понял: это она удивляется, что я не сплю, как обычно, хотя еще раннее утро. Но сделал вид, что не нахожу в этом ничего особенного. Ведь я не маленький ребенок. И дедушка понял меня. — Да ты на ухе слона заснула, Халлы́! — улыбаясь, сказал дедушка смешную поговорку. — Базарджан не только давно встал. Он помог мне во всех делах… И он стал перечислять все, что сделал с самого утра. И хвалил меня, будто бы я в самом деле помогал ему. Конечно, плохо, когда тебя ругают, но когда расхваливают, тоже нехорошо. И особенно неприятно чувствуешь себя, когда тебя хвалят ни за что, приписывая тебе тс заслуги, которых у тебя нет. Я почувствовал, как краска заливает мое лицо. Мама, возможно, и не поверила словам дедушки, но сделала вид, что поверила. — Правильно, сынок, всегда так помогай, ты уже большой мальчик. Потом она сбросила со спины связку трав, вымыла руки, присела возле нас и тоже налила себе чаю. — Когда эти проклятые комары утихнут, папа? И в траве они гудят, и в шалаше их полно. Что-то я не помню, чтобы в дру́гие годы тоже было так много комаров. Дедушка неторопливо отпил чаю. — Ай, пусть не утихают, пусть делают, что хотят. Старые люди говорили: «Если враг мой комар, то оружие — дым», не так ли? И он подмигнул мне. Он всегда так делал, когда у него бывало хорошее настроение. Дедушка шутил, но мама говорила серьезно. — Ты ночью хорошо спал? Дедушка снова ответил в прежнем тоне: — Стоит ли обращать внимание на комариный писк? Ох и крепко же я спал… Дедушка шутил. По ночам он плохо спит, очень много времени проводит возле нашей верблюдицы, и мама это знает. Оказывается, нет животных более нетерпеливых к укусам комаров, чем верблюды. Вроде бы такое ничтожество этот комар, но стоит верблюду заслышать его писк, как он теряет покой. То и дело стукает себя толстыми подошвами по животу. А назавтра бедняга от укусов комаров весь в волдырях. Дедушка не ленился, все эти ранки смазывал черной мазью. — Но ведь у верблюда такая толстая шкура, и как только комарам удается воткнуть в нее свое жало? — удивляюсь я. А дедушка отвечает: — Эх, сынок, и не скажи! Комар пищит: «Я бы и в горб верблюда мог жало вонзить, да только мне щекотно!» У каждого животного свой враг, и каждое по-своему обороняется от него. Что делает наш ишак, когда его кусают комары? — спросил меня дедушка. Я никогда не обращал на это внимания, но теперь подумал и сказал: — Чешется. Дедушка улыбнулся. А потом опять спросил: — А если ишака кусает слепень? Тут уж я знал, что ответить! Почувствовав укус слепня, ишак прямо-таки бесится от страха. Сколько раз бывало: едешь в полдень на водопой. Ишак идет спокойно и весело и вдруг ткнется носом в землю и начинает тереться об нее. А ты, если зазеваешься и вовремя не соскочишь с ишака сам, то полетишь кубарем. И все из-за какого-то несчастного слепня. — А когда корову или теленка кусает овод, то они ведут себя совсем по-другому: носятся из стороны в сторону, размахивают хвостом, отбиваясь от назойливых насекомых, — продолжал дедушка. — А верблюды очень боятся комаров. Наша верблюдица сейчас особенно беспокойна, она ждет потомства. Июльская жара с каждым днем усиливалась. Мы еще и утреннего чая не выпили, а солнце уже палило изо всех сил. Мама, убирая посуду, наказывала мне: — Сынок, ты не снимай с головы тюбетейку. А вообще-то даже лучше было бы, если бы надел на голову что-нибудь меховое. Конечно, не так уж трудно надеть тюбетейку, но я привык ходить босиком и с непокрытой головой. — Зачем мне тюбетейка, мама, когда и без этого жарко, — возразил я. Мама посмотрела мне в глаза. Это было признаком того, что она недовольна. — Словом, что угодно, лишь бы не согласиться с матерью! Разве дедушка когда-нибудь снимает папаху?! Я взглянул на дедушкину папаху только потому, что мама сказала посмотреть, а так я и без нее знал: дедушка никогда не расставался со своей коричневой папахой, которая немного великовата ему. А на плечах носил ватную телогрейку. И папаху и телогрейку снимал, только когда ложился спать, а так не расставался с ними ни летом, ни зимой. Он считал, что летом папаха и телогрейка спасают его от солнечных лучей. А зимой от холода. Мама боится, что я получу солнечный удар. Конечно, это просто так говорится — удар. Разве солнце может ударить! Мама говорит, что может. Я и сам знаю, что такое солнечный удар. Хотя со мной ничего такого не случалось, но я видел тех, с кем это бывало. Голос становится хриплым, вроде как простуженным. А если более сильный удар, то из носа идет кровь. Когда мама сказала: «Вот получишь солнечный удар и опять понадешь в больницу, как тогда со сломанной ногой. Будешь лежать в постели. И знай, мне с моим здоровьем нелегко будет ходить к тебе», я немного испугался. Но все равно продолжал стоять на своем. Мама на этот раз не стала долго препираться со мной, сказала: — Знаешь что, сын дорогой. Если хочешь оставаться здесь, веди себя как следует. А не желаешь слушаться, отправляйся домой, к Тазегуль. Вот приедет вечером отец, я скажу ему, чтобы забрал тебя с собой. Мне словно пощечину влепили. Для меня поехать к Тазегуль было самым большим наказанием… Из-за маминой болезни ежегодно летом наша семья делится на две части. Папа с Кервеном и Тазегуль остаются дома. А дедушка и мама переезжают на бахчу. Дедушка и раньше, на лето переселялся в шалаш, чтобы ухаживать за огородом. Да и для верблюдицы там пастбище лучше, чем в ауле. Но последнее время вместе с дедушкой на бахчу перебиралась и мама. Они жили там в шалаше до самой осени. Конечно, это было неудобно. Но другого выхода не было. Мама болела и считала самым лучшим лекарством от своей болезни зеленые, недозрелые дыни и верблюжий чал — напиток из верблюжьего молока. Пока Кервен был дома, я тоже оставался в ауле и не жалел. Но когда его забрали в армию, мне пришлось остаться вдвоем с Тазегуль. Папа как уедет с утра, так возвращается домой поздно ночью, а то и вовсе в поле останется. Он бригадир овощеводческой бригады. А это очень нелегкая работа. Все лето то одни овощи поспевают, то другие, а то и все вместе. Вот и приходится работать с утра до вечера. Он приходит домой усталый. Надо ему чай подать, обед приготовить. И в доме дел немало — и стирать, и кур накормить. Когда мама с дедушкой переезжали на бахчу, вся домашняя работа ложилась на нас с Тазегуль. Но меня совсем не пугала домашняя работа. Меня больше пугала сама Тазегуль. Не дай бог оставаться с ней. Считай, что ты понал в тюрьму. Играть с мальчишками запрещено. Потому что деремся. Выходить со двора, лазать по деревьям нельзя. Если вдруг упаду и сломаю ногу, видите ли, отвечать должна Тазегуль… Все запрещено, запрещено, запрещено… Телевизор посмотреть и то не всегда можно, а только тогда, когда Тазегуль посчитает передачу подходящей. А если нет, то ты хоть обрыдайся, все равно не включит. Наконец однажды я не выдержал и дернул ее за косу. Она вначале заплакала, а потом отлупила меня. Я бы, конечно, мог дать ей сдачи. Но не драться же с девчонкой, даже такой вредной, как Тазегуль. Все-таки я мужчина. Вот поэтому мне теперь ни за что не хотелось возвращаться к Тазегуль. И зачем я только стал спорить с мамой! Разве трудно было надеть тюбетейку, если мама велит? Здесь, на бахче, скучновато, зато свобода. Делай весь день что хочешь — не то что дома с Тазегуль. Я готов был закричать: «Мамочка, я не то что тюбетейку — папаху согласен носить, только не отправляй меня к Тазегуль!» Но слова замирали на моих губах. Я смотрел на мамино лицо и молчал. Такой уж у меня характер. Дедушка понял, что со мной творится, ему стало жаль меня. Он поднялся и потянул меня за руку. — Ну да ладно. Если тебе не хочется надевать тюбетейку, я смастерю тебе шляпу из бумаги. Пойдем с тобой походим по бахче, дыни проведаем. Мне кажется, что я чую запах желтой дыни…«Вахарманы»-близнецы
Дедушка, прихрамывая, идет к бахче. Я в бумажной шляпе следую за ним. Все-таки дедушку правильно называют «уста» — «мастер». Даже шляпу из газетного листа он смастерил замечательную. Трехугольная, высокая и широкополая, она прикрывает голову от солнца, и солнечные лучи не режут глаз. А главное, все довольны. И сам дедушка, и мама, и, конечно, я. Вот бахча. — Ну, теперь смотри как следует! — говорит дедушка. — Дыни начали зреть. Да и как им не зреть, если солнце палит и влаги достаточно. Лежат, набираются соков. Я это знаю. В жару не очень приятно, но зато на огороде все начинает быстро созревать. Мы остановились на краю первой же борозды. Эту борозду дедушка прозвал «прополотая черепахами». Оба края борозды густо засажены огурцами. На зеленых плетях столько завязей, что пальцем некуда ткнуть. Огурчики лежат, касаясь друг друга. Еще вчера из села приезжали два парня и увезли с собой целый мешок огурцов. Это для всей папиной бригады. В обед, когда жарко в поле, очень даже приятно поесть свежих огурцов. И сами мы их рвали — и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Сорвешь, а назавтра приходишь — огурцов снова полным-полно. И такие красивые, словно бусы нанизаны на плетях. Есть среди них и очень большие — больше ладони, и маленькие, как ручка от серпа. Но и большие и маленькие огурцы очень зеленые и свежие. Когда их ешь, они весело хрустят и во рту становится прохладно. И сегодня я глянул и закричал: — Ого-го, сколько огурцов! Дедушка поправил меня: — Сынок, надо говорить: «Не сглазить бы!..» Я это не впервые слышу от дедушки. И раньше много раз слышал. Не любит он, когда громко восхищаешься или удивляешься. И особенно не любит возглас «Ого!». «Что это еще за «ого»? Больше никогда так не говори, обязательно говори: «Не сглазить бы». Но сколько бы он ни предупреждал, я все равно очень быстро забываю. Дедушке кажется, что это выражение — «не сглазить бы» — оберегает огород от дурного глаза. А еще он от сглазу поставил на огороде чучело. Страшное такое! Стоит посреди бахчи, среди дынь. Я видел, как дедушка его делал. Воткнул в землю длинную палку, а наверх намотал тряпок и соорудил голову. А другую палку прикрепил поперек первой и надел на нее старый пиджак. На голову нацепил драную облезлую шапку. Если смотреть издалека, очень похоже на человека. Ночью глянешь — и даже жутко становится. Я думал, что дедушка поставил его, чтобы отпугивать волков и шакалов. — Теперь они и близко к огороду не подойдут! — обрадовался я. Хоть я и не трус, а все-таки становится не по себе, когда представишь, что где-то совсем рядом рыскают волки или шакалы. Особенно если ты спишь ночью один под пологом. Но я напрасно обрадовался. Когда я сказал про волков и шакалов, дедушка помолчал, потом сказал: — Волков и шакалов этим не отвадишь. А вот от некоторых дурных глаз… Бывают такие люди с дурным глазом. Стоит им посмотреть на что-то, как все кончено. Огород начинает сохнуть. Я не верил в дурные глаза. Папа тоже говорил, что сохнет огород по какой-нибудь другой причине. Но с дедушкой он не спорит. И я тоже не стал спорить. Неловко обижать дедушку. Он такой добрый. Всегда старается сделать что-нибудь хорошее. Вот и сегодня он сразу догадался, что мне очень не хочется ехать домой к Тазегуль, и заступился за меня перед мамой. Нет, он ей ничего не стал говорить, просто сделал мне эту бумажную треуголку. Конечно, я в два счета мог доказать ему, что на огороде все хорошо созревает не из-за чучела, оберегающего посевы от дурного глаза, а оттого, что в этом году много влаги и солнца. Так говорил папа. У них в поле нету никаких чучел, а урожай вон какой! Но зачем спорить с дедушкой? Если ему так кажется — пусть. А чучело на огороде никому не мешает. Даже веселей с ним. Особенно если поднимается ветерок и оно начинает размахивать пустыми рукавами. Я сажусь и смотрю на него, и мне становится смешно. А еще я думаю, что волки и шакалы все-таки побаиваются дедушкиного огородного человека. Откуда им знать, что он не живой? Ведь птицы боятся его. Дедушка наклонился над грядкой, взял левой рукой большие огурцы и поправил их. Увидев, что некоторые из них уже начали желтеть, покачал головой. Я понимаю, ему жаль эти огурцы. Переживает, что могут попортиться. Потому что каждый раз, когда приезжает папа, он ему все уши прожужжит: «Не сглазить, вон какой огурцы в этом году хороший урожай дали. Ты среди людей находишься. Если кто-то скажет, что нужны огурцы, посылай сюда. Некоторые в город, на базар, ездят за огурцами. А нам за них ни копейки не надо, лишь бы поблагодарили. И кто той устраивать собирается, посылай, и кто поминки устраивает, и кто солить хочет, пусть к нам идут. Если они неделю пролежат, у них уже семя твердым станет. Кому они нужны такие? Разве что скоту скормить…» Он и сейчас, наверное, искал какой-то выход. Долго стоял молча, раздумывая о чем-то. Наконец осторожно поставил деревянную ногу в борозду с дынями и перешагнул. Потом еще через пару грядок перешагнул и перебрался к дыням. Хоть они и не лежали, касаясь друг друга, как огурцы, но все равно их было очень много. Словно посыпанные мукой «чалме́ски», длинные «паянде́ки», «китайские дыни» с замысловатыми рисунками на кожуре. Однако ни одна из них не привлекла внимания дедушки. Не заинтересовали его и только пошедшие в рост «акшекереки», начавшие покрываться сеткой «гекторлы», «гуляби». Он приподнял свой горбатый нос и принюхался: — А ну, как ты считаешь, сынок, тут чем-то пахнет? Честно говоря, я и забыл, для чего мы пришли сюда. Думал я про чучело и про волков и шакалов. И про дедушкину бумажную треуголку, которая так ловко сидела на моей голове, прикрывая ее от солнца, и о маме думал. Совсем ли она простила меня. Вот сколько мыслей одолевало! А дедушке и невдомек. Он только и думал про желтую дыню, надеялся найти ее. Для него сейчас нет большего наслаждения. Ворчит себе под нос: — Не знаю, где она, но должна быть где-то поблизости… Он и найти не может, и успокоиться не может. Ходит, ходит, потом снова на прежнее место возвращается. Он и всегда-то очень любил желтые дыни. Одна большая комната в дедушкином доме увешана рядами желтых дынь. Они очень шли к красному ковру. Войдешь в дом, и запах ударит в нос. «Запах желтой дыни целебен. Тараканы, унюхав его, удирают подальше. А комаров и в помине не бывает, — расхваливает дедушка. — Если в доме лежат желтые дыни, то и спать будешь спокойно. Утром про-спеться, и такое ощущение, что ночью ты совершил прогулку среди роз. Голова легкая-легкая…» Дедушка, вероятно, и сейчас ощущал этот волшебный запах. Но ему не по себе оттого, что он не может отыскать дыню. — В твои годы я мог найти желтую дыню, даже если она была спрятана под большим стогом сена, — проговорил он. — Глаза у тебя острые, поищи, сынок, не стой, раскрыв рот… Чтобы не обидеть дедушку, я сделал вид, что ищу дыни, наклонялся к грядкам. Да где уж там желтые дыни! Ничего нет, кроме больших и маленьких зеленых недозрелых дынь. Потом я тоже стал, как дедушка, принюхиваться. Мне казалось, вроде бы я ощущаю какой-то запах, а вроде бы и нет. А потом, даже если и есть какой-то запах, откуда мне знать, желтая это дыня пахнет или еще какая. Может, это так пахнет дыня, поеденная мышью. Когда у дыни только-только начинают твердеть семечки, мыши разгрызают даже большие дыни, чтобы добраться до семечек. И потом эти дыни гнили и начинали пахнуть прелью. Мне почудилось, что я чувствую такой запах. — Деда, а может, это пахнет прелой дыней? — Нет, это должна быть только желтая дыня. — Дедушка заявил это очень уверенно. — Причем где-то неподалеку, в одной из этих двух грядок. Теперь он уже водит носом не поверху, а внизу. Поскольку он не доверяет своим глазам, то сует руки под плети, проверяет. Ищет прямо у меня под ногами. Я же уже почти потерял веру в то, что мы можем найти желтую дыню. Напротив, мне казалось, что, если бы мы с дедушкой приложили столько стараний, уже давно нашли бы серую крольчиху. Я хотел сказать об этом дедушке, но именно в эту минуту… Нет, вы только представьте себе! Под руками у дедушки что-то блеснуло, похожее на гуляка́ — женское украшение. Я и сам не заметил, как прыгнул: — Вот дыня! — Я же говорю, что она должна быть где-то здесь. А пу, где?! Я руками отодвинул лепестки и показал на желтую дыню, выглядывавшую из-под стеблей. Дедушка опустился на корточки рядом со мной: — Биссимилла́! — воскликнул он. Он взялся за стебель, но по сорвал дыню. Я думал, что дедушка позовет меня и скажет, чтобы сорвал дыню я. Но и этого не сделал. С улыбкой покачал головой и наконец сказал: — Базарджан, сынок, да тут же двойня! Я не понял: — Какая двойня? Дедушка, продолжая держать дыни за стебель, велел: — Беги, сыпок, позови маму. Скажи ей, что мы нашли желтый «вахарма́н», и не простой — близнецов. Я в ту же минуту забыл о своей ссоре с мамой. В два прыжка оказался у шалаша и задыхающимся голосом закричал: — Мама, пошли, мы нашли две желтые дыни… Близнецов! Когда мама подошла к грядке, дедушка раскрыл спрятавшиеся дыни. Две желтые дыни лежали, прижавшись друг к другу. И по размерам они одинаковые, и по красоте. Я стал ощущать запах дынь только после того, как увидел их. — Рви, Халлы, рви. Это дыни, освященные пророком. Рви со стеблями, чтобы они подольше пролежали! Я даже обиделся немного на дедушку. Рядом с ним стою я. Первым желтую дыню увидел я. Почему же он не разрешил мне сорвать ее? И сам не сорвал, а позвал маму и велел ей сорвать дыни? Потом я узнал. Оказывается, есть такая примета: если женщина срывает первый двойной овощ или фрукт, то у нее непременно должна родиться двойня, сыновья-близнецы или две девочки. — Теперь вполне возможно, что у тебя появятся два братика-близнеца, — с улыбкой на лице пошутила мама. — Или же тебе больше по душе, если у тебя две сестренки появятся? Я не знал, что ответить на это. У меня ведь есть и брат и сестра. И я привык, что они у меня есть. Кервена я очень люблю, и теперь, когда он служит в армии, я с нетерпением жду его писем. Что же касается Тазегуль… хоть мы с ней и ссоримся, но все равно хорошо, что у меня есть сестра. А вот новые братишки или сестренки… Я и сам не знаю, что лучше. Я ведь не задумывался над этим. Мама сорвала дыни так, как велел дедушка, со стеблем. Потом осторожно подсунула под них руки и выпрямилась, подняв на руках две холодные дыни. Желтые дыни особенно хорошо смотрелись в руках у мамы. Не хотелось отрывать от них взгляда. Желтая полоса на стареньком мамином платье из красного шелка и желтизна дынь одинаково отливали на солнце. А белый сетчатый рисунок на дынях, казалось, был вышит теми женитками, что и рисунок на вороте маминого платья. «А может, Тазегуль, которая вышивала платье для мамы, срисовывала вышивку с дыни?» — подумал я. Я подошел к маме и еще раз понюхал дыни. Теперь я особенно чувствовал их пьянящий запах, настоящий запах дынь. Мама поднесла дыни к лицу, потом обратилась к дедушке: — Пусть урожай будет хорошим, папа! — Спасибо, дочка, пусть будет по-твоему! Мама шла с двумя дынями под мышками. Сейчас она напоминала женщину с двумя младенцами на руках. Видно, и дедушка подумал об этом же, потому что долго смотрел вслед маме с улыбкой, потом, припадая на деревянную ногу, следом за мамой вышел из борозды: — Даст бог, в этом году мы дынь насушим побольше… «Вахарма́н» — самая красивая из дынь. Самая сладкая, самая нежная, как говорит дедушка — королева дынь. Когда вахарман созревает, ее и срывать одно удовольствие. Резать эту дыню тоже интересно. Важно выбрать такой момент, когда дыня созрела окончательно. Тогда только дотронешься до нее лезвием ножа, как она сама треснет, и брызнет сладкий липкий сок. Не знаю, правда это или нет, рассказывают такую историю: давным-давно один человек похвалился, что разрежет эту дыню так, что никто не услышит треска. И перевел целую кучу дынь. Возможно, что и название «вахарман» возникло после этого: оно значит: «Ах, как жаль!» — «Вах, арман!» Ночами, если не спишь, можно услышать, как звучно трескаются на грядке созревшие «вахарманы». Утром посмотришь, а вся грядка полна разбитых дынь. А самые лучшие из них поел забравшийся в огород шакал. Утренняя находка подняла настроение у всех нас. У туркмен двойня всегда очень ценится. А у нас дома особенно. Мама говорит, что нам эта любовь досталась от покойной бабушки. Пусть то будет двойное яблоко, или кукуруза, или же тыква, мама подвешивает их за стебель, и они висят до тех пор, пока не сморщатся и не пожелтеют. А если рождаются ягнята или козлята-близнецы, им предоставляется полная воля. Они бродят себе по огороду, и даже в дом беспрепятственно входят, никто их не прогоняет.Бушлук
Иаша бахча расположена в низине между двумя высокими барханами. Один край низины ровный, гладкий, хоть в альчики играй. Жаль только, что играть здесь не с кем. То ли дело в ауле! Может, вы не знаете, как играть в альчики? Альчики — это гладкие, будто отполированные, кости. У нас в них играют все мальчишки. По весне в низине собирается много воды. Дедушка долго трудился, чтобы согнать эту воду в борозды. Борозды были глубокие, мне по пояс. Дедушка несколько раз заливал их водой. Вода постоит немного и уходит в землю, а дедушка снова берется за дело. Другая сторона низины песчаная. И наш шалаш тоже стоит на краю песков. Папа с дедушкой покрыли его ветками и травой, чтобы туда не проникало солнце. А вот ветерок продувает сквозь щели, и поэтому, даже если снаружи стоит жара, в шалаше довольно прохладно. В начале весны эти места становятся особенно красивыми. Пологие склоны барханов сплошь порастают зеленой травой. Потом среди этой травы начинают появляться первые полевые цветы. И кажется, что на зеленом ковре возникли разноцветные рисунки. Вскоре расцветают маки, тюльпаны. Но и траве и цветам нужны дожди. Если дожди идут, трава быстро идет в рост, кусты становятся пышными, дикий лук пускает стрелы. Но стоит какую-нибудь неделю не пойти дождям, как все тут же желтеет, выгорает и чахнет. Вот какие места вокруг пашей бахчи. Говорят, что в засушливый год особенно буйно разрастается верблюжья колючка. В этом году вокруг полно колючки. Я стал вспоминать и вспомнил: действительно, в прошлую зиму ни разу не выпал снег. Даже в Новый год не было снега. Правда, в начале весны пошли дожди. Но шли они раза три или четыре. Сухая земля тотчас же внитала в себя всю влагу. Большинство трав пересохло на корню. И теперь вокруг не видать никакой другой растительности, кроме верблюжьей колючки. Я спросил у дедушки, почему, когда все сохнет, верблюжья колючка продолжает расти. — Она очень глубоко пускает корни и таким образом достает влагу, — ответил дедушка. Дедушка все знает и про растения, которые растут вокруг, и про животных, которые живут в наших краях. Он стал рассказывать: в засушливый год даже животные пустыни стараются расположиться поближе к бахче. Склон бархана сплошь изрыт норами. Я подумал, может, и серая крольчиха скрывается где-нибудь здесь. А я-то зря ищу её на бахче. «Ну, погоди! — подумал я. — Сегодня я тебя отыщу, даже если ты провалилась сквозь землю. Я тебя и из-под земли вытащу за твои длинные уши». Я совсем расхрабрился. На меня напала какая-то веселая злость. «Даже если ты забралась на небо, — думал я про серую крольчиху, — я стащу тебя оттуда за твой короткий хвост. И сегодня же!» Вот такую задачу поставил я перед собой. И поэтому, как только дедушка, сев на своего серого ишака, куда-то уехал, я, несмотря на полдневную жару, схватил в руки лонату и так, чтобы не видела мама, пошел к бархану. Вблизи пустыня вовсе не такая, чем когда смотришь на нее издали. Склон бархана усеян разной живностью. Все двигается, куда-то стремится. Я стал карабкаться по склону бархана. Остановился, присмотрелся. Ого-го! У каждого своя нора, свой дом. Свое продовольствие собрано. Я уж и не говорю о муравейниках, о которые даже верблюды спотыкаются. Я говорю о больших норах. У отверстий некоторых из них валяется кожура от разгрызенных семечек, возле других распотрошенные хлопковые коробочки, сухая трава, мусор всякий, ветошь… «У животных ума нет, у них только привычки», — говорят. А мне кажется, что и ум у них есть. Может, не так и много, но есть. Иначе откуда им знать, что надо запасать продовольствие, которого не будет зимой? Взять, к примеру, серую крольчиху. Почему-то она не вырыла свою нору возле грядки с дынями. И вблизи от шалаша не вырыла. Решила быть подальше от людских глаз. С раздвоенной губой, лопоухая! Ну и прячься, если хочешь. Посмотрим, далеко ли ты ушла! Я возмущался, словно крольчиха обидела меня тем, что все время пряталась. Вдруг я споткнулся о большую пору, чуть ногу не подвернул. «Ага, это и есть твоя нора!» — решил я. Спрашивается, откуда я мог узнать, что именно в этой норе живет крольчиха? Ведь сотни других пор похожи на эту. Но мне почему-то казалось, что скрывается она здесь. Я поплевал на руки и принялся раскапывать нору. Как я ни старался, дело не очень-то двигалось. Но все равно я продолжал рыть, работал лонатой с особым рвением, потому что верил: вот сейчас наконец доберусь до серой крольчихи, увижу ее, кормящую своих малых детенышей. Я рыл, рыл, а нора все убегала от меня, сворачивала, извиваясь, то в одну, то в другую сторону. Мне казалось, что это крольчиха убегает от меня по изгибам своей норы. «Ну и убегай! Я тоже настойчив! Все равно я настигну тебя! Сложу в подол рубахи твоих крольчат, похожих на серых котят, и унесу их с собой. Посмотрим, не прибежишь ли ты следом за мной, блея». Я задумался. Потому что не знал, блеют ли крольчихи или же издают какой другой звук. Но как бы там ни было, не немые же они. Во всяком случае, если у крольчихи забрать крольчат, она молчать не будет. Вот тут-то и услышу ее голос. «Глупая! Не обижу я твоих детенышей! Я даже не потащу их насильно. Поманю, и они сами побегут за мной». Мне представилась такая картина: я шагаю с лонатой в руках, а следом за мной семенят крольчата. И первой нас увидит мама: «Ой, Базарджан, когда это ты отыскал их?» — закричит она. Дедушка тоже удивится и похвалит меня: «Молодец, сынок!» Я вытер со лба пот, распрямился и почувствовал, как щиплет ладони моих рук. Оказывается, от лонаты на руках моих вздулись волдыри. Да и руки словно онемели. Словом, я здорово устал. Я опустился на корточки, посмотрел, сколько я вырыл. Оказывается, я прорыл довольно большой участок. Вырытая мною траншея извивается, словно овраг. Рубаха взмокла от пота, во рту пересохло. «Эх, сейчас бы красный холодный арбуз съесть!» У меня потекли слюнки, я посмотрел вдаль. Там серело поле, засеянное кунжутом. Я знал, что там есть арбузы. Но что толку от арбузов, если они еще не созрели. Пару дней назад дедушка не выдержал моих просьб и повел меня туда. «Выбирай любой из них, и я тебе сорву!» Я схватил самый большой. Это был черный арбуз, выделявшийся среди всех других. «Давай, дедушка, вот этот!» — закричал я. Дедушка погладил арбуз и покачал головой. «Да он же совсем незрелый. Видишь, у него и кожура-то еще не стала гладкой». Я недовольно подумал про себя: «А что мне кожура, я, что ли, кожуру буду есть? Лишь бы он был внутри красный». Дедушка погладил другой, полосатый арбуз, пожал его, приложился к нему ухом и послушал. И тот не стал срывать. «Не трещит, значит, не созрел». Потом постучал еще по нескольким арбузам. Среди них были и полосатые, и черные, и белые. Но их дедушка оставил, сказав, что они не дозрели. Наконец дедушка склонился над длинным белым арбузом: «А ну, сорви этот. Вообще-то вряд ли…» Я быстренько сорвал арбуз, пока дедушка не раздумал, и положил его на сухую чистую траву. Дедушка вынул из-за пояса нож с белой ручкой, который когда-то сам смастерил, и разрезал арбуз на две части. И не ошибся. У арбуза семечки только-только начали чернеть. И сам он был чуть розовый. И все же я схватил большой ломоть арбуза, мякоть оказалась жесткой. Откусил — будто мыло ем. Есть такой арбуз не захотелось. Я нахмурился. Дедушка упрекнул меня: «Ты же очень хотел арбуз, ешь теперь!» Сунул нож в ножны и велел: «Возьми и отнеси домой, вечером ишаку скормим…» Теперь я долго сидел возле разрытой норы, вспоминая все это. Жажда вроде отступила, мне стало полегче. Потом я приложил ухо к норе и прислушался. Мне показалось, что я слышу какое-то шипение. Я не знал, умеют ли кролики шипеть. Мне казалось, что нет. Но потом я вспомнил, что кошки хотя и мяукают, но шипеть тоже могут, особенно если разозлятся. Я подумал, что крольчиха, наверное, здорово разозлилась. Кому понравится, если раскапываешь его дом? А еще я подумал, она где-то совсем близко. Тогда я снял рубаху и стал конать с новыми силами. Вначале вроде бы мне было приятно работать без рубахи, и лоната не казалась такой уж тяжелой. Но прошло немного времени, и у меня начала гореть спина. Я быстренько надел рубаху. Я знал, что шутки с солнцем плохи. В ауле я иногда отправлялся с мальчишками купаться к арыку. Мы целыми днями загорали на солнце. И на другой день кожа слезала лохмотьями. Мама всегда ругала меня за это и дня три-четыре не выпускала из дому. Потом тело обрастает новой кожей, но вид у нее в первое время непривлекательный. Себя я, правда, не видел, зато другие мальчишки выглядели очень смешно, какие-то пятнистые. Я почувствовал, что начал уставать. Но тем не менее не собирался бросать свое дело на полпути. Я хотел доконать до конца норы. Я ведь мужчина, значит, должен уметь держать свое слово. Но тут случилось непредвиденное: нора, которую я разрывал, вдруг разделилась на три канала. Я стоял, опершись на лонату, и размышлял, что же теперь делать. В таких случаях всегда легко бывает в сказках. Идет по дороге бедняк в поисках счастья. И вдруг дорога разветвляется на три тропинки. Бедняк стоит и раздумывает, по какой из них идти. И именно в эту минуту откуда-нибудь появляется старая колдунья. «Если пойдешь направо, понадешь в дом белого дива, пойдешь по левой, к черному диву придешь. Пойдешь прямо, найдешь то, что ищешь», — скажет она и скроется из виду. Но сколько я ни оглядывался по сторонам, не увидел никого, кто мог бы подсказать мне верный путь. Но как бы там ни было, я тоже решил конать средний канал, как в сказках. «Интересно, почему крольчиха вырыла себе такую нору? Сначала длинный коридор, а потом от него как бы три отдельные комнаты. Может, каждому крольчонку по комнате и себе одну? Но неужели у крольчихи всего два детеныша? Наша кошка меньше, и то она в сарае за одну ночь сразу шесть котят выродила…» Я стал с ожесточением рыть дальше. И вдруг из-за зарослей тамариска, которые были выше человеческого роста, показалась темная тень. Я приставил ладонь козырьком к глазам, посмотрел в ту сторону и увидел дедушку. На своем ишаке он ехал прямо ко мне. — Вон, оказывается, ты где, разбойник! Я не ответил дедушке, словно он был виноват в том, что я не могу отыскать крольчиху. Сделав вид, что не замечаю его, продолжал рыть пору. Но дедушка не обратил внимания на мой хмурый вид. Напротив, он улыбался. Он радовался и улыбался и тогда, когда мы нашли желтые дыни. Но все равно на лице его можно было прочитать затаенную грусть. Сейчас же он так и сиял. Он посмотрел на результаты моего труда и вдруг весело рассмеялся.
— Уж не клад ли ты надеешься найти, сынок? Это еще больше задело меня. «Дедушка издевается надо мной», — обиделся я. Хоть я и не добрался до крольчихи, но я не такой глупый, чтобы искать клад на склоне бархана. Уж если бы я собирался искать клад, то пошел бы в старую крепость. Разве мало слухов ходило о кладах, зарытых на холме, где были расположены развалины древней крепости. Говорили, что там припрятаны кувшины с золотом и старинными монетами и драгоценности. Находились и охотники их отыскать. Рылись в этих местах в надежде найти клад. Но ничего не находили, только старинные памятники портили. Нам даже в школе учительница Шекер об этом рассказывала. А еще она говорила, что памятники старины надо беречь. Они даже государством охраняются. Мне не понравилось, что дедушка причислил меня к каким-то кладоискателям. Он, конечно, шутил, но мне все равно было обидно. Наконец дедушка сказал серьезно: — Ты еще долго будешь конать? Может быть, пора прекращать? Посмотри на солнце! — Весь день буду конать, до самого вечера. И чай не буду пить, и обедать не стану!.. Обида и досада прорвались во мне. Но дедушка сделал вид, что не заметил этого. Он сказал примирительным тоном, словно сожалея о сказанном: — Ну, смотри сам. Хочешь, работай… Он прутиком тихонько ударил по шее задремавшего ишака и поехал дальше. Но почему-то ишак шел нехотя. Сделав несколько шагов, он снова остановился. — Смотри, потом не обижайся, — повернулся в мою сторону дедушка, — я хотел тебе одну радостную весть сообщить… Дедушка никогда не бросал слов на ветер. Раз он так говорит, значит, и в самом деле знает что-нибудь интересное. Меня стало разбирать любопытство. Я схватил лонату и догнал дедушку. — Что ты хотел сообщить мне? — К нам едет гость. Причем очень высокий гость… Сразу же мне в голову пришла такая мысль: «Наверно, возвращается дядя Дурды. Безусловно это он. Поэтому у дедушки такое радостное лицо. Вон он как улыбается. С тех пор как уехал дядя Дурды, дедушка никогда не был таким радостным. Губами улыбался, а лицо все равно было грустным». Я обрадованно закричал: — Дядя Дурды приезжает, да?.. Дедушка молчал. Он не ответил даже после того, как я, прихватив лонату, уселся сзади него на ишака. Я был не рад, что спросил о дяде Дурды. Еще когда дядя уехал в Ашхабад, дедушка сказал маме: «Не называй при мне его имени!» Правда, сейчас дедушка в ответ на мой вопрос ничего такого не произнес, но и про гостя не стал больше ничего говорить. «Ладно, потом скажет», — решил я и больше не стал ничего расспрашивать. Так мы и ехали молча. И только когда мы подъезжали к бахче, дедушка произнес: — У наших отцов и дедов есть прекрасная пословица: «Если Магомед не идет к горе, то гора сама идет к Магомеду». Ничего, вот встретим высокого гостя. И если тогда твой дядя Дурды не приедет, мы сами поедем к нему, вдвоем с тобой. Я очень обрадовался, хотя и не понял, про какого высокого гостя говорит дедушка. — Правда?! — воскликнул я, обнимая дедушку за плечи. Я был рад, что он уже не так сильно сердится на дядю Дурды. — Если приедет, можем и маму твою прихватить с собой, — опять проговорил дедушка. Слез с ишака, потом осторожно вынул из внутреннего кармана какой-то конверт и вытащил из него фотографию совсем маленького ребенка: — А это твой двоюродный братик! Беги, поздравь маму! Только теперь мне стало ясно, куда утром отправился дедушка на своем ишаке. Конечно же, в аул на почту. Я спрыгнул с ишака и, размахивая фотографией, помчался к нашему шалашу. — Мама, у дяди Дурды родился сын, бушлу́к! — закричал я. Может быть, вы не знаете, слово «бушлук» у туркмен означает «радостная весть». Мама, услышав мой голос, выскочила из шалаша. На лице ее появились слезы. Все-таки женщин не поймешь. Огорчаются — плачут. Радуются — все равно плачут.
«Высокий» гость
Вот, оказывается, какие события бывают в мире. Пропавшая, словно сквозь землю провалившаяся крольчиха… Находка «вахармапов»-близнецов… Рождение двоюродного брата и замысел дедушки поехать в Ашхабад… Обо всем этом можно думать бесконечно. Забудешь об одном, другое не дает покоя. Вчера еще я сетовал на упрямство серой крольчихи, а вечером, ложась, поклялся: «Теперь я не стану искать тебя, даже если ты сама того пожелаешь!» И снова я не сдержал слова. С утра вместе с дедушкой уже вон сколько мест облазал в ее поисках. Потому что и дедушке стало меня жаль. — Куда же она запропастилась? — бормотал он. — Вообще-то кролики любят по ночам на песчаной дороге играть. — И он повел меня с собой ранним утром, еще до восхода солнца. На серой пыльной дороге дедушка показал мне след, оставленный проползшей змеей. Проскользнула ящерица. Ползли куда-то три черепахи, касаясь друг друга панцирями. Находили мы следы и других животных. Дедушка сразу распознавал, кто прошел, проскакал или прополз. И только следов крольчихи мы не обнаружили. Мы обошли и песчаную дорогу и фасолевую грядку, и грядку с морковью — нигде никаких следов. Даже мама, которая всегда говорит: «Не нужны нам никакие кролики, они подконают наш шалаш. Если вы найдете эту крольчиху, я прогоню ее», — даже мама и та сейчас уже была бы не прочь, чтобы крольчиха отыскалась. — Не переживай. Все равно откуда-нибудь она появится, — стала она меня успокаивать. Весть о рождении племянника за один день преобразила маму. Она так радовалась, так радовалась. Чуть ли не на крыльях летала. Только и видишь фотографию сына дяди Дурды у нее в руках. И говорит только о дяде Дурды. Со вчерашнего дня они с дедушкой столько приятных разговоров вели, улыбались. Сколько они мечтали, сколько строили планов. Мне даже показалось, что дедушка перестал хромать, а мамины болезни отступили от нее. И ласковой она стала. И я радовался. Весело было смотреть на маму и дедушку. А еще я мечтал о поездке в Ашхабад. Вот Тазегуль будет завидовать! Мне даже стало ее немного жаль. Вообще-то она командует, когда я остаюсь с ней без мамы, хочет показать, что она взрослая. А так она бывает неплохая. За всеми этими делами и разговорами я даже позабыл про гостя, о котором говорил дедушка. Верней, я думал, что дедушка надеется на приезд дяди Дурды, только не понял, почему он его назвал высоким гостем. А может, он так сказал про маленького двоюродного брата. Для меня он двоюродный брат, а для дедушки внук. Но оказалось, что дедушка говорил не про своего сына и не про своего внука. Вечером мама вдруг сказала: — Ой, Базарджан! От счастья, что у меня родился племянник, я позабыла сказать тебе еще об одной радости. К нам приезжает гость из далеких краев. Дорогой гость, особенный. Я задумался. Дедушка говорит «высокий» гость, мама — «особенный». Видно, и в самом деле это какой-то необыкновенный гость, да еще из дальних краев. Я забросал маму вопросами — кто приезжает, когда и на чем. Но маме некогда было со мной разговаривать. — Потом узнаешь, — отмахнулась она от моих вопросов и пошла по своим делам. Странные люди взрослые. Им все обязательно надо знать — и что было в школе, и что ты делал на улице. В доме, мол, не должно быть тайн, от отца и матери ничего нельзя скрывать. А сами… То им некогда разговаривать, то тебе не обязательно знать. Я еле дождался дедушки, который погнал пастись верблюдицу, и набросился на него с теми же вопросами. Дедушка не отвечал, только загадочно улыбался. — Если до слуха Базара что-то дошло, то он никого не оставит в покое, — сказала мама дедушке. Но дедушка и тут ничего не ответил, только продолжал ул ыбаться. «Может, никто и не приедет», — подумал я. Лёг на свою постель под пологом и провалился в сон. Но уже на другой день стало ясно, что гость приедет. Дедушка поручил мне пасти верблюдицу, а сам с утра пораньше оседлал ишака и отправился на пастбище, чтобы привезти оттуда барана для торжества. Иногда случаются неожиданные события. Ты, например, желаешь чего-то, тебе хочется делать какое-то дело. Умоляешь, просишь, по тебе не позволяют. И вдруг ни с того ни с сего тебе предлагают то, о чем ты давно мечтал. Вот и сегодня так же получилось: я давно мечтал попасти верблюдицу. Сколько раз просил дедушку позволить мне это. Говорил, что я могу пасти, а он пусть дома сидит, отдыхает. Однако ни он, ни мама никак не соглашались. «Один ты можешь испугаться в пустыне. Подрасти еще немножко». А сегодня они с двух сторон начали расхваливать меня: «Молодец, вон уже каким большим мальчиком стал. Теперь ты должен сам делать работу, которую выполняет дедушка. Бери верблюдицу и паси ее». Пасти верблюдицу не так уж и трудно. Напротив, это удовольствие. Сколько раз я видел, как это делает дедушка. Пригонит ее на полянку, поросшую колючкой, стреножит и пустит. Пасись где хочешь. Стреноженная, она далеко все равно не уйдет. Но одно дело смотреть, как все делает дедушка, и совсем другое — когда это поручено тебе самому. Я был очень рад и горд. Еще бы! Я даже знал, какая колючка нашей верблюдице больше по душе. Я решил пасти ее не там, где обычно пасет дедушка, а погнал туда, где колючка была более разросшейся, высокой, с меня ростом. И макушки кустов усыпаны красными зернышками. Однако все оказалось не так-то просто. Верблюдица без конца обрывала путы и все стремилась туда, где ее обычно пас дедушка. Потом я узнал, что верблюдицы не любят заколосившуюся колючку, а любят зеленую, сочную. Маленькие кустики верблюд захватывает своими отвислыми губами и, словно пилой, перепиливает. А потом поднимает вверх свою длинную кривую шею и с удовольствием жует горькую колючку. Даже удивительно, что ее острые иголки не вонзаются ему в язык. Правда, он и лебеду ест. Но больше всего любит колючку. И поэтому дедушка там, где пасет верблюдицу, кетменем срубает кусты колючки и складывает их в стог. А потом, когда кусты высыхают, грузит их на верблюдицу и перевозит домой в аул. Складывает возле хлева. И всю зиму верблюдица только и делала, что ела эту колючку. Верблюдицы едят ее и сухой, и смоченной дождем. Я помучился с упрямой верблюдицей на новом месте, а потом перегнал ее туда, где она обычно паслась. Снял с ее шеи веревку, спутал ей передние ноги и пустил в заросли колючки. А сам я взобрался на забор. Этим забором когда-то была огорожена площадка, на которой сушили хлопок. Здесь я и уселся, свесив ноги. Было еще прохладно. Я сидел и наблюдал за дорогой, которая проходила позади забора. Дорога была пустынная. Только вдали возвышалась полуразрушенная ограда старинной крепости. Мне стало грустно. «Хорошо бы, — думал я, — кто-нибудь проехал». Я уже почти неделю находился в песках. Не так-то и легко прожить целую педелю, не видя ребят. И вдруг до моего слуха донеслась песня. Я посмотрел вдаль и увидел, что по ту сторону арыка, поросшего с двух сторон тутовыми деревьями, кто-то скачет на ишаке. Причем этот кто-то увидел меня и направляется прямо в мою сторону. Я пригляделся и узнал Джере́нку — девчонку из нашего класса. Она маленького роста, худенькая, четыре тоненькие косички торчат в разные стороны. По правде говоря, на Джеренку в школе я обращал мало внимания. Но здесь, в пустыне, будешь рад и Джеренке. Да, это она. Я и ишака ее хорошо знаю. Убей, не помчится вскачь. И рысью не пойдет. Уж если сильно поторопишь, может побежать вприпрыжку. Я же терпеть не могу прыгающих ишаков. Если приходится куда-нибудь далеко ехать, так весь зад о твердое седло изобьешь. А Джеренке все нипочем. Напротив, она подпрыгивает в такт ишаку, да еще и песню напевает. И песню-то она мальчишескую поет. Я сделал вид, что не замечаю ее. А она еще не приблизилась, а уже закричала: — Эй, Базар! Почему ты на заборе сидишь? Что ты тут делаешь? Видит же ведь она верблюдицу, которая пасется неподалеку. А еще и спрашивает. Я, не поднимая головы, ответил: — Мне с тобой некогда языком болтать. Скачи своей дорогой. Видишь, я делом занят. Но Джеренка не из тех, кто уйдет, когда говоришь «уходи». Она упрямая. Подъехала совсем близко ко мне и остановилась рядом. Честно говоря, я просто так сказал, что мне некогда разговаривать. Мне хотелось, чтобы Джеренка поняла, что я один в пустыне пасу верблюдицу. Джеренка будто и не слышала моих слов, даже внимания не обратила. Уставила на меня свои огромные черные глазищи, которые кажутся еще большими на ее маленьком личике, и улыбнулась как ни в чем не бывало. — Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Сколько времени ты собираешься молчать? — Сто лет… До конца жизни… Пока не состарюсь… Я сказал это да еще и отвернулся. А сам незаметно поглядывал на Джеренку. Она рассердилась. — Ну и не разговаривай. Тоже мне еще, развыступался. Очень надо мне с тобой говорить. — она презрительно дернула головой. Я повернулся к ней и передразнил ее. Потом выпятил нижнюю губу. Но ее ишак опередил меня. Вначале он выпятил губы, а потом приподнял хвост, напоминающий щетку, да так заорал, что мне показалось, у меня лопнули перепонки в ушах. — Убери отсюда своего ревущего ишака! — заорал я. Джеренка пожала плечами: — А я при чем? Я, что ли, велела ему реветь? Он сам ревет. Это он тебя увидел и обрадовался, — добавила она ядовитым голосом. — Будет реветь, если ты будешь давить ему на спину. Конечно, я знал, что ишак не станет реветь оттого, что ему будут нажимать на спину. Это только машина бибикает, когда нажимают на сигнал. Сказал я про ишака просто так, потому что не знал, что сказать. Не должен же я был позволить, чтобы последнее слово было за ней. Но Джеренка тоже не хотела, чтобы победа осталась за мной. — Ты не очень-то задирай свой нос, Базарчик! Тебя тут никто не боится… Я вскочил с места. Поскольку я стоял на заборе, то был выше ее и ее ишака. — Эх, если б ты не была девчонкой, я бы знал, как с тобой поступить!.. — А ты попробуй хоть пальцем тронуть! Я скажу Ата́, он тебе… — Ата? Это еще кто такой? — удивился я. — Это мой двоюродный брат, — гордо ответила Джеренка. — Подумаешь, — презрительно сказал я. — Да я твоему Ата… — Не хвались, Базарчик, — перебила меня Джеренка и добавила насмешливо: — Да он тебя одной рукой через ограду крепости перебросит! Я разозлился и сжал кулаки: — Одной рукой? Меня?! — Да, да, тебя! Не веришь? Ата — чемпион по дракам и побеждает всех мальчишек на всех улицах! Его все боятся! Я задумался. Я не знал двоюродного брата Джеренки. «Почему это его все боятся?» — подумал я. Увидев, что я задумался, Джеренка еще больше заважничала. Послушайте, что она сказала в конце концов: — Он уже закончил четыре класса и три школы. — Подумаешь, четыре класса! — засмеялся я. — И я закончил. На второй год меня не оставили. Мне и в самом деле стало смешно. Я-то подумал было, что этот Ата — здоровенный парень. А оказывается, он такой же, как и я. Но Джеренка не унималась: — Ну и что ж, что ты четыре класса закончил. Ты в одной школе все время. А он окончил три школы. Он разные приемы знает! — Какие еще приемы? — Как всех побеждать. Не веришь? Он в больнице научился. Я захохотал, потому что только девчонка может сказать такую глупость — научиться приемам в больнице. Кто же это дерется в больнице? В больнице лежишь, даже встать не можешь. Но Джеренка словно подслушала мои мысли: — Думаешь, неправду говорю? Думаешь, если ты лежал в больнице, так все знаешь? Ты в какой больнице лежал? Там, где со сломанными ногами лежат. Там, конечно, не дерутся. А Ата в другой больнице лежал. — В какой еще другой? — В паршивой. У него на голове парша была, вот что. Там ему волосы остригли и голову смазывали. Я теперь уже не знал, что отвечать. Закончил три школы — как это было понимать? Но спрашивать Джеренку мне не хотелось. А Джеренка, словно ей к языку подвесили звонок, продолжала болтать про своего двоюродного брата. И сильный он такой, что его все боятся, и вообще он никому спуску не дает. Завтра он приезжает к ним в гости. — А ну, если ты такой храбрый, подерись с ним! — Захочу и подерусь. Вообще-то я это сказал просто так, чтобы что-то сказать. Но сам не узнал собственного голоса. Признаюсь, я немного побаивался этого Ата. Может, он какой-нибудь хулиган. Чем больше я думал о нем, тем грозней казался мне неведомый Ата. Мне представлялось: голова у него как котел, кулаки — каждый с дыню. Но как бы там ни было, я не должен был показывать Джеренке виду, что я испугался ее двоюродного брата. Мне тоже хотелось чем-нибудь похвастаться. Вот если бы вдруг приехал мой старший брат Кервен, тогда никакой Ата-хулиган не был бы мне страшен. Но Кервен служит в армии, вернется еще не скоро. Джеренке это известно. И тут я вспомнил про «высокого» гостя. — А ты знаешь, кто к нам приезжает? Да что там рядом с ним твой Ата! Гость приезжает. И не простой. Вы-со-кий гость! Джеренка весело засмеялась, повторила в топ мне: — Что это за такой «вы-со-кий» гость?! Я и сам не знал, по ответил по без важности: — Когда приедет, тогда и увидишь. Если бы Джеренка еще что-то спросила о госте, мне пришлось бы отмалчиваться. Потому что на этом все мои сведения кончались. Но тут на выручку мне пришел ее ишак. Он еще пуще прежнего взревел. Джеренка хлопнула ишака ладошкой по ушам. — Да замолчи ты! Но мне хотелось, чтобы ишак продолжал реветь. Не потому, конечно, что я люблю слушать, как ревут ишаки. Просто, пока ревел ишак, Джеренка не могла задавать новых вопросов. — Не трогай его, — сказал я. — Ишак на то и ишак, чтобы реветь… Хотел я того или не хотел, а был вынужден таким образом разговаривать с Джеренкой. Но я не жалел о том, что разговариваю с ней, а, напротив, даже радовался. И Джеренка уже не казалась мне такой противной, как раньше. Я даже не прочь был, чтобы она подольше задержалась возле меня. Но Джеренка с рождения очень упрямая девчонка. Если ты чего-то желаешь, она непременно сделает все наоборот. Вот и сейчас, чувствуя, что мне хочется разговаривать с ней, она стукнула пятками своего ишака в бок, погоняя его. И вдруг обернулась и выкрикнула своим звонким голоском: — Кто завтра в полдень не придет драться в крепость, тот тру-ус! — Голос её эхом разнесло по старой крепости: «Тру-ус! Тру-ус!» Нет, вы посмотрите, что эта противная девчонка придумала, ну кому в голову придет такое сказать! Драться с человеком, который не сделал тебе ничего плохого и которого ты вообще никогда в глаза не видел. И отказаться нельзя. Потому что Джеренка на весь аул растрезвонит, что Базар испугался ее двоюродного брата. Джеренка затряслась на своем ишаке. Я с ненавистью посмотрел вслед ей. Искал колючие слова, чтобы задеть ее похлеще, но ничего не приходило в голову, и только когда Джеренка отъехала довольно далеко, я крикнул самое обидное, что только смог придумать: — Джеренка-ябеда! Ябеда! И крепость опять повторила: «Ябеда! Ябеда!»Джеренка-ябеда
По правде говоря, кличка эта совсем не подходила Джеренке. Вообще-то девчонки любят ябедничать, по каждому пустяку жалуются учительнице Шекер. Мальчишки так никогда не поступают. Мало ли что бывает в классе, так что же, разве надо обо всем непременно докладывать учительнице. А они не могут промолчать. Кто-нибудь на классной доске смешной рисунок нарисует или в дневнике тройку на пятерку исправит, непременно найдется девчонка, которая сунет свой нос, куда не просят. Одна девчонка как-то сказала учительнице, что я ел мел. А я и не ел его, только попробовал. Ну какое ей дело, спрашивается? Пусть она бы даже лягушку съела, и то я не стал бы про нее говорить. А Джеренка… Мы с ней давно не ладим, с того самого дня, когда я принес в класс богомолок. Откуда я знал, что может получиться такая история? Джеренка со своей подружкой сидела за партой впереди меня. А мы вдвоем с одним мальчиком за ними. Я взял и пустил богомолку на спину Джеренке, которая, склонившись над тетрадкой, что-то писала. Джеренка ничего не заметила. Мы сидели и смотрели, как богомолка ползает по спине Джеренки. Вот она доползла до плеча, добралась до ее косичек и запуталась в волосах. Мальчик рядом со мной не выдержал и прыснул. Подружка Джеренки увидела богомолку. — Ой, Джерен, у тебя по голове что-то ползает! — закричала она. Завопила так, будто увидела не обыкновенного кузнечика, а страшного зверя. Джеренка испуганно коснулась волос, богомолка зацепилась за ее рукав и пересела на ворот платья. Джеренка пронзительно закричала, на крик ее все ученики повскакивали с мест. Зачем было так орать? Куда проще было просто взять кузнечика и выкинуть в открытое окно. Это ведь не змея, не скорпион — не ужалит. Тихое безвредное насекомое. Учительница Шекер, что-то записывавшая в журнале, подняла голову и сняла очки. — Что это за крик? Ну, что там произошло?! Я понял, что сейчас мне здорово попадет, потому что учительница Шекер очень строгая и не любит, когда нарушают урок. Я быстренько схватил свою богомолку и сунул ее в портфель. Но было уже поздно. Учительница подошла и склонилась надо мной. — Что ты спрятал, Базар? А ну, давай сюда! — потребовала она. Я попытался возразить: — Я… У меня… У меня ничего нет… Джерен по-настоящему плакала, навзрыд. Она повернула ко мне голову: — Есть, есть, он врет. Он на мою голову… божью кобылу напустил… Чуть не укусила… Мальчишки засмеялись. Подружка Джеренки встала на ее сторону и тоже стала на меня жаловаться. Мальчишка, сидевший рядом со мной, заступился за меня: — Богомолка не кусается! — кричал он. Учительница Шекер постучала по крышке парты. Это значило, что она гневается. Все замолчали. Даже стало слышно, как ребята посапывают носами. — Вы уже большие, четвертый класс кончаете, а ведете себя как первоклассники, — сердито сказала учительница и прикрикнула на Джеренку: — Ну-ка, прекрати реветь! Потом она подняла с места меня: — Ты почему озоруешь? Показывай, что там у тебя в портфеле! Делать было нечего. Я вынул из парты свой портфель. Учительница открыла портфель и покачала головой. Только теперь я вспомнил, что по дороге в школу нарвал в колхозном саду зеленого урюка и спрятал в портфель. Я опустил голову. Лицо залила краска стыда. — О, оказывается, и это дело твоих рук. А я говорю садовнику, что среди моих учеников нет таких озорников, которые рвали бы зеленый урюк, — сказала учительница и вытряхнула содержимое портфеля на парту. Урючины рассыпались по полу. Учительница сказала: — Ребята, среди вас найдутся смельчаки, которые отважились бы взять в рот такой зеленый и горький урюк? Не боитесь оскомины? Все молчали. Но Джеренка вдруг перестала плакать. — А он и не ест их, на переменах бросается зеленым урюком, — пожаловалась она. Учительница Шекер сложила урюк в кучку и взяла оттуда богомолку, которую усадила у себя на ладони. Пристально стала разглядывать ее, словно видела впервые. С виду богомолка и на живое существо не похожа. Напоминает пять-шесть связанных между собою тоненьких щепочек. Нет ни живота, ни складок, ни крови. Когда она не движется, можно подумать, что это зеленые лепестки. Я почувствовал, что учительница начала отходить, и решил оправдаться: — Это не божья кобыла, а богомолка. Она не кусается. У нее и рта нет, чтобы кусаться… — Вот что, Базар, — перебила меня учительница. — Во-первых, кобыла эта божья или конь, ты отнеси ее и пусти в траву. Во-вторых, когда закончатся уроки, пойди к садовнику и попроси у него прощения за сорванный урюк. А в-третьих, извинись перед Джерен. Нельзя обижать девочек. Я стоял, опустив голову. Я совсем не собирался обижать Джеренку. Откуда мне было знать, что она испугается богомолки? Когда она заплакала, мне даже стало ее жаль. Но просить прощения у девчонки! Этого я не мог. Такой уж у меня характер. Я стоял и молчал. — Я жду, Базар! — повторила учительница. Я продолжал молчать. — Ну, тогда выйди из класса и подумай как следует, — велела учительница. — Или, может быть, ты хочешь побеседовать с директором? Сказано — конец. Учительница Шекер никогда не берет назад своих слов. Я зажал в кулаке богомолку, виновницу всех моих бед, и вышел из класса. Отнес и выбросил ее в заросли люцерны, а сам вернулся в школьный коридор и остановился там. Что делать? Думаю, думаю, но придумать ничего не могу. Я понимаю, что нехорошо получилось, по как помириться с Джеренкой? Может, написать ей письмо? А что я напишу? «Прости меня, Джеренка»? Этого еще не хватало! Так я ничего и не придумал и стал думать про урюк и садовника. Что скажет садовник, я знаю: «Обрывая зеленый урюк, вы только себе вредите. Ведь когда созреет, он весь вашим будет. Как только пожелтеет, приходите ко мне. И не лазьте на дерево, прячась среди веток. Я сам наполню всем вам карманы». Садовник наш старенький — ровесник моего дедушки. Он добрый. Поворчит и простит. Я ему скажу, что больше никогда в жизни не стану воровать урюк. И на этом весь разговор будет окончен. Но ведь учительница Шекер не садовник. Вон она как рассердилась на меня… Я снова представил ее седые волосы, нахмуренное лицо, смотрящие из-за больших очков прямо на тебя глаза. Эти глаза были и суровыми, и ласковыми одновременно. Когда я пошел в первый класс, бабушка, услышав, что меня будет учить учительница Шекер, очень обрадовалась и сказала: «Это очень хорошо! Быстро научишься читать и письма писать научишься, Базарджан. Но никогда не заставляй ее дважды повторять то, что она сказала один раз. И если ей по дому надо что-то помочь, то тоже не гнушайся. Она всем вам учительница. Она и матери твоей, и отцу твоему, и брату преподавала, обучала их грамоте…» У нас дома есть две фотографии учительницы Шекер. И на обеих она среди учеников. Одна выпускная фотография папы, когда он закончил седьмой класс. А на второй брат Кервен после окончания десятилетки. На папиной фотографии учительница Шекер совсем молодая и очень красивая. На фотографии Кервена она постарше, по тоже еще молодая. А теперь у нее и волосы седые, и на лице морщины. Я вспомнил об этом, и мне стало жаль ее и стыдно, словно я был виноват в том, что она постарела. Однажды я даже у неё дома был. Учительница Шекер живет недалеко от нас. Как-то бабушка сварила домашнюю лапшу, положила туда два больших красных перца и сказала мне: «Сынок, тетя Шекер очень сильно простыла. Быстренько сбегай к ней, отнеси ей поесть горяченького». Я вошел и увидел, что учительница лежит одна в большой комнате. Она обрадовалась мне, показала на стул рядом со своей кроватью: «Садись, Базар» — и долго со мной разговаривала, расспрашивала, как себя чувствует бабушка. Вернувшись домой, я спросил у бабушки, почему учительница живет одна. Бабушка тяжело вздохнула. Долго смотрела мне в лицо, словно не зная, говорить мне или не говорить. Наконец сказала: — У тети Шекер, детка, нелегкая судьба. — И она начала рассказывать мне совсем как взрослому человеку: — Шекер была самой красивой женщиной в нашем ауле. И муж у нее был по имени Байра́м, такой же красивый и добрый, как она. Он был учителем. Началась война, и Байрам ушел на фронт. И первой в наш аул похоронка на него пришла. Что было делать бедняге Шекер? Поплакала она и в конце концов смирилась со своей участью. Вместо мужа сама стала учительствовать. Твой отец как раз тогда в школу ходил, — сказала бабушка. Кончилась война, в аул стали возвращаться фронтовики. Шекер хоть и знала, что муж ее погиб, а все равно продолжала ждать его. Многие уговаривали ее: «Выходи замуж». И правилась она достойным людям. Но она сказала, что до конца жизни останется верна памяти своего мужа. Был у нее старый свекор, Муха́т-ага, после его смерти она совсем одна осталась. И вот уже около сорока лет она все одна живет. «Нельзя жить одной, если не хочешь замуж, то хотя бы усынови кого-нибудь», — советовали ей. А она отвечала: «Я не одна. У меня и сыновей и дочерей много. Каждый день вон сколько пар черных глаз глядят на меня. Они ведь все мои дети». Когда она среди вас, она не замечает, как время проходит. Но вот звенит последний звонок, и вы расходитесь по домам, бежите к матерям. А она возвращается в свой пустой дом, — закончила бабушка свой рассказ. Я стоял в коридоре. Из класса доносился голос учительницы Шекер, которая что-то объясняла. Я пожалел, что я не на уроке вместе со всеми ребятами, а еще пожалел, что огорчил учительницу. И рассердился на Джеренку. Ведь если бы она не подняла крика из-за какой-то несчастной богомолки, ничего бы этого не случилось. Вдруг мне в голову пришла еще одна мысль, и я еще больше огорчился даже испугался немного. Мысль эта была такая: вот я тут стою в коридоре, а что, если сейчас из своего кабинета выйдет директор Илли-ага? Выйдет, увидит меня и спросит, почему я не на уроке. У меня даже лицо покраснело как только я об этом подумал. Если учительница Шекер обучала моего отца и брата, то Илли-ага даже моему дедушке преподавал. «Люди говорят, что с тех пор, как существует школа, существует и Илли-ага. Я прошел по коридору и оказался перед портретом нашего директора. Да, в школе на стене, на самом видном месте висит портрет Илли-ага. Он появился в школе недавно. В этот день нашему директору исполнилось семьдесят пять лет. И пятьдесят лет из них он учит ребят. У нас в школе состоялось большое торжество. Очень много людей пришло из нашего аула и из соседних. Даже издалека съехались бывшие ученики нашего директора. Новый спортзал был забит до отказа. А те, кто не смог приехать, прислали телеграммы. Их была целая кипа. И этот портрет привез один из гостей, который иосил бороду, хотя и был молод. И только тогда мы узнали, что этот известный в нашей стране художник тоже был учеником Илли-ага. Мы тогда долго аплодировали ему. Папа мой тоже был на юбилее, и мама. Даже дедушка пришел. Дома дедушка сказал, что если начать считать учеников Илли-ага, то собьешься со счету. Оказывается, у него учился и наш земляк — Герой Советского Союза Келев Джуманиязов, и много других известных людей. Вот какой у нас директор. Я смотрел на портрет Илли-ага. Илли-ага тоже смотрел на меня со стены и чуть улыбался. Я подумал, что если он меня сейчас увидит, то все равно не станет ругать. Илли-ага никогда ни на кого не сердится, не кричит. Я знаю, что он мне скажет: «Ну, сынок, ты знаешь, почему тебя называют БазаромБазаровым?» Я отвечу: «Конечно, знаю. Почему же мне не знать? Меня назвали именем моего дедушки. Не маминого папы, а другого. Ведь у каждого человека имеется два дедушки: мамин папа и папин папа. И у меня их было бы два, если бы не война. Папин папа ушел на фронт и не вернулся. Его звали Базаром. Вот в его память назвали Базаром и меня». — «Хорошее имя! — скажет Илли-ага. — Гордое! Носи его с честью, старайся быть похожим на своего дедушку». Не знаю, сколько я простоял перед портретом Илли-ага. Вдруг я почувствовал, как меня коснулась чья-то ласковая рука. Рядом со мной стояла учительница Шекер. Лицо ее уже не было сердитым. Она посмотрела на портрет Илли-ага, на меня и спросила: — Пу, побеседовал с директором? Я молчал. — Ладно, иди в класс, — сказала учительница. Вот какая история произошла этой весной незадолго до окончания учебного года. С Джеренкой я с тех пор так больше ни разу и не разговаривал. По правде говоря, я давно уже забыл, как принес в класс богомолку и как Джеренка пожаловалась на меня. По теперь я все вспомнил, поэтому и закричал ей: «Джеренка-ябеда!»Сон
Как ни сладок сон, а ночь я провел без сна. Я не спал еще и тогда, когда погасли на небе все звезды. Лежал с открытыми глазами и тогда, когда где-то вдалеке прекратился шум насоса, качающего воду из канала. Интересно, почему мне не спится? Может, из-за ночной духоты? Или же из-за комаров? Да, в такую погоду им раздолье. Прихватив матрас, вначале я отправился на навес, на котором мы сушили дыни. Думал, там попрохладнее и я смогу заснуть. Мне казалось, что и комары туда не долетят. Еще как долетали! Вначале над ухом один комар пропищал, потом другой, третий… Потом их стало столько, что и не сосчитать. Я слез с навеса, принес дымящие головешки, которые дедушка разжег, чтобы дым отгонял комаров от верблюдицы. Как назло, дым шел в другую сторону. Да и головешки не очень-то дымились. Если побольше положить кизяку, то огонь гаснет. А если положить побольше соломы и подуть, то вспыхнет яркое пламя. Снова плохо. Я понял, что дымом мне не отогнать комаров. Попытался терпеть, но никакого терпения не хватило. Пришлось снова лезть под полог. Туда комары залезть не могут. И воздух вроде бы стал попрохладнее. Но я все равно не мог уснуть. Дедушка говорит, что спать человеку не дают заботы. А у меня разве мало забот? Серая крольчиха, которую я так и не нашел, — раз. Предстоящая поездка в Ашхабад к дяде Дурды — два, «высокий» гость — три. Эти мысли то наваливались на меня, то вдруг разлетались, словно вспугнутая воробьиная стая. «Высокий» гость. Может, он космонавт? Что только не приходило мне в голову! «Космонавт в шалаше у бахчи». «Космонавт в гостях у Базара Базарова». Вот это да! Повидаться с ним приедут не только из нашего села, но и из района… А что? Всякое может случиться… После встречи с Джеренкой я опять пытался выяснить у дедушки и у мамы, какой гость и откуда к нам должен приехать. Но дедушка в ответ только улыбался. А мама говорила: «Главное, веди себя хорошо, чтобы все сказали, что наш сын умный мальчик». Если бы это от меня зависело, быть или не быть умным! Ведь никому, наверное, не хочется быть дурачком. Конечно, и без маминых предупреждений я не отправился бы здороваться с гостем в одних трусах. Я достаточно большой, чтобы понимать это. А как еще надо хорошо себя вести? Это ведь не выучишь наизусть на книжке. Как-то дедушка рассказывал такую историю: одного мальчика очень сильно любил отец. Он брал его повсюду, куда только ни отправлялся. И всюду мальчика чем-нибудь угощали. Одни давали яблоко, другие конфеты. И мальчик тотчас же начинал поедать гостинцы. Отцу это не правилось, и однажды он сказал сыну: «Сынок, будь умным. Если тебе что-то дают, угощают, ты не отказывайся, бери, но не ешь там же. Это невоспитанность. Положи себе за пазуху или в карман, а потом дома поешь». Мальчик решил: «Ладно, буду умным. Это ведь не так уж трудно». Ну вот, вскоре их снова пригласили на свадьбу. Хозяева поставили миску с пловом. Гости расселись вокруг и кто-то из сидевших вынул из миски большой мосол с торчащим из него мозгом и протянул мальчику. Мальчику хотелось погрызть мосол, но он старался быть умным, как велел отец, и быстренько сунул кость за пазуху… Дедушка рассказывал, а сам хитро улыбался. Я же, слушая его, хохотал до упаду. Теперь я вспомнил эту историю и подумал, как бы мне самому не быть похожим на того «умного» мальчика, когда приедет наш «высокий» гость. Я уже стал засыпать, но тут на меня свалилась еще одна забота. Я вспомнил про двоюродного брата Джеренки Ата. Вот уж это самая большая забота. Сейчас, ночью, Ата казался мне пострашнее, чем дедушкино огородное чучело. Глаза у него красные, словно налитые кровью. Уши огромные и висят, выпирают из-за скул. Интересно, если он не подерется с кем-нибудь один день, у него что — руки чешутся? И мне надо с ним сражаться. Конечно, во всем этом виновата Джеренка. Нет, пожалуй, не только она — еще и дедушка. Спросите, почему? А что, другого дня у него не нашлось для того, чтобы привезти с пастбища барана?! Если бы он не уехал за бараном, меня не послали бы пасти верблюдицу. Я уже и сам не рад был, что столько раз просил разрешить мне ее попасти. Ну ладно, а зачем я пошел к дороге? Что, другого места не мог найти в пустыне? Нет, дедушка не виноват. И я тоже не виноват. Виновата одна Джеренка. Все зло в ней. Прискакала на своем ишаке и придумала эту драку с двоюродным братом. Вот так, раздумывая о своей заботе, я уснул. И во сне эти же мысли преследовали меня. Утром я встал с больной головой. Все у меня перепуталось. Я уже не знал, что думал наяву, а что я видел во сне. Бывает, посмотришь иногда какой-нибудь непонятный фильм, а потом придешь домой и пытаешься восстановить его содержание. И ругаешь киномеханика. И как не ругать? Смотришь интересный фильм. Отважный мальчишка ползет по-пластунски, хочет спасти красного командира. Подобрался ж задремавшему часовому. Ты сидишь и переживаешь, как бы не проснулся часовой, пока мальчик не выхватит его винтовку. И вот уже мальчик почти у цели, киномеханик почему-то не показывает, что случилось дальше, а начинает показывать в это время жениха и невесту, которые стоят и нахально целуются. Ребята в зале свистят и топают ногами. В самом деле! Если уж нельзя обойтись в кино без женихов и невест, то совсем не обязательно показывать их в самом интересном месте. От сна в памяти остались такие обрывки: серая крольчиха вылезла из норы, а за ней крольчата. И не один, не два, и даже не десять, а много-много — не сосчитать. Прибежали, завладели нашим шалашом. Весь внутри перекопали, целые кучи песка нагребли. Мама с веником в руках пытается прогнать их, но куда там! Они опять появляются. Некоторые даже на крышу шалаша взобрались. Я и сам знаю, что в действительности такого быть не может. А во сне бывает. И вот эта крольчиха вместо со своими крольчатами начинает удирать. И удирает к той поре, которую я раскопал. Я бегу за ними. А впереди меня бежит кто-то похожий на чучело. Ноги длинные, словно ходули, перепрыгивает сразу через три грядки. Я кричу ему: «Не трогай кроликов, они мои!» А он отвечает: «Лучше ты отстань от меня, а то как подброшу тебя, сразу за крепость перелетишь!» Ну кто еще может мне такое сказать? Конечно же, это Ата. Как ни быстро мы бежим, кроликов нам не догнать. Потом Ата перестает угрожать мне, а зовет на помощь: «Ты беги им навстречу, крольчат поймаем». А я кричу: «Нет, ты сюда их гони, загоним в шалаш!» Мы и кричим, и гоняемся за кроликами, и смеемся. Бегаем мы по грядке с огурцами. Свежие огурчики растоптаны нашими ногами. Дедушка не ругает нас. Напротив, смеется. «Все равно эти огурцы придется скоту скормить, что-то желающие не идут», — говорит он. Наконец я набрасываю на крольчиху свой пиджак и ловлю ее. Спрашивается, откуда в тот момент мог появиться пиджак? Но ведь это же был сон. А Ата словно только и ждал этой минуты. Подходит ко мне и хватает за руку. Он пытается отнять крольчиху, я стараюсь не отдать. И вдруг вижу, как к моему носу приближается его огромный кулак размером с кормовую тыкву. Я бросаю крольчиху и еле успеваю спрятать голову, а тут уже второй кулак на меня надвигается. А потом уже перед глазами одни кулаки мелькают. Я понимаю, что даже если один из них коснется моего лица, я останусь без носа. «Что же делать?» — думаю я. А кто-то со стороны говорит: «В боксе главное — защита. Защищайся!» Но тут чья-то сильная рука берет меня и приподнимает вверх. Это огромный, высоченный человек. Смотрю, а в другой руке у него болтается Ата. Я думаю, что это тот самый «высокий» гость, который должен был приехать к нам. «А ну, примиритесь, иначе я не выпущу вас!» — говорит он. Я смотрю вверх — звезды словно рядом со мной, прямо над моей головой. Смотрю вниз — земля круглая и маленькая, словно на дне колодца расположилась. И вдруг просыпаюсь от собственного голоса. Нет ни того здоровенного человека, ни Ата… Рядом сидит мама и трогает меня за ноги: — Конечно, если будешь спать после восхода солнца, кошмары будут сниться. Вставай быстро, иначе я сейчас тебя холодной водой окачу.Суровый «бой»
Солнце еще только взошло, а я уже думал о полдне. Ведь в полдень мне надо было в старую крепость. Я, конечно, мог не идти, по Джеренка… Все утро я только и думал об этом, ругал себя: «Ну зачем только я сказал Джеренке, что согласен драться с ее двоюродным братом?» Верно говорят: «Язык мой — враг мой…» Но ведь еще не поздно, может, все-таки не ходить туда, в крепость? Нет, так не годится. Пойду, даже если этот Ата изобьет меня. Я мужчина. Чем трусить, уж лучше на один тумак больше получить. Иначе мне всегда придется стыдиться и краснеть… А солнце, не обращая внимания на меня, ползло вверх по небу. Приближался полдень. Делать было нечего, я отправился к старой крепости. Шел медленно. К чему мне было спешить? «Ничего, — успокаивал я себя. — Если этот Ата — чемпион в драках, то ты, Базар, чемпион в беге. В классе никто быстрей тебя не умеет бегать. Когда ты хочешь, ты можешь догнать бегущего верблюда и схватить его за хвост. На самый худой конец можно будет и удрать». С такими мыслями я приблизился к крепости. Вот уже видны на холме развалины Алты́н-тепе́ — так называется эта старинная крепость. Не доходя до каменной ограды, я решил подползти к ней по-пластунски и заглянуть в проем. А вдруг этот Ата устроил засаду? Внезапно выскочит и кинется на меня. У нас в ауле даже самый отчаянный драчун не станет бить в лицо или в живот. Это неписаный закон у наших мальчишек. Если после драки на лице появляются синяки или будет расквашен нос, то еще неизвестно, кому будет хуже — побежденному или победителю. Придет такой разукрашенный мальчишка домой, и все догадаются, что он дрался. И начнется: «С кем да почему». Не известно еще, кому больше достанется — тому, кто с синяком, или тому, кто этот синяк подставил. Попробуй-ка посмотреть в глаза матери мальчишки, которого ты побил. Я пришел к такому решению: если Ата сам не будет нападать, то не драться. Чего нам драться? Правда, Джеренка говорила, что, если он не подерется, у него руки чешутся. Ну ладно, предложу ему перемирие. А если он не захочет, что тогда? Тогда надо будет придумать какую-нибудь хитрость. Главное — не теряться. Я подполз к ограде и потихоньку приподнялся, чтобы заглянуть внутрь крепостного двора. Мне казалось, что Ата уже давно пришел и поджидает меня. А Джеренка стоит рядом с ним, словно его секундант. Но в крепости было пусто. Остановился и прислушался, не слышно ли каких шорохов. Но и слышно ничего не было. Я вошел за ограду, осторожно оглядел развалины стены, заглянул в пещеры. Нигде никого. Я пробовал кричать, свистеть, никто не отозвался. И только тогда я поверил, что Ата еще не пришел. Мы должны были встретиться в полдень. Полдень легко узнать. Тень равна ровно трем ступням. Я встал на ровном месте и измерил собственную тень, она удлинилась до трех с половиной ступней. Значит, полдень миновал. Увидев, что «враг» отсутствует, я успокоился. Уперся руками в бока и стал расхаживать по крепостному двору, который, если стоять прямо посредине, напоминает плоскую деревянную миску. Весь вид мой сейчас напоминал пальвана, который расхаживает с важным видом перед публикой, воображая, что никто не решается вступить с ним в поединок. Дальше — больше: я уже чувствовал себя сильным и смелым, которому не было равных. «Легко ты отделался от меня, Ата! Эх, если бы ты сейчас попался мне в руки, я бы знал, что с тобой сделать!» Ворча, я почесал свои ладони. «Придется уходить ни с чем», — с сожалением вслух произнес я, словно кто-то мог слышать меня. На самом же деле я был рад, что все окончилось без боя. Я был доволен самим собой. Я-то доказал, что я не трус и при Джеренке мог спокойно чувствовать себя. Представил себе, как при встрече гордо скажу ей: «Где же этот твой хваленый двоюродный братец, который одним пальцем может меня через крепость перебросить?! Ты поняла теперь, кто из нас трус?» И вдруг в мою душу закралось сомнение. Разве я не знаю эту противную Джеренку? Она ведь может и такое заявить: «Мы пришли, а тебя не было». Как я смогу доказать ей, что в назначенный час приходил в крепость? Что же, мне тут сидеть, пока не появится какой-нибудь свидетель? Да я уже и проголодался. Дедушка, наверное, пригнал верблюдицу, мама подоила ее. Скоро пора обедать. Нет, надо придумать что-то такое, против чего Джеренка не могла бы спорить. Вдруг мой взгляд упал на колонну разрушенного дворца. Я быстро пришел к решению: нужно оставить надпись на колонне. Отличная мысль! Я схватил острый обломок кувшина и подошел к колонне. Но тут я вспомнил, как учительница Шекер говорила: «Надо охранять памятники старины. Нельзя их портить. Это бесценное наследство прошлых веков нашей Родины». Значит, если я нацарапаю надпись на колонне, я испорчу памятник. Что же делать? Я сел на землю возле колонны, сидел и думал, но ничего лучшего, чем надпись, придумать не мог. Только на чем сделать эту надпись? Я еще раз обшарил взглядом пустынный двор крепости. Вот, кажется, то, что мне нужно. Неподалеку виднелась полузасыпанная землей какая-то плита. Я быстро откопал ее и принялся за работу. Вскоре на обломке плиты появилась надпись: «Базар — 1, Ата — О». Я остался доволен. Это было справедливо. Ведь даже в спортивных соревнованиях поражение засчитывают тому, кто не явился на встречу. Я отошел на два шага и прочитал надпись. Потом прочитал ее с расстояния в пять — десять шагов. Но когда я влез на ограду крепости и попытался прочитать надпись оттуда, то ничего не мог разобрать. На земле валялась обыкновенная плита, каких полно вокруг, даже нельзя было догадаться, что на ней что-то написано. Я вернулся и принялся углублять буквы. Но все равно с ограды их видно не было, они сливались с серой поверхностью плиты. Тогда я подобрал осколок красного кирпича и обвел им все буквы. Теперь надпись можно было прочитать даже с ограды крепостного двора, конечно, если внимательно поглядеть на мою плиту. Я еще немного полюбовался своей работой, спрыгнул с ограды и пошел по крепостному двору. Мне хотелось перед тем, как отправиться домой, еще раз пройти мимо своей плиты с надписью. Вдруг послышался какой-то голос. Я вздрогнул от неожиданности, потому что голос был не похож на человеческий, будто голос привидения. И долетал он, казалось, откуда-то из пещер, которых много в старой крепости. Как тут было не испугаться? Я со всех ног бросился к пролому в ограде и тут увидел Джеренку. Она восседала на своем ишаке возле входа в крепость. Я даже не мог себе представить, что способен так обрадоваться при виде этой вредной девчонки. Но все равно даже самая вредная девчонка лучше, чем привидение. — Эй! — закричала Джеренка, и эхо разнесло ее крик по пещерам. Теперь я понял, почему голос в крепости показался мне нечеловеческим. Я обрадовался Джеренке, но тут же подумал, что вряд ли она явилась одна, наверное, ее двоюродный братец Ата тоже где-нибудь поблизости, прячется где-нибудь за оградой. Это было не очень приятно. Они войдут во двор, прочитают мою надпись, и зловредная Джеренка скажет: «Ах ты хвастун, Базарчик! Ты уже записал себе победу. Хотел легко завоевать славу. Теперь попробуй завоюй ее в бою!» Я огляделся по сторонам, но не увидел никого, кроме Джеренки и ее дремлющего ишака. А тем временем сама Джеренка защебетала: — Меня послал Ата. Он сказал: «Передай Базару, пусть он простит меня». Он сказал, вчера как только приехал к нам в гости, он подрался с одним мальчишкой, и его теперь не выпускают из дому. Он сказал… — Да перестань ты тараторить, а объясни все как следует. Заладила «он сказал, да он сказал». Лучше скажи, собирается твой хваленый двоюродный братец драться или нет? Я понял, что Ата не явился, и опять расхрабрился. — Честное слово, он не обманывает. Отец не выпускает его из дому… — Трус он, вот кто! — закричал я. — Он и в самом деле просил простить его или это ты придумала?! — Клянусь хлебом, он так сказал. Скажи, сказал, пусть он простит меня… — Ну, раз он умолял, придется простить его, — важно сказал я. — Вот что, сейчас же отправляйся к нему и передай ему мое условие. И не тараторь, как сорока, а объясни ему попонятнее: пусть он перед ребятами признается, что он струсил. Джеренке, видимо, не понравилось мое условие. Она нахмурилась: — Еще чего! Не буду я ему так говорить… Он все равно победит тебя! Завтра! — А я его ждал сегодня! — сказал я и нарочно показал рукой на плиту с надписью. Джеренка увидела надпись, сердито посмотрела на меня и, ничего больше не сказав, умчалась на своем ишаке. Хоть Джерен и сказала, что приведет своего брата, я не был уверен, что Ата завтра явится в крепость. Скорей всего, он никогда не придет. Наверняка ему не хочется драться. Если бы он собирался драться, он не просил бы прощения…Назавтра я все же снова отправился в крепость. Но теперь я был похож не на человека, идущего на бой, а на туриста, собравшегося на экскурсию по историческим местам. Мне хотелось еще раз прочитать надпись, сделанную моей рукой. Шел я в веселом настроении. Сунул прут в пору крота. Наступил нечаянно на муравейник, перепрыгнул через него. Если успеешь быстро отдернуть ногу, муравьи не взбегут на неё, а стоит замешкаться, как они залезут и искусают… Настроение у меня было хорошее, потому что я шел смотреть на надпись, свидетельствующую о моей победе. Чем больше я о ней думал, тем значительней она мне казалась. И вот почему. В субботние и воскресные дни в Алтын-тепе приезжает на экскурсию много людей. Мне казалось, что и сейчас там должно быть полно народу. Пионеры в белых пилотках из лагерей читают надпись и спорят между собой. Засыпают вопросами молоденькую пионервожатую. Она же, совсем как учительница истории, объясняет им: «Эта надпись очень древняя, мне кажется, что она сделана в таком-то веке до нашей эры». Погруженный в такие мысли, я не заметил, как дошел до крепости. И тут же все мои мечты развеялись, настроение испортилось. Прямо напротив меня восседал на ишаке Джеренки Ата. Сзади него, словно кузнечик, прилепилась Джеренка. Ох и вид был у этого Ата! Он взобрался на самое высокое место в крепостном дворе и смотрел на меня, приложив ладонь козырьком к глазам. Ну прямо-таки богатырь, не хватает ему только щита и меча. И сидит-то он на ишаке по-особенному, красиво. Не доходя до него, я остановился. И хотя коленки у меня дрожали, я старался не показать виду. И в самом деле, нельзя же показывать противнику, что ты боишься его. Тогда он и вовсе загордится. А сам я потихоньку поглядывал на его кулаки. Но он не сжимал руки в кулаки. Так что нельзя было разобрать, какие они у него. Но, конечно, не с дыню. И глаза не красные. А вот уши… С ушами я не ошибся. Он был ушастый. Уши его топорщились, словно надутые паруса. Чувствовалось, что этим ушам немало пришлось перетерпеть. Видимо, их крутили и вытягивали. Причем они были красные, словно их выкрасили. Может, красными они казались от солнца, а может, и всегда были такими. И еще одно отличие было у Ата — между правой бровью и волосами отчетливо был виден шрам от чего-то круглого. Я подумал, что это, возможно, клеймо, поставленное ему за его озорство. Он смотрел на меня, а я на него. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга. Он на своем ишаке, а я на своих ногах. Наконец Ата первым проговорил: — Ну, здравствуй! Честно говоря, мне почему-то стало немного смешно. Совсем не был Ата похож на драчуна, у которого всегда руки чешутся, такой вежливый. Он не считал унижением для себя поздороваться первым. И сказал он «здравствуй» с достоинством. А я что? Разве я должен быть хуже? И я так же коротко ответил: — Здравствуй! — «Гмм!» — будто промычал Ата. Мне показалось, что этим он выразил свое недовольство. Так и вышло. — Это ты тот самый Базар-болтун? — спросил он насмешливо. Вот тебе и кличка. Я разозлился. Меня никто еще не осмеливался называть болтуном. Лицо мое вспыхнуло, словно мне влепили оплеуху. От неожиданности я даже не нашелся сразу, что ответить. Крикнул: — А ты кто?.. Ты Ата-хулиган? Он даже внимания не обратил на то, что я назвал его хулиганом. А ведь это было похуже, чем болтун. Напротив, он еще больше распрямился в седле: — Это ты приносишь в класс богомолок и пугаешь девчонок? «Тоже мне еще, нашелся защитник девчонок». Я рассердился и закричал: — А это ты болтаешь, что лежал в паршивой больнице и там выучился разным приемам? Кажется, вопрос мой попал в цель. Он отвернулся от меня и недовольно глянул на Джеренку, которая сидела позади него. Словно хотел сказать: «Это ты ему все разболтала? Откуда он может знать, что я болел паршой? Кто тебя просил раскрывать мою тайну?» А я даже услышал, как он зашипел на нее: «Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не совала свой нос в мужские дела!» Я был рад, что он рассердился на Джеренку. Мне даже захотелось сказать ему: «Теперь ты видишь, что она самая настоящая ябеда? Она мне о тебе еще много чего другого рассказала!» Но подумал, что мужчине не полагается равняться с девчонкой, и я решил преподнести все иначе. — Я и еще много чего о тебе знаю. Знаю, что ты закончил четыре класса и три школы… Ата помолчал, потом кивком головы указал на надпись: — Твоя работа? Моя надпись сверкала на солнце, как и вчера. По голосу Ата я понял, что ему эта надпись очень не понравилась. Не успел я ему ничего ответить, как он резко приказал: — Немедленно сотри! Нет, вы посмотрите на него, он еще и приказывает. Если бы он сказал это другим тоном, попросил бы у меня прощения, может быть, я бы еще и подумал, стирать ее или нет. А если он приказывает… — И не подумаю! — Сотрешь! — Не сотру!.. Он спрыгнул с ишака. Подойдя ко мне поближе, он сжал кулаки. Я еще раз поглядел на них — теперь уже вблизи. Ничего страшного в них не было. Даже если положить их на весы, не думаю, что они перетянут мои. Но тем не менее Ата вообразил себя чуть ли не дивом. Спросил меня, как спрашивают друг друга дивы в сказках, когда собираются сражаться: — Выбирай: будем драться или стреляться? Может, он думал, что я не знаю сказок, но я ответил, как отвечают сказочные дивы: — Стреляются пусть наши деды, будем драться! Ата засучил рукава. И я стал засучивать рукава. Ата закатал штанины до колен. Мне этого не надо было делать. Мне не грозило запутаться в собственных штанах — я был в спортивных шароварах. Ата плюнул на свои ладони. Я тоже потер руки. Оба мы были готовы к схватке. Однако никто из нас не решался начинать первым. Но Джеренка, как только Ата слез с ишака, сразу же перебралась на его место в седло. Чувствовалось, что ей не терпится поскорее увидеть драку. Наконец она не выдержала: — Ну что вы стоите, словно драчливые петухи, а сами не деретесь! Ата, не отрывая от меня глаз, ответил: — Пусть он первым начинает! Я тоже сказал: — Нет, пусть он первый! Вполне возможно, что мы разошлись бы, так и не подравшись. Я, например, был согласен на такой исход. Мне кажется, что и Ата не прочь был пойти на перемирие. Но разве Джеренка упустит возможность стать свидетельницей бесплатного представления? Я даже и не заметил, когда она спрыгнула с ишака. Прибежала и своим прутиком прочертила линию между мной и Ата: — Кто смелый, тот пусть перейдет через эту черту. Я разозлился на Джеренку пуще прежнего. Что она думает, эта черта — граница, что ли? Я подошел и плюнул на эту черту. Ата не понял этого. Он решил, что я плюнул в его сторону. Он тоже подошел и плюнул в мою сторону. Тогда я пнул ногой черту, проведенную Джеренкой, решив, что теперь-то он поймет. Вот тут-то я немного поторопился. От злости нога моя чуть-чуть перешла через черту. Джерен, которая воображала себя судьей, заметила это. — Перешел, он перешел через черту! — закричала она и обвела палкой след моей ноги. Ата тоже не хотелось оставаться в долгу, он тоже пнул пяткой в землю на моей стороне. Потом и я пнул, потом он… Мы подняли целый столб пыли. Не то что черту, мы даже друг друга не видели. Нечаянно наши животы столкнулись. Потом мы стали толкаться грудью. Потом Ата, видимо, надоело толкаться или, может, Джерен ему что-то сказала: он схватил меня за талию. Я схватил его за шею. Потом я улучил удобный момент и тоже обхватил его за талию. Так начался наш бой. Бой был хоть и суровым, но справедливым, честным. Оказывается, у страха глаза велики, и страшно было до тех пор, пока сражение еще не началось. Мы долго кружились на месте, вцепившись друг в друга. И не падали, и не валили друг друга. Я все ждал, когда же он наконец применит приемы, которым обучился в кожной больнице. Мне очень хотелось, чтобы он один за другим использовал все приемы, которые знал. «Пусть я буду побежден, но зато чему-то научусь», — думал я. Но сколько я ни ждал, ничего не дождался. Видимо, он и приемов-то никаких не знал. Только кружил на одном месте. Я понял, что если я сам что-нибудь не предприму, наша борьба будет продолжаться очень долго. «Постой-ка, я сейчас тоже покажу тебе свои приемы». Правда, у меня приемов было мало. Слишком мало. Но верные. Подножка, подброс и третий — перекидывание через спину. Но каждый из них надо было применить умело. Например, для того, чтобы подсадить противника на бок, а потом перекинуть его через плечо, он должен быть несколько легче тебя. А Ата по сравнению со мной и потолще, и кости у него потяжелее. А чтобы дать подножку, надо своей ногой притянуть ногу противника. Видимо, Ата тоже знал этот прием. Он присел, словно гиена, и не давал возможности приблизиться к его ноге. А если даже и́ просунешь ногу меж его ног, все равно, для того чтобы дать подножку, надо хитрость применить. Потому что, когда нога уже зацеплена, оба противника вынуждены распрямиться. У обоих одновременно по одной ноге отрывается от земли. И тогда надо стараться навалиться на противника всей тяжестью. У кого поясница слабее, тот и падает первым. Я выбрал удобный момент, занес свою ногу за его правую ногу. Только Ата склонился, как я резко отдернул свое тело. Он рухнул, словно канар с сеном. И я быстренько уселся на его живот… Каждый раз, когда Ата хватал меня за пояс и приподнимал, Джерен весело и радостно хлопала в ладоши, предвкушая победу, вертелась вокруг нас. Но сейчас, когда я свалил его, ей это вовсе не понравилось, она начала кричать: — Кара́м, карами́т, карамит… Подножек не давать!.. Ну спрашивается, откуда девчонка может знать про карам? Мне захотелось крикнуть ей что-нибудь такое, чтобы она больше рта не раскрывала. Смотрю, а Ата смеется. Ну да, лежит подо мной, а сам смеется. От злости я засопел: — Что, поражению своему смеешься? — Но мы ведь не уславливались давать подножек. — У войны только одно условие — побеждать. Уж лучше ты признай свое поражение. — Нет, ты лучше мне скажи: мы с тобой сейчас деремся или боремся? А то я засомневался. Честно говоря, я и сам не знал этого. Хотя мы в самом начале прибыли сюда, чтобы драться, постепенно как-то получилось, что мы перешли на борьбу. — Понимай как хочешь. — Я встал и стал отряхиваться. Я знал, теперь Ата все равно не сможет мне ничего сделать. Ата протянул мне руку, как это делают борцы-спорт смены. Мы пожали друг другу руки. Я не обратил внимания на балаболку Джерен, которая трещала, как сорока, что мы пришли драться и что нам надо заново схватиться, а подошел к плите и сделал поправку в надписи. «Базар — Ата 1:0» заменил на «2:0». Это подействовало на Ата хлеще, чем его поражение. Усевшись на ишаке вместе с Джерен, он пригрозил: — Ну и пиши, если хочешь, все равно мы с тобой еще раз встретимся! Джерен высунула язык. Я схватил попавшийся под руку кусок коровьего помета и бросил вслед ей. Помет ударился о зад скачущего ишака и разлетелся на куски. — Эх ты, ябеда! Ну и завязывай свои косички! Все равно никто не женится на тебе… И когда паспорт получишь, все равно никто не женится!.. Потому что ябеда…
Буран
Приходится очень долго ждать, пока отыщется первая желтая дыня. Зато назавтра обязательно пять-шесть желтых дынь покажется. На третий день желтеют уже десять — двенадцать дынь. А потом уже и искать не надо, и принюхиваться. Какой стебель ни подними, всюду лежат желтые дыни. И одна красивее другой. Словно выставляют себя напоказ: «На, возьми меня!» Дедушка уже дня два, до того как я проснусь, срывает желтые дыни и складывает их на краю грядки. А я перетаскиваю их к шалашу. Если дыни небольшие, то я беру под каждую мышку сразу обе. А если они побольше, то приходится таскать по одной. Удивительное дело: когда дынь было мало, искать их было очень интересно, а теперь, когда их полным-полно, весь интерес пропал. И таскаю я дыни потому, что нужно помочь дедушке. Сегодня утром, когда я обхватил две дыни и собрался тащить их, мне показалось, что впереди мелькнуло что-то серое, какие-то уши. Побросав дыни, я в два прыжка оказался в соседней грядке. И увидел хвостик удирающей крольчихи. А следом маленьких крольчат. — Дедушка, беги, здесь крольчиха и крольчата! — во все горло закричал я. Дедушка осторожно сложил на земле дыни, которые держал в руках, и подошел ко мне: — Я же говорил тебе, что, наверное, крольчиха окотилась. — И он вместе со мной направился в ту сторону, куда убежала крольчиха. Вскоре мы увидели, что все кроличье семейство спряталось в густых зарослях. Там крольчиха вырыла нору для себя и для своих крольчат. Вон она где, оказывается, эта нора. Но я теперь не буду разрывать ее. Главное, что я увидел крольчиху и ее детей. — Сколько их там? — спросил дедушка. Я сказал, что не успел посчитать. — Ничего, в следующий раз сосчитаешь. Я и сам был уверен, что еще увижу их. Они испугались моего крика и спрятались, но вскоре они опять покажутся. Не будут же они вечно сидеть в норе. Я нарезал охапку люцерны, положил ее возле норы. Принес воды в миске: «Ешь на здоровье, расти своих детишек!» Да я бы для них что угодно находил, приносил, не давал бы их в обиду. Но крольчиха оказалась капризной. Она скрылась в своей норе и так и сидела там. Даже не прикоснулась ни к люцерне, ни к воде. Я то и дело ходил к норе посмотреть и всякий раз огорчался: и не попробовала ничего, противная! — Ты не ходи так часто, она тогда скорей вылезет, — посоветовал дедушка. Несмотря на то, что меня занимало кроличье семейство, я не забывал про Ата. По правде сказать, мне не хотелось еще раз вступать с ним в бой, но я жалел, что он больше не появлялся. Если подумать, то он совсем неплохой мальчишка. Пока мы дрались там в крепости, я не думал об этом, а сейчас вот начинал понимать. И поздоровался он со мной первый. И в его приветствии был какой-то примирительный тон. Это ему удалось превратить драку в спортивную борьбу. Он пожал мне руку. Это не каждый сделает. Нет, нет, Ата зря не задирается. Если бы не Джеренка, вполне возможно, мы с ним бы стали друзьями. Честно говоря, мне хотелось с ним подружиться, только я не знал, как это сделать. Да и некогда мне было. Мы готовились встречать «высокого» гостя. Уже несколько дней неподалеку от нашего шалаша паслась овца, привезенная дедушкой с пастбища. Как-то утром вдруг послышалось тарахтенье трактора. Я оглянулся и увидел, что трактор движется по дороге прямо к нам. А за ним на тросе тянется сколоченный из досок помост. Приглядевшись, я узнал этот помост. На нем обычно выступали участники художественной самодеятельности, приезжавшие на полевой стан. Мы с ребятами часто ходили смотреть их выступления. Трактор дотянул помост почти до самого нашего шалаша. Потом помост отцепили от трактора. Он был такой большой и тяжелый, что папа и еще двое мужчин с трудом установили его в тени под деревом. — А это зачем? — спросил я, но мне никто не ответил. Все в последнее время были очень заняты. Пасти верблюдицу теперь полностью поручили мне. Но я уже не сидел возле нее, как в первый день. Утром выгонял ее, стреноживал и отпускал пастись. Днем пригонял, чтобы мама подоила ее, а потом опять выгонял на пастбище до вечера. И вот однажды вечером я пришел к зарослям колючки, а верблюдицы нет. Пропала! Я обыскал все вокруг, звал ее, облазил окрестные кусты — нигде не видно. Можно было подумать, что она, как крольчиха, вырыла себе нору. Но мне было не до шуток. Но не иголка же она, чтобы затеряться? Что делать? Прийти домой и сказать, что потерял верблюдицу? Дедушка скажет: «Отправь ребенка с делом, а сам беги следом!» Это очень обидная поговорка. Ведь я не маленький ребенок. Я знаю, дедушка сядет на своего ишака и сам поедет искать верблюдицу. Конечно, после этого он мне больше никогда ничего не доверит. А я ведь так просил, чтобы мне позволили пасти верблюдицу, и вот потерял ее. Нет, я не могу идти домой. Надо самому отыскать ее. Я долго думал. Потом направился прямо в сторону капала. Потому что я вспомнил, как-то дедушка говорил: «Верблюдица наша посолониться захотела, я пригнал ее из-за капала. Как мы солим пищу, так и верблюду иногда хочется соли, — объяснил дедушка. — Тогда он бросает свою колючку и отправляется есть растения, которые растут на солончаке. А когда он не может найти эти растения, то просто лижет соленые выступы земли». Я слыхал, что за каналом есть солончак. И поэтому сразу же направился туда. Мне казалось, что верблюдица наша непременно должна быть там. Расстояние между нашим шалашом и каналом не такое уж и близкое. Пешком туда идти два часа, а на ишаке — час. Я бегом добежал до моста. По эту сторону моста раскинулись бескрайние хлопковые поля. А по ту сторону росли серые кустики. Вот туда я и направился. Я знал, что эти серые кустики растут на солончаке. Верблюдица непременно должна быть там. Я встал на мосту и стал оглядывать все вокруг, но ничего не увидел. Верней, увидел все, кроме верблюдицы. Перейдя через мост, я прошел еще некоторое расстояние. Верблюдицы моей и здесь не было. Я стал думать: идти дальше или вернуться назад? Уже вечерело, скоро начнет темнеть. В душу закралась тревога. Стало тоскливо одному в этой бескрайней пустыне. Как ни грустно мне было возвращаться, не найдя верблюдицы, все равно я повернул назад. Солнце село. Еще немного, и совсем стемнеет. Тогда не то что верблюда, хорошо бы мост отыскать. Хотя от усталости болели ноги, я всю обратную дорогу тоже бежал. Главное, до наступления темноты добежать до моста. Дальше идти было уже не так страшно. Потому что от моста до нашего шалаша пролегает песчаная тропинка. Если следовать строго по ней, то она приведет вначале к крепости. После крепости будет забор, за которым сушили хлопок. А дальше я могу с закрытыми глазами найти наш шалаш. Оказывается, я вовремя повернул назад. Я еще до моста не добежал, а серые кустики пришли в движение. Начался ветер. Он дул все сильней и сильней, гнал круглые шарики перекати-поля и кидал их в канал. Как только я перешел через мост, упругий ветер преградил мне путь. Он толкал в грудь, не давал вздохнуть. Все погрузилось во тьму. Мне казалось, я ослеп. Я шел, останавливался, снова шел и вдруг потерял дорогу. Песчаная тропинка в безветренную погоду в лунную ночь очень отчетливо видна. А сейчас ветер замел ее. К тому же он поднимал столбы песка, которые залепляли мне глаза. Я пытался идти, закрыв лицо руками, но двигался очень медленно, сам не зная, куда иду. «А может, я вовсе и не домой иду, а в обратную сторону или в пустыню?» — со страхом подумал я. Как бы там ни было, а до крепости я все же добрался. Когда я взобрался на холм, мне стало немного легче. Попытался выяснить, в какую сторону дальше идти. Но здесь ветер был еще сильнее. Я пытался выпрямиться, но ветер не давал, толкал так сильно, что я чуть не падал. Может, лечь ничком возле ограды и переждать, пока ветер прекратится? Но ведь до утра меня заметет, в рот набьется песок, а голодные волки окружат меня и сожрут. Что же все-таки делать? Может, мне войти внутрь и спрятаться в одной из пещер за каменной колонной? Я знал, в пещерах ветер свистит не так сильно, как снаружи. Но мне не хотелось смотреть в зияющие чернотой отверстия пещер. Вспомнились всякие слухи, которые ходили об этих местах. «Какой-то чабан вошел в крепость и хотел там заночевать, но ночью его подняла молодая женщина со звенящими украшениями — хозяйка Алтын-тепе — и гонялась за ним…» Я не верил в эти россказни. И все равно почему-то сейчас они вспомнились мне. Я вспомнил свою надпись на плите и удивился, как я мог, не боясь всего этого, сделать надпись. Мне даже начало казаться, что где-то неподалеку стоит хозяйка Алтын-тепе со звенящими украшениями и говорит: «Пусть только попадется мне мальчишка, сделавший здесь надпись!» От страха мне хотелось плакать, но и плакать я боялся. Сидел под крепостной оградой, словно окаменевший. А ветер со свистом несся мимо меня. Потом налетал новый шквал ветра, еще более сильный. Мне показалось, что вдали мелькнул огонек. В страхе я закрыл лицо руками. Сижу и не решаюсь оторвать руки от лица. Мне чудилось: открою глаза, а женщина в белом совсем близко. И этот непонятный огонь, который померещился мне, — чей он? Кто его зажег? Может, лучше вскочить и бежать все равно куда, только подальше, от Алтын-тепе? Я осторожно посмотрел сквозь пальцы: никакой женщины в белом не было, но огонек по-прежнему маячил вдали. Когда ветер утихал, огонек казался более ярким. Он то вспыхивал ярче и выше, то гас. Хотя мне казалось странным, что огонек то вспыхивает, то гаснет, тем не менее я понял, что это настоящий огонь, а не кажущийся. Собственно, какая разница, что это за огонь? Если горит огонь, значит, там люди. Мне сразу стало легче. Подойду, скажу, что заблудился. Я решил пойти в ту сторону, где виднелся огонь. Но тут вспомнил слова дедушки: «Говорят, ночью никогда не иди на огонь, днем — на дым. Ночью огонь виден очень издалека» — и заколебался. Но вместе с тем я понял, что и в крепости оставаться не могу. Уж лучше идти куда угодно, чем оставаться в этой крепости, быть засыпанным песком или встретиться с хозяйкой Алтын-тепе. Я двинулся в путь. Вокруг была темнота, но я старался все время смотреть на огонек. Когда пламя вспыхивало, я двигался вперед, когда оно гасло, я в страхе останавливался. Дороги не было видно, не попадалось никаких кустиков. Один песок вокруг. «Только бы не пропал огонек!» — твердил я про себя. Пламя становилось все ярче и ярче. «Надо поскорее добраться! — торопил я себя. — Бегите, ноги, бегите!» И вдруг я почувствовал, что куда-то лечу. В глазах потемнело. Я испугался, не сломалась ли опять моя нога. Представил себе пахнущую лекарствами больницу, бородатую медсестру и себя, лежащего с забинтованной ногой. Потрогал ногу — целая. Подвигал ею — ничего, можно идти дальше. Только куда это я провалился? Я ощупал все кругом и понял, что сижу в канаве. Я обругал того, кто вырыл канаву. Настоящая траншея! И зачем только она ему понадобилась в пустыне? Я видел в кино, что на фронте рыли такие траншеи. Но там в них прятались от пуль и снарядов. А здесь зачем? И вдруг я сообразил, что это вовсе не траншея, а та самая нора, которую я разрыл, разыскивая крольчиху. Ну конечно же, та нора! А огонь виднелся от нашего шалаша. Я не знаю, как прошел остаток пути. Знаю только, что кинулся в объятия мамы. Она дала мне воды: — Пей, сыночек, пей. Пей, золотой мой, наверно, ты напугался. Пей, остуди свое сердце. Только теперь я почувствовал, как хочу пить. Я напился, и мне сразу стало легче. Слезы радости покатились из глаз. Я увидел огромную головешку, все еще продолжавшую гореть неподалеку. Ничего спрашивать не надо. И так все было ясно. Оказывается, мама обмотала палку тряпкой, сунула в солярку, подожгла и размахивала ею все время, пока я не нашелся. А вспыхивала и гасла она потому, что столб пыли временами заслонял пламя. Это дедушка велел ей так делать: «Ты беспрерывно размахивай палкой. Огонь будет виден издалека. Если Базарджан заблудился, он увидит огонь и пойдет на него». Так дедушка велел маме, а сам сел на ишака и отправился искать меня. Потом мы с мамой стали поочередно размахивать горящей палкой, показывая путь дедушке. Временами я, приложив ладони рупором ко рту, кричал изо всех сил. Но уже близилась полночь, а дедушки все не было. Я устал и уснул. А мама так и не ложилась спать. На рассвете я проснулся от ее голоса: — Ах, наверно, он вместе со своим ишаком упал в канал! Иначе к этому времени должен был бы вернуться! — причитала она, расхаживая вокруг шалаша. Я посмотрел по сторонам. Словно я не дома ночевал, а где-то в чужих краях. Ничего вокруг не узнать. Ветер за одну ночь переселил наш шалаш. В ведрах с водой полно песка. Посуды не видать, все засыпано песком. Кошмы, которыми был устлан шалаш, тоже засыпаны толстым слоем песка. Валяются в грядках сорванные ветром дыни… Стебли арбузов перепутались. Стога колючки, сложенные возле огорода, будто кто-то унес. Зато появились новые барханы. Они были похожи на улегшихся верблюдов. Я удивился силе ветра. И еще вспомнил, как рассказывала учительница Шекер, что когда-то Алтын-тепе был городом и его засыпало песком. Теперь я поверил в это. Но мама словно не замечала беспорядка, который натворила песчаная буря. Она ходила из стороны в сторону, разговаривая сама с собой: — Ах, меня надо казнить, зачем я его отпустила! Старенький он, и глаза у него слабые. Наверно, доехал до канала и угодил туда. Вода угнала его… Я вспомнил, рассказывали в ауле: у одного человека как-то верблюд подошел к краю канала, чтобы напиться, поскользнулся и упал в воду. Через несколько дней у водораздела нашли труп этого несчастного верблюда… Мне было жаль маму. Но я не знал, как ей помочь. Как искать дедушку? Сбегать в аул? Но это далеко. До полудня не добегу, да и мама не отпустит. А кто может нам помочь здесь, в пустыне?.. Я уже хотел попросить маму, чтобы отпустила меня. Добегу до аула, позову людей — искать дедушку. На счастье, вдруг показался самосвал. Это ехал шофер Ораты́. Он часто приезжал к нам на бахчу.Сначала за огурцами, потом за дынями для людей из папиной бригады. Мама обрадовалась, словно увидела родственника: — Мой дорогой братишка, гони свою машину в аул. Скажи: наш дедушка в канал упал. Ораты пытался успокоить ее, говорил, что не может такого быть. Но мама и не думала слушать его. Она подтолкнула его к кабине: — Езжай скорее, Оратыджан, случилось несчастье!.. Ораты сел в машину и поехал, поднимая клубы пыли. Я не знал, поехал ли он искать папу, сообщить ему, или же поехал на поиски дедушки, или же за подмогой в аул. Но еще не развеялась пыль из-под его колес, как на нашей «Победе» приехал папа. Он вышел из машины и, не подходя к нам, остановился, пораженный тем, что натворил ветер. Стоит и качает головой. А мама плачет, рыдает, знай свое причитает: — Ты такой несчастный, папочка! Судьба твоя такая несчастливая, папочка! В этом мире ты только и видел, что одни страдания, папочка! Молодым ты стал инвалидом, папочка! Мама умерла, ты осиротел, папочка! И сын покинул тебя, папочка… Я никогда раньше не думал, что наш дедушка несчастливый. Напротив, он обычно такой веселый, любит пошутить. Но говорила мама очень складно, будто стихи слагала. Только вот насчет дяди Дурды она неправа. Почему это он покинул его? Он не покинул, он просто уехал к жене. У него хорошенький сын. Мы все вместе собирались ехать в Ашхабад. Мама временами утихает, а потом снова начинает пуще прежнего: — Почему, почему ты должен был умереть не по-людски, не дома… Только-только у тебя внучек родился, ты его и не увидел, не порадовался ему, папочка… Мне кажется, что мама не плакала бы сильнее, даже если бы дедушка умер и лежал бы сейчас в доме. Папа пытался успокоить ее: — Прекрати, Халлы, зачем ты такие слова говоришь? С твоим отцом ничего не случилось. Он скоро объявится, даст бог! — Ах, я ведь знаю, откуда он появится. Он из-под воды появится… Иди зови людей, пусть ищут его. Папа понял, что уговаривать маму бесполезно. — Ты, сынок, побудь рядом с мамой, а я съезжу в аул, — сказал он. Но мне не хотелось оставаться. Уж очень тоскливо выглядело все вокруг после песчаной бури. Ревя, я вцепился в папину машину. Он одной рукой схватил меня и толкнул к шалашу. — Как тебе не стыдно! Ты что, маленький! Мама — женщина, а ты-то что? Будь здесь, не оставляй маму одну. Я найду дедушку и приеду… Мы и не заметили, как подъехал Ораты. — Тетя Халлы, дай мне бушлук! Я нашел Белли-ага! — закричал он. Мы все трое — папа, мама и я — посмотрели в ту сторону, куда была протянута рука Ораты. И увидели, что дедушка ехал на своем ишаке и гнал верблюдицу. Я от радости обнял маму. А папа сказал: — Постой-постой, что он там везет впереди себя? — Верблюжонка, — с улыбкой ответил Ораты, — ведь ваша верблюдица родила. Беги, Базар, встречай дедушку. Все мы побежали навстречу дедушке. Он ехал, улыбаясь, а впереди него поперек седла лежал темный кудрявый верблюжонок. Голова верблюжонка и передние ноги на одной стороне седла висят, а две задние через другую сторону седла перевесились. Папа сказал: — Бедняжка, она, видно, и ушла подальше от людей, чтобы родить. И только тогда я узнал, что верблюдица никогда не рожает в хлеву, она всегда уходит куда-нибудь подальше от людских глаз. Папа с Ораты сняли с ишака верблюжонка и поставили его на дрожащие ноги. Верблюдица подошла к нему, облизала его и стала кормить. Мама, словно силы покинули ее, опустилась на землю и замолчала. По ней не видно было, радуется она или нет. Сидит какая-то отрешенная. Папа торопливо сел в машину и сказал: — Завтра гость приезжает, постарайтесь все успеть!Кем оказался «высокий» гость
Сюда приходят в любое время, здесь всегда найдется занятие. Во всяком случае, я так считаю. Можно наблюдать за человеком с желтым флажком в руках и со свистком, смотреть, как он гоняет взад-вперед вагоны, одни прицепляет, а другие отцепляет. Удовольствие смотреть и на новенькие машины, проезжающие на вагонетках. И еще можно заняться чтением надписей на вагонах: «25 т», «50 т» или же «нефть», «бензин», можно подсчитать количество цистерн в железнодорожном составе. Интересно смотреть на коров и коней, стоящих в красных вагончиках с прибитыми к входу досками… А станционное здание, на фронтоне которого выведены крупные цифры: 1894! Дедушка сказал мне, что эти цифры означают год, когда была построена станция. Разве это не интересно? С тех пор как мы приехали сюда, я верчу головой по сторонам. Зато папа ничего вокруг не замечает. Он уже в который раз подходит к дежурному по станции в красной фуражке и спрашивает у него, вовремя ли придет поезд. Смотрит на большие часы, висящие на станционном здании, потом, приложив ладонь козырьком к глазам, смотрит на восток, спрашивает у меня: — Посмотри, сынок, рука не поднялась? Рукой он называл перекладину на высоком железном столбе. Издали этот столб и в самом деле похож на великана с одной рукой. Казалось, великан то вытягивает руку, то немного приподнимает ее, и тогда загорается зеленый огонек. Это значит: путь открыт, поезд приближается, ожидайте. Когда я в первый раз приехал на станцию, я узнал, что столб с «рукой» называется семафором. Раныпе к столбу подходил работник станции и вручную поднимал перекладину. А теперь дежурный, не выходя из комнаты, нажимает на кнопку, и «рука» эта сама поднимается. — Да, вроде бы по времени поезд уже должен подъехать, — говорит папа, останавливаясь возле нас. У дедушки, который сидит на бетонном парапете на краю перрона, кажется, тоже лопнуло терпение. Словно не веря станционным часам, он без конца вынимает из внутреннего кармана своего халата, сшитого из домотканой верблюжьей шерсти, часы на длинной цепочке, с щелчком открывает их крышку и смотрит на циферблат. Подвинул в тень букет цветов, завернутый в бумагу. Больше всего он беспокоился, что цветы могут завянуть. Ведь они предназначены «высокому» гостю. Нам-то с папой и в голову не пришло, что гостя надо встречать с цветами. Но дедушка был на фронте, много городов повидал, многому научился. Он сказал нам: «Я соберу букет цветов и сам приеду на станцию на своем ишаке». Я приехал на станцию встречать гостя вместе с папой на машине. Мама приготовила мне нарядную вышитую рубаху. На голове у меня новенькая расшитая тюбетейка. Я думаю: «Скорей бы приехал поезд, и я бы увидел этого «высокого» гостя. Правда, как я узнаю его, если даже увижу? Ведь мне не известно, кого мы встречаем. Нет, — думаю я, — узнаю. Потому что он должен быть высоким». Наконец долгожданный момент наступил. На станции началась суматоха. Девочки, продававшие дыни, подхватили их под мышки и повскакивали с мест. И продавцы винограда, и продавцы персиков пораскрывали свой товар. И тут я заметил, что рука семафора поднята и горит зеленый свет. Сотрясая землю, приближался поезд. — Шестой вагон не пропустите! — взволнованно выкрикнул папа. Вскоре подкатил тепловоз с гербом на лбу, проехал мимо нас. «А вдруг он проедет, не остановившись?» — с волнением подумал я. — Вон шестой! — выкрикнул я, но папа уже бежал вдоль вагона. И дедушка, подхватив цветы, заскакал в ту сторону. И я тоже побежал за ними. Поезд остановился. Огромные его колеса замерли. Все мы стоим перед шестым вагоном, ожидая, когда раскроются его двери. Вначале из вагона выпрыгнул стройный юноша в солдатской форме. Как только его ноги в блестящих сапогах коснулись земли, он сразу же попал в объятия матери. Она стала обнимать и целовать его. Потом его прижал к груди отец. Потом целая куча братишек и сестренок стали обнимать брата. «Ты вернулся благополучно, поздравляем!» Они ведут себя так, словно поезд этот привез только их сына. Они и не думают, что еще кто-то может сойти с поезда или сесть в него. «Ну и что, что вернулся из армии, не с фронта же!» Как только они отошли от двери вагона, оттуда спрыгнул на землю невысокий русский мужчина с огромной лысиной и посмотрел на папу. А папа на него. И вдруг лысый мужчина закричал: — Коссек! И папа: — Миша! Они обнялись и, казалось, позабыли обо всем на свете. Я стоял с открытым от удивления ртом. Неужели мы этого человека встречали? Почему же его называли «высокий гость»? Он совсем невысокий, даже ниже папы. Они всё обнимаются. Кажется, папа наконец вспомнил, что и мы с дедушкой ждем своей, очереди. Вытерев повлажневшие глаза, он показывает на нас. — Здравствуйте! — Я первым протянул руку. — Здравствуй, Базар! — Гость обнял меня и поднял в воздух. (Интересно, откуда он знает, что меня зовут Базаром?) — А я дядя Миша. — Гость опустил меня на землю и повернулся к дедушке. Схватил его руку и так и стоит, пристально заглядывая ему в глаза. Дедушка тоже разволновался, даже забыл вручить цветы, которые все еще держал в руках. Потом он вспомнил о них и протянул гостю. Дядя Миша взял их и протянул мне. — Иди, сынок, в вагон и отдай их женщине, которая сидит у второго окна. Я неуверенно вошел в вагон. В тамбуре меня сразу же встретили мальчик с девочкой, которые все это время наблюдали за нами. — Это нам? — с улыбкой спросила девочка. Я растерялся, не зная, что ответить. Девочка выглянула в дверь и звонким голоском спросила: — Папа, эти цветы нам? — Да, да, отнесите их маме! И выходите, мы уже приехали. Только после этого я понял, что это тоже наши гости. Подошла женщина с посеребренными сединой волосами, обняла меня и поцеловала в лоб. — Значит, ты Базар? Я кивнул. Женщина показала на мальчика с девочкой. — А это Володя и Лиля. Познакомьтесь! — Ну, вот, Маша, это мой названый брат Коссек, — сказал дядя Миша, войдя вместе с папой в вагон. — Здравствуйте, дорогой Коссек! — протянула женщина руку папе. — Добро пожаловать, Мария Михайловна! — сказал папа. Когда вытащили на перрон вещи, дядя Миша оглядел станцию. — «Кара-бата», — не то прочитал, не то проговорил он название станции и добавил: — Тридцать пять лет прошло! А, Коссек? Я словно сквозь сон помню, как мы тогда сошли с поезда и сидели на земле. А вот и кран с водой! До сих пор стоит! — показал он на водопроводный кран, на котором была надета толстая белая труба, обложенная внутри соломой, чтобы зимой в нем не замерзла вода. Дядя Миша подошел к крану и напился из него. — Помнишь, у этого крана я выхватил у какого-то мальчишки кусок хлеба и начал быстро есть его. Мама бросилась ко мне и стала трясти меня за плечи, а твоя бабушка обняла меня, сказала маме: «Не бей его, ребенок не виноват!» Потом разломила круглую лепешку и раздала ее всем нам. И я и Володя с Лилей с удивлением слушали, что говорил дядя Миша. Он заметил наше удивление и сказал: — Тяжелое было время. Нас тогда эвакуировали из Ленинграда после блокады. Хотя по дороге нас кормили, все равно чувство голода не проходило — казалось, никогда не наешься досыта. — Пусть никогда не повторятся такие времена! — откликнулся папа. — Ну, пошли, друзья! Михаил Антонович во время воины жил в нашем ауле, — сказал папа, обращаясь ко мне, к Володе и Лиле. — Мы вместе работали в колхозе, помогали взрослым, хотя были ненамного старше вас, и очень дружили. Теперь я понял, почему дядя Миша назвал моего папу братом, а дядю Мишу у нас дома называли «высоким гостем». Всей группой мы направились к нашей «Победе», которая стояла возле водокачки. Папа, неся два больших чемодана, пошел впереди. Держа шляпу в руках, дядя Миша шел рядом с ним. От них не отставала и Лиля, которая несла в руках две красивые картонные коробки, обвязанные шелковыми лентами. Мы с Володей вдвоем несли огромную корзину, набитую неизвестно чем и прикрытую сверху белой марлей. Володя замедлил шаг и сказал: — Что-то очень тяжело, давай поменяем руки. — И ничуть не тяжело, — возразил я, но все же мы поменялись местами. Теперь он нёс корзину в правой руке, а я в левой. Я сказать-то сказал, но корзина была действительно тяжелой. Мы остановились отдохнуть. Володя повернул свою ладонь, на которой остался след от ручки корзины, и улыбнулся: — Ничего, что тяжелая, зато очень нужная. Это мы вам везем. Знаешь, что там есть? Вафли, конфеты, шоколад. А у Лили в руках крейсер. — Что за крейсер? — не понял я. — Ну, крейсер «Аврора». Не знаешь, что ли?! Кто же не знает про «Аврору»! Только откуда же мне было знать, что в коробке у Лили крейсер «Аврора». — Точный макет «Авроры». Очень интересный, вот увидишь, — сказал Володя. — Я его тебе в подарок привез. Я промолчал, но радость была написана на моем лице. Макет известной «Авроры»… «Почему они не приехали, когда шел учебный год, — подумал я. — Я бы отнес его в школу и показал ребятам. Интересно, что бы сказала Джеренка?» А еще мне захотелось показать крейсер Ата. Володя крикнул сестре: — Лиля, куда ты мчишься, а ну, подожди нас! Дай сюда «Аврору»! Он не стал ждать, когда Лиля остановится, а бросил корзинку и побежал к ней. Взял у нее одну из коробок и протянул мне. А тетя Маша и дедушка шли в сторонке, словно они и не с нами, и о чем-то оживленно беседовали. Я хоть и не слышал, но догадывался, о чем они могут говорить. Наверно, тетя Маша спрашивает у него, где он оставил свою ногу. А дедушка совсем как нам отвечает: «Ногу мою фашисты украли. Когда моя деревянная нога поломается, я пойду и заберу у фашистов свою ногу». Пока мы грузили чемоданы в машину, дедушка уже оседлал ишака и отправился в путь. Тетя Маша села впереди, рядом с папой. А на заднее сиденье сел дядя Миша. Потом, осторожно придерживая подарок, влез я. Но когда настал черед садиться Володе с Лилей, они заспорили. Никто не хотел садиться в машину первым. Мне стало стыдно. «Наверно, они в городе на новеньких машинах катаются. Конечно, им не хочется садиться в нашу старую «Победу», — подумал я. И только когда мать строго глянула на них, они прекратили спор. Володя влез в машину, следом за ним села улыбающаяся Лиля. Оказывается, каждый из них хотел сесть возле окна. — Я ведь говорил, чтобы не брали эту противную девчонку, — сказал Володя, когда машина тронулась. — Это Вовку надо было не брать, — вставила Лиля. — Ну ладно, ладно, в следующий раз посмотрим, кого из вас не брать, — сказала Мария Михайловна. Мне не понравилось, что мы поехали не в аул, а свернули на дорогу, которая вела к бахче. Конечно, гостям надо и огород наш показать, и шалаш. Но ведь вначале надо отвезти их домой. Отдохнут, а потом уже можно и на бахчу их свозить. Если бы папа посоветовался со мной, я бы так и сказал. Но папа не спросил моего совета. И теперь мы почему-то везли гостей не в аул, где у нас хороший дом, в котором много комнат, а в шалаш. Я молчал, но недовольно думал: «Встречаем «высокого» гостя, а сами на разваленной «Победе». Я ведь говорил папе: «Давай для такого случая попросим у кого-нибудь новую машину. Ведь в ауле почти в каждом доме есть машина». Но папа не послушался меня, а дедушка сказал: — Ты, наверное, плохо знаешь своего папу, Базар-джан. Он ведь не из тех людей, кто в чужих нарядах ходит на праздники. Не бойся, наш гость не обидится.Мама поразила меня
Взрослые, когда очень сильно чему-то удивляются, говорят: «Я положил перед ним шапку». Если бы и мальчикам можно было бы так говорить, то я «положил бы шапку» перед мамой. Мне казалось, после того, что натворила вчерашняя буря, нужна будет по крайней мере целая неделя, чтобы навести порядок в шалаше и вокруг него. Правда, вечером папа и Ораты подняли наш покосившийся шалаш. Покрыли его со всех сторон новыми стеблями кукурузы и в нескольких местах привязали проволокой, чтобы его снова не унес ветер. А образовавшийся у входа в шалаш бархан они раскопали лопатами и отбросили песок подальше. Дедушка собрал дыни, сорванные бурей. Но все это даже не полдела. В шалаше работы было много, очень много. Посуду надо вымыть? Надо. Надо выдернуть из-под песка кошмы, постель, вытряхнуть их? Надо. Подмести все возле шалаша надо? Надо. Невозможно перечислить все работы, которые необходимо было сделать. Именно поэтому мне не хотелось везти гостей сюда. Ведь лучше же находиться в хорошем доме с чистыми уютными комнатами, чем в сваленном ветром шалаше, где все вокруг заметено песком. Где они здесь будут сидеть, спать?.. Такие мысли всю дорогу не давали мне покоя. Оказывается, я зря беспокоился. Стою, раскрыв от удивления рот. Все прекрасно. Что надо подмести — подметено, что протереть — протерто. Вокруг шалаша полито. Теперь мне стало ясно, для чего сюда перетащили помост, на котором выступали участники художественной самодеятельности. Его поставили в прохладном месте, подложив под него кирпичи. На нем постелили новенькие кошмы, ковры, по которым еще никто не ходил. Лежит несколько красивых пуховых подушек. И даже душ наполнен водой. Рядом приготовлено мыло, повешены чистые полотенца. Ну и как после всего этого не «положишь шапку» перед мамой?! Когда мы приехали, она находилась возле тандыра. Мы еще с машины не сошли, как в нос мне ударил вкусный запах. Мама сунула руку в нарукавнике в тандыр, наклонилась, вынула оттуда последнюю лепешку и положила ее на репиле́ — специальную форму для прилепления чурека к стенкам тандыра. не снимая передника, побежала к нам. И сразу же обняла тетю Машу. Двумя руками взялась за локоть правой руки дяди Миши и поздоровалась с ним по-туркменски. Потом обняла Володю и Лилю, поцеловала их. — Какие прелестные дети! — Володя и Лиля, — представила их мать. Мама заново обняла Лилю: — Ах, до чего же у тебя прекрасное имя. По-туркменски — Лейла́.— Потом мама побежала к тандыру и принесла оттуда лепешки. Взяла самую верхнюю из лежащих стопкой лепешек и протянула ее дяде Мише. Желтая пшеничная лепешка золотом отлила при лучах знойного летнего солнца. Дядя Миша вначале три раза поднес лепешку ко лбу. — А ты, оказывается, не забыл наш старый туркменский обычай, — засмеялся папа. — Я ничего не забыл, дорогой Коссек! — отвечал дядя Миша. Он отломил от дымящейся лепешки маленький кусочек, сунул его в рот и поднял указательный палец: — Ох, Маша, только попробуй, и ты никогда в жизни не забудешь вкус тандырного хлеба. И тетя Маша, и Володя, и Лиля — все попробовали по кусочку лепешки. Мама пригласила их в шалаш. — Может быть, с дороги помоетесь? — предложил папа. — С удовольствием, — кивнул дядя Миша. Папа повел его к нашему душу. Собственно, это не настоящий душ, а просто два вкопанных столба, наверху которых укреплена бочка с водой. Если утром наполнить бочку, то никакого огня не надо. Солнце нагревает воду чуть ли не до кипения. Но как ни хорошо мыться под душем, я предпочитаю купаться в проточной воде арыка. Потому что погода жаркая, хочется освежиться. И вообще, проточная вода — совсем другое дело. Прыгай с берега, плыви по течению или против течения, ныряй. Как только я предложил Володе отправиться к арыку, он запрыгал от радости. Когда мы вернулись с купания, уже и дядя Миша, и тетя Маша, и Лиля искупались под душем, причесались, переоделись. — Базар, возьмите меня тоже в следующий раз купаться на речку, — попросила Лиля. — Да мы на арык ходили, — ответил ей я. — Здесь нет реки. В Каракумах есть только одна река. Мы ее каналом называем. В ней купаться невозможно. Даже верблюда уносит течением, — объяснил я. — Глубоко там? Течение сильное? — затараторила Лиля. — Конечно, река глубокая. Мы ведь сами рыли ее, — похвалился я. — Сами реку рыли? — не поверил Вовка. — Ну, конечно, не я, взрослые копали и назвали канал именем Ленина. В наших краях вода — самое важное. Так папа говорит. Пойдемте, лучше я покажу вам маленьких крольчат. — Пошли! — сказал Володя, но вдруг остановился. Я догадался, что ему не хочется брать с собой Лилю. И Лиля это поняла. — Если Вовка не хочет идти, пусть остается. Пойдем мы с тобой вдвоем. — И она потянула меня за руку. Володе, конечно, хотелось посмотреть на крольчат, и он поплелся за нами. Но крольчиха на этот раз снова заупрямилась: сколько ни сидели мы у норы, спрятавшись за кустами, она так и не вышла наружу, и детишек своих не выпустила. Возможно, она испугалась голоса Лили. Я ей говорю: — Помолчи! У кроликов уши даже больше ослиных, они очень далеко слышат. Володя толкает сестру локтем. Но Лиля не может молча ни минуты просидеть, точь-в-точь как Джеренка. Наверное, все девчонки такие. В конце концов нам надоело высматривать крольчиху, и мы отправились на бахчу. — Если у тебя так чесался язык, говори теперь, — упрекнул сестру Володя. Но Лилю вовсе не обязательно просить, чтобы она разговаривала. Как только мы подошли к грядке с дынями, она своим звонким голосом засыпала меня вопросами: — Ой, вы посмотрите! Что это такое, Базар?! — Дыня. И вот те тоже дыни. Вся эта борозда засажена дынями, — объясняю я. Лиля восторгается: — Ой, как их много! Неужели же они все съедобны? — Ну конечно, если дыня, то съедобна. Разве ты видела и несъедобные дыни? — Грибы несъедобные видела. Правда, Вовка? — В лесу встречаются несъедобные грибы, — подтвердил Володя. — У вас, наверное, не растут грибы — ведь здесь нет леса. — А у нас грибы бывают в песках. У нас тоже поганки не едят. Но дыни все едят. И арбузы едят… — Кто же не знает, что арбузы едят, — улыбнулся Вовка. — А если знаешь, то скажи, чем различаются вот эти две дыни? — спросил я, показывая на каррыкыз и вахарман. Они переглянулись. Потом Лиля стала просить меня: — Ну скажи же, Базар! Я рассказал про разные сорта дынь, которые росли у нас на бахче, и показал их Володе и Лиле. Лиля смотрела и изумленно ахала. — У нас до ста сортов дынь, — сказал я и начал перечислять названия. Однако досчитал до десяти и запнулся. Вот дедушка, тот бы все сто, наверное, смог бы назвать. — Идите сюда, идите! — крикнула Лиля. — Вы только посмотрите на эту дыню! Какая она большая! Вовка, и ты даже не сможешь поднять ее… Базар, и ты… — Это не дыня, это тыква. — Я засмеялся. Лиля тихонько погладила тыкву, а Володя поставил на нее ногу. — Осторожнее, вдруг она сломается! — испуганно воскликнула Лиля. Я засмеялся. Володя попытался обнять тыкву, но у него ничего не вышло. Мы втроем уселись на тыкве и вытянули ноги. Рядом с нами можно было посадить еще одного человека, а может быть, даже двух. — Как же ее донести? — спросила Лиля. — Она такая огромная! — Очень просто. Ее можно покатить. Вдруг Лиля увидела висевшую на краю грядки люфу. — А это что? — Мочалка. — Разве мочалки растут? — А то как же. — Я думала, их просто покупают в магазине. — И хлеб в магазине покупают, а он растет в поле, — сказал Володя. — То хлеб, а то мочалка. А мыться ею можно? — Конечно, — сказал я, сорвал мочалку и вручил ее Лиле. — Намыль и мойся сколько хочешь. Лиля запрыгала, словно поймала попугая. — Нет, я не буду ею мыться, я спрячу ее и увезу в Ленинград. Мне очень нравилось, что Володя с Лилей всему удивляются, и я раздумывал, что бы им еще показать, но тут послышался голос мамы, звавший нас обедать. Мы побежали к шалашу. Я готов был еще раз «положить шапку» перед мамой. На помосте был накрыт стол, да какой красивый! Гости сидели по-туркменски — и дядя Миша и даже тетя Маша. — Как хорошо, Коссек, что ты привез нас сюда, на бахчу! — веселым голосом говорил дядя Миша. — Здесь такой воздух, такая природа! — Я даже не мечтала о таком! — вторила тетя Маша. — На всю жизнь запомню эту поездку! Я слушал их и думал, что папа, наверное, был прав, что привез гостей на бахчу.«Кто» или «что»
Когда дедушка вернулся, солнце уже было на закате. Прямо со станции он отправился на пастбище и теперь ехал на своем ишаке. За ним важно вышагивала наша верблюдица, а сзади семенил верблюжонок. Увидев верблюдицу с верблюжонком, Володя и Лиля замерли, словно перед ними было чудо, а потом бросились к ним. — Халлы, — позвал маму дедушка, — иди скорей, пока верблюжонок не припал к груди! Мама сполоснула ведро и побежала к верблюдице, но верблюжонок уже успел уткнуться носом в материнский живот. Верблюдица расставила ноги и нагнулась. Ее груди вдруг разом наполнились молоком, и хвост верблюжонка довольно оттопырился. Мама оттолкнула верблюжонка, волосатыми губами смачно сосавшего молоко. «Постой, малыш, постой! Ты пососал, дай и нам тоже молока». Я удерживал верблюжонка, обняв его. Бедняга жалобно заревел. — Мама, ну можно, я отпущу его, он еще не насосался. — Хватит и ему, — смеясь, сказала мама. — Хереле́, хереле, — стала она ласково успокаивать верблюдицу. — Верблюдица захочет, не даст молока. Ни корова, ни коза, ни овца так не может. Верблюдица успокоилась. Струи белого молока со звоном падали на дно ведра. Я стоял, обнимая верблюжонка за шею, а Володя и Лиля, пораженные, смотрели то на верблюдицу, то на маму. — Мама, папа! — закричала Лиля. — Идите сюда! Здесь верблюдица и верблюжонок! Настоящие, как в зоопарке! Подошли дядя Миша с тетей Машей и тоже стали смотреть, как мама доит верблюдицу. Все стояли молча. Были слышны только звуки льющегося молока и тихий рев верблюжонка. Мама надоила молока до самой ручки эмалированного ведра. — Хватит, можешь отпустить верблюжонка, сынок. Я подсунул голову верблюжонка, который уже не надеялся пососать молока, под мать. Но дядя Миша преградил верблюжонку путь. — Подожди, Базарджан, подожди немного. Пусть тетя Маша тоже попробует подоить. Мама полила на руки тети Маши воды, а потом повесила ей на шею пустое ведро. Но тетя Маша испугалась верблюдицы. — Иди, иди, не бойся, — смеясь, подталкивал ее дядя Миша. — Вдруг мы купим верблюдицу, а ты и доить ее не сможешь. Дядя Миша, конечно, шутил, но Лиля поверила. — Правда, папа, мы верблюда купим? Вот такого, с маленьким верблюжонком? А где мы их держать будем? Наконец-то тетя Маша решилась. опасливо прикоснулась она к груди верблюдицы. Но верблюды — очень чуткие животные. Верблюдица сразу почувствовала чужую руку. Она повернула свою кривую шею, прекратила жевать, прислушалась, недовольно огляделась по сторонам. Увидев, что ничего опасного нет, снова успокоилась. Но сколько ни тянула тетя Маша соски, в ведро не упала ни одна капля молока.
— Верблюдица чувствует, что твоя мама чужая, поэтому не дает молока, — шепнул я на ухо Володе. На помощь пришла мама. — Машенька, вы не тяните за грудь, а возьмите ее всю в руку и тихонько нажмите, — подсказала она. Этого было достаточно. Мощные струи молока попали не в ведро тети Маши, а обрызгали лицо дяди Миши. И на меня тоже немного попало. Дядя Миша вытер платком забрызганное лицо и засмеялся: — Ах, Маша! Видно, нам придется расстаться с мыслью купить верблюда. — Я же сказала, что у меня ничего не получится… — виновато произнесла тетя Маша и тоже засмеялась. И все мы засмеялись. И только Лиля не засмеялась. — И ничего смешного. Просто мама не научилась, поэтому и не может доить, — заступилась она за мать. Мама полотенцем вытерла капли молока с лица дяди Миши и сказала: — У нас есть пословица: «Хорошо, когда белое молоко касается чела». В первый же день приезда лицо ваше окроплено молоком. Даст бог, это к хорошему!.. Лиля не сводила глаз с верблюжонка, который снова припал к груди матери и сосал ее, оттопырив хвостик. — Посмотри, Вовка, посмотри, какие у него длинные ноги — даже выше моего роста. А ушки маленькие. — Завтра у него еще длиннее станут ноги. Ему ведь всего два дня от роду, — сказал я. — Ой, какая же у него приятная шерстка! Мягонькая. Потрогай же, Вовка! — кричала Лиля, совсем осмелев. Вовка не решался подойти к верблюдице поближе и, чтобы скрыть свой страх, сказал с важным видом: — Из верблюжьих шкур делают тулупы. Я знал, что тулупы делают из бараньих шкур, но не стал спорить. А Лиля все продолжала восхищаться верблюжонком: — Я никогда в жизни не видела маленьких верблюжат. Какой же он хорошенький! Мы с Володей отошли от верблюдицы и стали обсуждать, не пойти ли нам завтра в старую крепость. Володя уговаривал меня отправиться туда вдвоем, но мне было неудобно тайком уйти без Лили — ведь она тоже мой гость, хотя и девчонка. Мы стояли за шалашом и разговаривали. Вдруг я услышал голос Лили. Она говорила: — Кто это к нам пришел? Я подумал, что к нам на бахчу заявился еще какой-нибудь гость, и выглянул из-за шалаша. Никого постороннего не было. Стояла Лиля и гладила верблюжонка, который, насытившись, отошел от своей матери и приблизился к шалашу. Я удивился и спросил: — Почему ты говоришь про верблюжонка «кто»? Он же не человек. — Ну и что же, — сказала Лиля. — Ведь он живой. А если живой, говорят «кто», а не «что». — Если ты увидишь ишака или барана, ты тоже спросишь про него «кто это»? — Конечно, — вмешался Володя. — Ведь это одушевленное существо. Разве ты в школе не проходил? Тебе, Базар, грамматику нужно лучше учить! Он сказал это таким важным тоном, словно был учителем. Если бы он так сказал про математику, я бы не обиделся. Но по грамматике у меня пятерка. Если бы я не знал грамматики, разве мне бы поставили пятерку? «Хорошо бы сейчас взять учебник и показать Володе и Лиле правило. Тогда бы они поняли, что зря спорят», — подумал я. Но учебник мой находился дома в ауле. «Ладно, пусть говорят, как хотят, — решил я. — В конце концов, я-то знаю, как правильно». На этом наш спор, наверное бы, окончился. Но тут я заметил черепаху, которая ползла по тропинке от огорода. — Что же, и про черепаху надо спросить: «Кто это ползет?» — не выдержал я. — Конечно! — важно отвечал Володя. Я поднял черепаху, положил ее на ладонь и прочитал считалочку. По-туркменски считалка звучала очень складно, но Володя и Лиля ничего не поняли. Тогда я сказал считалку по-русски:
Черепаха, черепаха
В горы медленно ползет.
Самый младший Байрам-ага
И он отправился играть.
Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети.
Кук-мак, кук-мак
Опусти один кулак.
Вместо торжества поминки
Мой дедушка умеет очень хорошо все предсказывать. Если он скажет, что сегодня пойдет дождь, то дождь непременно пойдет. Скажет — будет ветер, и тут же ветер задует. Увидит незнакомого мальчика, пристально посмотрит ему в лицо и скажет: «Если я не ошибаюсь, то ты должен быть сын того-то». И оказывается прав. Вот и сегодня так получилось. Увидев, как к нам направляется кто-то на красном мотоцикле, он сказал: — Хоть бы к добру. Не нравится мне, что этот парень едет сюда с утра пораньше. И оказался снова прав. Парень снял с головы шлем и поздоровался. Потом торопливо произнес: — Папа послал, велел, скажи Белли-уста, а если дома, то и Коссеку. Вчера в полночь закончил свое дело Мурти-ага… «Закончил свое дело» — так у туркмен говорят, если кто-нибудь умер. Сказав эту печальную весть, он снова тронул свой мотоцикл и поехал назад. Папа воткнул в землю лопату, которой рыл очаг. Дедушка прикрыл мясо, которое разделывал на большой клеенке, и сунул нож в ножны. Вскоре папа вышел в халате и в папахе. Дедушка тоже снял с себя телогрейку и накинул на плечи легкий чекмень. Папа вначале направился к машине. Потом, видимо, вдруг вспомнил, что у него гости, и подошел к дяде Мише. — Вчера ночью один из наших отправился в мир иной. Уж не взыщи, Миша, как только похороним, сразу же вернемся… — Что ты, Коссек, я все понимаю. Поезжайте, поезжайте. А этот человек был старым или молодым? — Мурти-ага? Да уж не молодой, а все-таки… Папа не успел договорить, дядя Миша воскликнул: — Мурти-ага? Я его помню. Слушай, Коссек, а что, если я с вами поеду? Можно? — Очень хорошо сделаешь! Уважишь покойного, горсть земли на его могилу бросишь. Дядя Миша стал собираться. Дедушка напомнил ему, чтобы он надел шляпу: — У нас на кладбище не ходят с обнаженной головой. Я много раз видел Мурти-ага. Это был маленький чистенький старичок в очках, с ровно подстриженной седой бородкой. Когда я был маленьким, он часто приходил к моей бабушке. Однажды он пришел, когда я был один дома. Он увидел меня и поздоровался: «Салам алейкум!» Я растерялся. Первым я с ним поздороваться не успел. Не могу ведь я седовласому старику на его «салам алейкум» ответить, как взрослые: «алейкум эссалам». Потом я сказал бабушке: «Мурти-ага или плохо видеть стал, или же из ума выживает, даже со мной здоровается». И спросил у нее: разве младшие не должны здороваться со старшими первыми? И тогда бабушка ответила мне: «Правильно, детка, если старшие встречаются где-нибудь на улице или еще где, то младший должен первым здороваться. Но если кто-то идет в чей-то дом, то он и должен здороваться первым. Таким образом он здоровается с домом. Почитает соль этого дома». Вот уже почти пять лет, как я не вижу бабушки. А с сегодняшнего дня никогда больше не увижу и этого чистенького старичка, не услышу его веселого заливистого смеха. Потому что умерших потом уже никто не видит. Но сейчас казалось, что я сожалею не о том, что Мурти-ага умер, а о том, что папа уезжает вместе с гостем. Потому что ведь сегодня у нас намечалось торжество. Именно поэтому дедушка сегодня так рано встал и зарезал крикливую овцу. И папа потому соорудил очаг, чтобы на него можно было поставить большой казан. Теперь у нас не будет праздника. Я не смог удержать свое сожаление: — Папа, ну не уезжайте! Ведь вам не сказали, чтобы вы пришли, — жалобно произнес я. Папа вроде бы задумался, однако ничего не ответил. Дедушка, расположившийся на заднем сиденье машины, собираясь закрыть дверцу, посмотрел на меня и сказал: — В таких случаях не приглашают, сынок. Главное, чтобы сообщили, этого достаточно. А остальное уж твое дело. Хочешь — иди, не хочешь — можешь не ходить… Как подскажет совесть. Я понял, что моя просьба прозвучала неуместно. Расшатанный капот машины захлопнулся только после третьей попытки. Папа сел за руль. Вдруг он, словно вспомнив что-то, посмотрел на меня. — А что, если и ты поедешь, сынок? Дедушка тоже поддержал его: — Ну да, конечно, Базарджан уже не маленький, пора приобщаться к радостям и печалям аула… Всему надо учиться потихоньку… Главное, что дедушка одобрил, этого достаточно, но если я поеду на кладбище, то и Володя тоже должен поехать. Я не стал даже спрашивать, возьмут ли его с собой, закричал во всю глотку: — Вовка, беги скорей, мы тоже едем на кладбище!.. Кажется, я чересчур громко закричал. Видимо, голос мой прозвучал радостно. Папа посмотрел на меня и покачал головой. Верный себе дедушка и нам сказал, что не повезет нас с обнаженными головами. Я вошел в шалаш и надел тюбетейку. Но что же наденет Вовка? У меня другой тюбетейки здесь нет. Неужели же ему теперь придется остаться только из-за того, что ему нечего будет надеть на голову? Я уже подумал, может, попросить дедушку сделать ему бумажную шляпу, такую же, как он тогда сделал мне. Но тут Вовка побежал в шалаш, вытащил чемодан и стал что-то искать там. Оказалось, что еще в Ленинграде, когда они стали собираться к нам в гости, тетя Маша купила ему в магазине соломенную фуражку с зеленым клеенчатым козырьком. Вовка быстренько отыскал эту фуражку. Бегом выбежали мы из шалаша. Лиля стояла возле машины. — Я тоже поеду на кладбище… Вовка прикрикнул на нее: — А ну иди отсюда! Я стал уговаривать ее: — Лиля, ты лучше останься. У нас девчонки не ходят на кладбище… Лиля и не подумала послушать меня. Напротив, она рвалась так, словно мы собирались на какое-то интересное зрелище: — И не обманывай, и не обманывай, вы с Вовкой обманываете меня. Вовка с силой захлопнул дверцу машины, так что чуть было не прищемил курносый нос своей младшей сестры. Мы с Вовкой сейчас вели себя так, словно мы одни решали, кому ехать, а кому нет. Папа молчал. И всю дорогу они молчали. Оказывается, это очень плохо, когда люди сидят рядом друг с другом и молчат. Дедушка, словно прочитав мои мысли, нарушил молчание: — Коссек, Миша, вы помните, когда я вернулся с фронта? Вообще-то вы тогда были мальчишками… — Помню. Мы тогда спрашивали: «Белли-уста, а куда ты дел свою ногу?» — сказал папа. — Вы о войне рассказывали, сахар нам дали, — добавил дядя Миша. — А помните той, который устроили в ауле по случаю моего возвращения? — Конечно! — Я думал, что только такие старики, как мы с покойным Мурти, помнят это время, по, оказывается, и вы краешек захватили. — Дедушка помолчал, потом опять заговорил: — Бычка зарезали, мясо было, а вот муки… Мы перед тем тоем весь аул обошли в поисках муки, чтобы испечь один тандыр лепешек, но не могли найти. И вдруг Мурти… Идет и тащит на спине полмешка зерна: «Женщины, перемелите зерна и быстренько испеките лепешки!» Все поразились. Ведь полчувала зерна по тем временам было целое богатство. Откуда оно взялось у Мурти? Оказывается, он раскопал пору суслика и нашел в ней зерно, потом и другие норы стал разрывать. Вот и набрал. Женщины сказали: «Оставь это зерно для своих детей. Если экономно использовать муку, смешивать ее с травой, варить похлебку, то хватит надолго». — «Мои дети обойдутся, как обходятся другие дети, — ответил Мурти. — Испеките лепешки для всех». Да, такое не каждый бы сделал! — закончил дедушка. — Он много добра делал людям, — добавил папа. — Ведь это он научил нас пахать. «Вам выпишут трудодни, это будет помощью вашим семьям. А заодно и колхозу помощь», — сказал он и каждому из нас вручил по узде лошади. Однажды кобыла наступила мне на ногу, так он быстро развязал свою портянку, замотал мне ногу, а сам надел чокай на босу ногу… Председатель тогда не хотел доверить нам быков. «Они дети, не смогут пахать», — сказал он. А Мурти-ага встал на нашу защиту: «Будь спокоен, председатель, хоть они и мальчишки, но мальчишки военных лет, им все под силу». Мы с Володей слушали, что говорили взрослые. Трудно было представить себе папу и дядю Мишу мальчишками. И как хорошо Мурти-ага сказал о них: «Мальчишки военных лет», думал я. Я и не заметил, как мы проехали остаток пути. Оказывается, путь кажется дальним, когда едешь молча, а в разговоре он быстро пролетает. Папина «Победа» въехала в аул. Дядя Миша смотрел то в одну, то в другую сторону. Ему все хотелось увидеть. — Мы что, в районный центр приехали, Коссек? — спросил он. Папа улыбнулся: — Нет, Миша, это и есть наш аул. Но ты прав — он ничем не хуже районного центра. Дядя Миша промолчал. Он не мог оторвать взгляда от кирпичных домов, крытых шифером, построенных по обе стороны тенистых улиц поселка. В другое бы время он бы, наверное, остановил машину, вышел из нее, осмотрелся по сторонам, как на станции Кара-бата. Но сейчас было некогда, ведь мы ехали на похороны Мурти-ага. Мы с Володей за всю дорогу не проронили ни слова. И только когда поравнялись с большим двухэтажным зданием посередине села, я шепнул ему на ухо: — Наша школа! Честно говоря, я немного даже обиделся на Вовку. Я-то думал, что он сейчас присвистнет и постарается получше разглядеть здание. «Неужели ты в такой красивой школе учишься? На втором этаже или первом?» — должен был бы спросить он у меня. Но Вовка равнодушно посмотрел в ту сторону и промолчал. Я сноватолкнул его. — Смотри, с восточной стороны сорок окон! Вовка кивнул головой. Однако взгляд его снова остался безучастным. — А вон там наш спортзал… А рядом — столовая… Вовка почему-то не удивлялся. А ведь у нас в колхозе таких двухэтажных зданий всего два. Одно из них — наша школа, а второе принадлежит Дворцу культуры. Мы уже поравнялись с Дворцом культуры. Я обратил внимание на киноафишу, написанную красными буквами. Я не успел прочитать ее, но мне показалось, что там было написано «Неуловимые мстители». Ну, конечно, «Неуловимые мстители»! У меня даже настроение испортилось. Такой фильм будут показывать, а меня не будет. Может, вы думаете, что я не видел этого фильма? Видел. И даже два раза. Один раз он шел на русском языке, второй — на туркменском. Но все равно хотелось еще раз посмотреть. Мальчишки стали просить киномеханика Берды Хораз-ага снова показать этот фильм, даже кирпичи таскали, помогая ему строить новый дом. Берды Хораз-ага пообещал: «Ладно, привезу как-нибудь». И вот привез. Я хотел было сказать об этом Вовке, но посмотрел на него и промолчал. Даже не сказал, чтобы он взглянул на наш Дворец культуры. Все равно ему все безразлично. Вот была бы Лиля, совсем другое дело. «Базар, ты в этой школе учишься? Ой, какая же она красивая! На втором этаже, да? Наверно, там здорово. Сидишь на уроке, посмотришь в окно, а дома все внизу, да?» — сказала бы она. А Вовка все молча сидит. Если бы он сам учился в такой школе, то никому бы покоя не было от его хвастовства. Ну погоди, Вовочка. Когда ты увидишь памятник моему деду, рот от удивления раскроешь. В нашем парке, простирающемся от Дворца культуры, два памятника. Один из них — Герою Советского Союза Келеву Джуманиязову и его жене Говхер-гелнедже[3]. Келев Джуманиязов проявил беспримерное мужество и отвагу на войне. А Говхер-гелнедже в военные годы первой села на трактор и пахала землю. Какие-то бандиты стащили ее с трактора и убили. Второй памятник поставили не так давно. Он очень красивый, высеченный из камня нераскрывшийся бутон розы. Это памятник нашим землякам, которые не вернулись с фронта. На блестящем черном камне написаны их имена, и среди них имя моего деда Базара Атаджана-оглы. Мы чуть не опоздали. Около дома Мурти-ага было полно народу. Некоторые стояли в ожидании, другие сидели и потихоньку переговаривались между собой. На грядку, с которой недавно была срезана люцерна, насыпали чистого песка, и там собрались старики. — Ого, уже начали джиназу́,— сказал дедушка и, как только машина остановилась, прихрамывая, направился к старикам. — Что такое джиназа? — спросил Володя. Я не знал, что ответить. Объяснил папа: — Отходная молитва, которую читает мулла. Папа и дядя Миша растворились в толпе. Мы с Вовкой остались возле машины. Никто на нас не обращал внимания. Ребят никого не было — одни взрослые. Я пожалел, что мы поехали сюда. Той — другое дело, там веселье. Там встречают, когда ты еще не успеешь с машины сойти. Не знают, где усадить. И мальчишек много, можно поиграть. И вкусных угощений. А на похоронах очень грустно. Мы не знали, что делать. Сесть в машину и ждать, когда вернутся папа и дядя Миша? Я так и предложил Вовке. Но он сказал, пойдем туда, где собрались люди. Мы протиснулись сквозь толпу. На погребальных носилках лежал человек, завернутый в шелка. Это был Мурти-ага. Вдруг толпа расступилась. Женщины, сидевшие возле дома, с плачем поднялись с мест. В изголовье Мурти-ага встали его сыновья. Носилки с телом покойного подняли и понесли на плечах. — Ой, папочка! — Ой, брат!.. Мне показалось, что в эту минуту закричали не только сыновья и родственники покойного, но и все остальные люди. У меня из глаз полились слезы. Я испугался, что Вовка посмеется надо мной. Но он не смеялся. Молча протянул мне свой платок. Я вытер глаза и увидел, что толпа уже выходит за аул. Мы побежали следом. Люди шли так быстро, что мы с трудом нагнали их, когда они уже были на мосту большого арыка. Когда мы перебрались через мост, я заметил отца и дядю Мишу. Они шли в изголовье Мурти-ага. Каждый держался за одну сторону носилок… И вот пришли на кладбище. Мы с Володей стояли у самого края могилы и смотрели. Мурти-ага опустили в могилу. Его старший сын со слезами на глазах бросил в могилу горсть земли. Мы с Вовкой тоже бросили по паре горстей земли. Потому что так должны делать все, кто приходит на кладбище. Это было традицией, последней данью покойному. Вскоре могила Мурти-ага превратилась в небольшой холмик. Мой дедушка вышел из толпы. — Люди, остался ли должен что-нибудь кому-то из вас Мурти-ага? — громко спросил он. Все молчали. Дедушка еще два раза повторил свой вопрос. Никто не сказал, что Мурти-ага остался что-либо должен ему. Мне показалось, что дедушка это знал, а спрашивал так потому, что таков обычай. — Говорите, люди! Не стесняйтесь! Здесь находятся сыновья Мурти-ага. Они готовы заплатить долги отца. Если долги будут оплачены, Мурти-ага будет спокойно лежать в земле. Опять все промолчали, и дедушка задал второй вопрос: — Люди, каким человеком был Мурти-ага? На этот раз ответили все разом: — Хорошим человеком! Дедушка и этот вопрос повторил три раза. И три раза получал один и тот же ответ. Потом дедушка сказал: — Люди, всем вам большое спасибо. А сейчас прошу всех не расходиться, отправиться в дом покойного Мурти, помянуть его. Все толпой направились к дому Мурти-ага, но никто не сел вокруг угощений, не стал есть. Таков был обычай: каким бы вкусным ни был обед на поминках, его не едят, а только пробуют. Ко всему надо постепенно приобщаться, потихоньку учиться всему, вспомнил я слова дедушки.Володя, Лиля и я
Сегодня я должен был встать раньше всех. Потому что я так задумал. Не только раньше гостей, но и раньше мамы, раньше дедушки. Это нелегкое дело. Мама встает очень рано. Но дедушка встает еще раньше. Он встает даже раньше первых петухов. Мама говорит, что дедушка старенький, поэтому он страдает бессонницей. А мне кажется, просто дедушка такой человек. Он говорит: «Кто встанет рано, тот все дела свои переделает». Когда бы я ни проснулся, он уже пил свой утренний чай. А перед этим успел вычистить хлев, сложить на краю грядки полопавшиеся ночью дыни. Я решил хотя бы неделю вставать раньше мамы и дедушки. Пусть Вовка с Лилей спят, а проснутся и увидят, что я уже давно на ногах. Это лучше, чем если они встанут, а я еще буду спать. Лиля непременно закричит: «Базар, оказывается, такой соня!» А слово «соня» — это все равно что «лентяй». Кому охота, чтобы его считали лентяем. А к тому же дома много дел. Надо пасти верблюдицу с верблюжонком. Только выгонишь их на колючковые поля, вернешься, надо отвести к арыку голодного ишака. Напоить его, потом вбить в землю кол, там где травы побольше, и привязать к этому колу длинной веревкой. Может, кому-нибудь кажется, что это просто — привязать ишака. Но попробуйте и увидите сами. Вовка попробовал и не смог. Потому что надо уметь завязать узел «гондыба́г». Иначе не успеешь оглянуться, а ишак уже в люцерне расхаживает, щиплет свеженькую зелень. Или же топчет кукурузу. Он очень хитрый, так и норовит забраться в огород, будто там на грядках спе-циально для него все сажали. Потом надо наполнить водой бочку, которая греется на солнце. Раз дома гости, то воды надо особенно много. Если раньше мы наполняли бочку через день, то теперь надо делать это каждый день… Такие мысли были у меня в голове еще вечером, когда я нырял под одеяло. Я лежал и перечислял, что я должен сделать завтра. Все это я помнил и ночью, когда я раскрылся и проснулся от холода. А под утро я заснул крепким сном. Правильно говорят, что сон наваливается неожиданно. Я проснулся от голоса Лили. Подумал, что мне это спится, а оказывается, наяву. Я высунул голову из-под одеяла. Оказалось, все уже встали: и дедушка, и папа, и мама, и тетя Маша с дядей Мишей, и даже Лиля. Только Вовка еще спал. Папа, дедушка и дядя Миша, как и вечером, сидят на помосте, пьют чай, будто и не ложились вовсе. Голос Лили раздавался совсем близко: — Там шесть крольчат. Такие хорошенькие… От ее болтовни проснулся и Вовка. — Ах ты, болтушка несчастная! Трещит с самого утра, как сорока! — проворчал он. У меня тоже было неважное настроение. Я сам не знаю, на кого злился. Наверное, на себя. Во-первых, собирался встать пораньше, а проснулся позже всех. Во-вторых, Лиля первой заметила мою пропавшую крольчиху. А ведь я сам хотел показать ее. Конечно, было бы неплохо, чтобы мы встали до того, как к нам подойдет Лиля. Я потянул — угол Володиного одеяла. Он не пошевелился. Я толкнул его в бок. — Ну что, так и будем валяться? Вовка недовольно перевернулся на другой бок. И именно в это время подошла Лиля. — Эй, сони, может, вы встанете? Мы, словно сговорившись, не ответили ей. Сделали вид, что спим. И каждый раз, когда Вовка издавал громкий храп, я с трудом удерживался от смеха. — А, знаю, знаю. Вы не спите, только делаете вид! — закричала Лиля. — Я вижу, ты дышишь, Вовочка, дышишь, одеяло над тобой каждый раз вздымается. И сердце твое работает… Базарчик, и ты тоже не спишь. У вас у обоих сердца работают… «Нет, вы посмотрите на эту дурочку. Как будто спящий человек не имеет права дышать, — подумал я про себя. — Ведь если сердце человека не будет работать, он умрет». А Лиля не унималась: — Ну, вставайте, все равно из вас не получится Ножкина. Больте у меня не хватило терпения лежать молча. Потому что я знал одного хоккеиста с похожей фамилией. — Кто это такой твой Ножкин? Это не сын хоккеиста? — Нет, его папа работает в Эрмитаже. Целый день может смотреть на любую картину, которая ему понравится… А сам Ножкин у нас в школе учится. Так он и уроки слушает, и заодно высыпается. От удивления я уселся на постели, скрестив ноги. — Как это так — и уроки слушает, и высыпается? Такого не может быть. — Может. Он говорит, что если он слушает с закрытыми глазами, то лучше запоминает то, что говорит учитель. — И вы верите ему? — Вначале и ребята не верили, и учителя. Но когда его спрашивают, что объясняли на уроке, Ножкин повторяет все слово в слово. Словно на магнитофон записал. И теперь все поверили ему. Говорят, что это особый талант. Я с сожалением подумал о том, что у нас в классе нет такого особого таланта. Мне стало обидно. Конечно, хорошо, если среди твоих друзей есть особый талант, которым можно похвастаться. Может быть, и в нашем классе есть какой-нибудь талант, но пока еще не выявлен. Я тоже сказал: — У нас есть один мальчик, который своего отца обыгрывает в шахматы. На самом деле у нас не было такого мальчика. Я просто придумал это, чтобы не отставать от Лили. Она ничего не заметила. Но мне все равно стало стыдно, и я покраснел. Лиля, вертясь, снова стала хвалиться: — А у нас есть один мальчик-боксер. Он уже принимает участие в городских соревнованиях. Вот это и есть настоящий талант! А что там такое твой шахматист. Теперь я уже разозлился и искал, что бы такое придумать. Раз вступил в спор, то спорь до победного конца. Но ничего не придумывалось. Вдруг я вспомнил про двоюродного брата Джеренки Ата. Правда, он не учился в нашем классе и даже не жил в нашем ауле, но ведь Лиля не знала этого. И я сказал: — Подумаешь, боксер! Вот у нас есть один парень, Ата… Он всех мальчишек на всех улицах побеждает. — И тебя победил? — ядовитым голосом спросила Лиля. Я молчал. Про себя я ругнул Джеренку, которая сейчас невесть где моталась, тряся своими косичками: «Если бы ты не сказала, откуда бы я знал все про Ата. Вот теперь из-за тебя я оказался в дураках». Лиля, увидев, что я замолчал, перестала хвалиться. Ласковым голосом задала другой вопрос: — Базар, а у вас в классе есть девочки? Я не успел ответить, Вовка вскочил с места. — А где же их нет! — закричал он. Лиля подвинулась поближе ко мне. — Ну скажи же, Базар, я серьезно спрашиваю, есть? — Конечно, есть. Около двадцати, — ответил я. Честно говоря, я и сам не знал, сколько у нас в классе мальчишек, а сколько девчонок. Только знаю, что девчонок у нас побольше, чем мальчишек. Лиля задумалась. Я быстро сказал: — У нас есть одна девчонка по имени Джерен. Мальчишки так дразнят ее: «Джеренка, Джеренка, болтушка, полный подол лягушек». Вначале Лиля удивленно округлила глаза, потом нахмурилась. — А вы не думаете о том, что она может обидеться? У нас ни один мальчишка не обзывает девочек. — А она ябеда! — попытался оправдаться я. Но и это не понравилось Лиле. — Как это понимать? — А так, что она такая же, как ты! — засмеялся Вовка. Лиля обиделась. — Прекрати, Вовка, а то я маме скажу. — Вот, видишь! — торжествующе закричал Володя. — Уже готова бежать к маме. Чуть что, сразу: «Мама, когда тебя не было, Вовка весь компот выпил!», «Мама, Вовка с мальчишками чуть стекло не разбил!» И про туалет наябедничала. — Я говорю то, что есть… — «Говорю то, что есть»! — передразнил ее Вовка. — Да, люди должны были стоять в очередь в туалет, а ты закрылся изнутри, высунул голову в окно и на пароходы смотрел. — Это проводник был виноват. Зачем он другие окна позакрывал? Только в туалете окно без стекла. Становишься на унитаз и наблюдаешь в открытое окно. — Туалет тебе не наблюдательный пункт. А унитаз не ступенька. Понял? — Вот видишь, Базар! — опять сказал Володя. Честно говоря, я был на его стороне. Если только окно открыто, поневоле сунешь в него голову, чтобы посмотреть на пароходы. А то ведь поезд быстро проедет через мост, и ничего не увидишь. Я хотел сказать это, но меня опередила Лиля: — Вот Базар так никогда бы не сделал! — сказала она. — Потому что Базар не эгоист! Мне надоело слушать их спор. Кроме того, теперь, когда Лиля сказала: «Базар не эгоист!» — я перешел на ее сторону. «Лиля понимает, какой я человек», — подумал я. Это хорошо, когда тебя понимают и ценят. Мне теперь показалось, что Вовка и в самом деле был неправ, запершись в туалете и заставив ждать всю очередь. И вообще, хотелось сказать Лиле что-нибудь хорошее, только я не мог придумать — что. Я вспомнил про Джеренку, которая всегда дразнится и нарочно подстроила так, чтобы мы с Ата подрались. «Вот Лиля так бы никогда не сделала», — думал я. Я сказал: — Эта Джеренка, про которую я говорил… Она хотела, чтобы я подрался с ее двоюродным братом Ата… — Это тот Ата, который всех мальчишек на всех улицах побеждает? — спросила Лиля. Мне не понравился ее вопрос. «Запомнила!» — подумал я. Я всего-то один раз сказал и даже сам про это забыл, а она запомнила. — Тот самый, — кивнул я. — Но он со мной не хотел драться, и я с ним не хотел. Это Джеренка виновата, что мы подрались. Она нас поссорила. — Да брось ты! Не смогла бы Джеренка поссорить вас, если бы вы не захотели! Скажи, кулаки чесались. Мальчишки всегда так. Нет, вы смотрите, что получилось! Я встал на сторону Лили, а она взяла и выступила против меня! Зато Володя сразу же заступился за меня. — «Кулаки чесались»! — передразнил он Лилю. — Много ты понимаешь! А ну, ступай отсюда, мы будем одеваться! Я должен был бы радоваться, что Володя заступился за меня, но мне вдруг стало грустно. Лиля ушла. Володя стал одеваться. Я последовал его примеру. Когда мы умылись и вернулись, мама и тетя Маша стояли возле казана, в котором кипятилось молоко, и разговаривали о нас. Тетя Маша говорила, что хочет, чтобы ее сын стал моряком. Я и сам уверен, что Володя станет моряком, потому что, когда он сошел с поезда, он был в матроске. А моя мама сказала: «Базарджан будет доктором». Для мамы на всем свете есть только одна хорошая профессия — доктор. А мне хочется стать бригадиром, как папа. Ну и что же, что работа тяжелая! Все равно хорошо быть бригадиром, к тому же бригадиром овощеводов. Кормишь людей сладкими дынями и получаешь за это благодарности. И за красные помидоры, и за зеленые огурцы, и за лук люди благодарят. Мы сели завтракать. Мама положила мне в пиалу немного каурмы[4], налила горячего крепкого чаю, посолила. Володя и Лиля с удивлением смотрели на нее. — Разве чай пьют с мясом и солью?! — воскликнула Лиля. — Это чай-шурпа, — сказал я. — Он с мясом. Поешь с утра и до обеда будешь сыт, только пить будет хотеться. — Самый любимый завтрак Базарджана, — сказала мама. — А вы что будете есть, детки? — посмотрела она на Володю и Лилю. — Вот чал из верблюжьего молока, вот агара́н — сметана из верблюжьего молока. Берите, что вам понравится! Я отломил кусок лепешки и стал макать в шурпу. Володя посмотрел на меня и тоже отломил кусок лепешки, но макал ее не в шурпу, а в агаран. — Во как вкусно! — поднял он вверх большой палец. — Ешь на здоровье, милый! — сказала мама. А Лиля сидела, смотрела на нас, а потом пододвинула к себе дыню. — Ты, детка, сначала поешь посытнее, а потом уже принимайся за дыню, — сказала мама. — Ничего, для нее главное дыня! — засмеялась тетя Маша. Лиля разрезала на доли сочную желтую сорокадневку и принялась за нее. Володя раньше всех покончил с едой, посмотрел на Лилю и закричал: — Мама, по-моему, Лилька скоро лопнет от жадности! — Пусть он что хочет говорит, а ты ешь, доченька! — сказала моя мама. Но Лиля перестала есть, сложила дынные корки, потом собрала посуду и стала ее мыть. Володя немного посидел, отдыхая после еды, потом подошел к веревке, на которой сушились дыни, подпрыгнул, хотел достать до веревки, но рука его не дотянулась. Я тоже подпрыгнул и тоже не мог дотянуться. Володя поплевал на руки и снова подпрыгнул. Я разбежался и тоже подпрыгнул. И снова никто из нас не смог достать веревку. — Я бы достал, но много выпил верблюжьего чала, у меня в животе булькает, — придумал причину Володя. А я все свалил на шурпу. Мы хвалились, что подпрыгнули бы еще выше, если бы так не наелись, но оба знали, что обманываем друг друга. Потом мы сделали еще несколько попыток, и все без толку. Каждый раз, когда мы подпрыгивали, из-под ног поднимался столб пыли. — Базарджан, сынок, если вы хотите прыгать, идите куда-нибудь подальше, — сказала мама. — Пошли в крепость! — предложил я. Я давно собирался отвести Володю с Лилей в крепость. Там ведь сверкала на солнце моя «историческая» надпись, и мне хотелось, чтобы мои гости прочитали ее. Тогда они увидят, кто победитель, а кто трус. Пусть прочитают, пусть расскажут об этом в Ленинграде своим знакомым. Мы сделали из газеты треуголки и отправились. Чтобы добраться до Алтын-тепе, надо перебраться через бархан, поросший травой. Взберешься на бархан, считай, что прошел половину пути. Но мы не скоро добрались до крепости. Вначале нас задержал тушканчик, который сидел возле своей норы. Подняв передние лапки, казалось, здоровается с нами. Но когда мы подошли поближе, он скрылся в своей норе. Немного удалились, он снова вылез и стал заигрывать с нами. Закидывал за спину свой мохнатый хвостик, закусывал зубками корень высохшей травы. Лиле никак не хотелось отходить от него. — Ой, до чего же прелестный зверек! Если бы можно было поймать его. Я бы увезла его в Ленинград. — Ты и крольчонка хочешь увезти, и тушканчика, и верблюжонка, целый зоопарк! — поддел Володя сестру. — Ну, пошли, — потянул он меня. Я и сам был рад идти поскорее. В самом деле, сколько можно стоять и любоваться тушканчиком! Мы опять стали подниматься на бархан. Но вдруг Лиля пронзительно закричала и схватилась за меня. Я испугался, что она наступила на змею. Смотрю, нет никакой змеи. А Лиля ничего не говорит, стоит, округлив глаза, и смотрит в сторону тамарисков. И тут я заметил варана. Он был окраской под цвет травы, и мы чуть было не наступили на него. На варана действительно бывает страшно смотреть. Открыв рот, он шипит, надувается, приподнимается на передних лапах — так и кажется, что сейчас он прыгнет на тебя и проглотит. Вот и этот варан, приподнявшись, казалось, прямо на глазах увеличился вдвое и угрожающе шипел. Мы не шевелились. В конце концов он понял, что мы безопасны для него. Он вдруг сник, выпустил весь воздух. Лиля оторвала от моего пояса свои руки. Я оглянулся — Володи нигде не было. Только его бумажная треуголка валялась на траве. — Вовка! — закричал я на всю пустыню. — Вовка! Никто не отзывался. Лиля была готова заплакать. Я сам забеспокоился. В самом деле, куда он подевался? Не варан же его проглотил! И вдруг я увидел Володю. Он стоял на самой вершине бархана. И как он быстро взлетел туда! Даже отсюда было видно, что он очень испуган. Варан куда-то исчез. Я поднял с травы Вовкину треуголку, взял Лилю за руку, и мы тоже вскарабкались на вершину бархана. Володя до сих пор не пришел в себя. — Кто это был? — спросил он, заикаясь от испуга. — Варан. Да ты не бойся! Он только угрожал, а сам больше нас испугался. — Да, я видел, как он открыл пасть… Я старался не показать виду, но, по правде говоря, тоже испугался, даже вся спина вспотела. Я и сам, когда первый раз увидел варана, прибежал к дедушке и заорал во все горло: «Дедушка, я видел ящерицыну мать!» Дедушка засмеялся: «Это ты, сынок, варана видел». Потом я встречал варанов, но они не были такими большими, как этот. Да и близко я к ним никогда не подходил. — Ну, пошли дальше! — бодро сказал я. Мы стали спускаться с бархан. Лиля теперь шла, не отпуская моей руки. Не прошли́ мы и нескольких шагов, как она остановилась. — Мама, наверное, ищет нас, пойдем домой! — Да не бойся ты! — стал я уговаривать. — Никто тебя не тронет. Я говорил, что хорошо знаю обитателей пустыни. Сами они никогда не нападают, только защищаются. Одни спасаются бегством, как, например, крольчиха. Еж защищается иголками. Черепаха панцирем. Варан шипит, и змеи тоже. Как только я сказал про змей, Лиля прямо подскочила: — А змеи здесь тоже есть? — Ого, сколько угодно! И кобры, и гюрзы, и эфы, и стрелки, и гадюки, — сказал я и тут же понял, что этого не следовало говорить. Глаза у Лили опять стали круглые. Напрасно я уверял, что змеи первыми никогда не трогают человека. Да и варан тоже. Ведь он нас не тронул! Вот если бы наступили ему на хвост… — Он бы съел нас? Да? — дрожащим голосом проговорила Лиля. — Что ты! — улыбнулся я. — Это так просто, что ли, — взять и съесть! Уж в крайнем случае укусил бы. Правда, укусы его опасны. Зубы варана ничем не разожмешь, надо их щипцами один за другим выдернуть или ногу отрезать. Я говорил, что слышал, хотя и сам не знал, правда это или нет. Мне нравилось, что Лиля с испугом и восхищением смотрит на меня и цепляется за мою руку. Видно, она считала меня необычайным смельчаком, который ничего на свете не боится. Мне еще больше хотелось отвести их в крепость, чтобы они полюбовались моей надписью. — Вон он, Алтын-тепе, совсем недалеко, — показал я виднеющуюся ограду крепости. — Алтын-тепе — это значит «Золотой холм». Но в народе его назвали Ушной крепостью. — Какое смешное название! — сказала Лиля и даже чуточку улыбнулась. — Оно не смешное. Это в давние времена, когда в пустыне не было воды, бедняки за пиалу воды готовы были продать себя в рабство баю или хану, владеющему колодцем. Тому, кто соглашался стать рабом, отрубали ухо, чтобы все видели, что он раб на всю жизнь. Рабы по приказу своего хана строили крепостные стены и дворец. Вот и дали люди ей название — Ушная крепость, — стал я рассказывать старинную легенду, которую слышал от дедушки. — Пойдемте, там и ограда сохранилась, и развалины древнего дворца, — стал я уговаривать. Лиля колебалась, но Володя на этот раз показал себя настоящим мужчиной. — Что же на полпути останавливаться! Пошли! — сказал он. Мы быстро приблизились к крепости, вошли за ограду. Володя и Лиля с интересом осматривали все вокруг, а я искал взглядом свою плиту. Что за чудеса! Плиты нигде не было. Верней, плит вокруг валялось немало, но ни на одной не было видно надписи. Наверное, буквы выцвели на солнце. «Надо было обвести их не кирпичом, а настоящей краской или тушью», — подумал я и пожалел, что у меня не было ни краски, ни туши, ни даже чернил. Плиту свою я различал. Она лежала на том же месте, возле полуразрушенной колонны. Но, чтобы прочитать надпись, надо было подойти к ней совсем близко. Мне не хотелось нарочно подводить к плите Володю с Лилей. Еще подумают, что я хвастаюсь. Но как сделать, чтобы они как бы случайно подошли к ней и увидели надпись? Я думал, думал и придумал. — Вовка, давай поупражняемся в стрельбе! — предложил я. — Как это? — удивился Володя. — Очень просто! Наберем камней и будем бросать в цель, ну, вот, например, в ту плиту. А Лиля станет возле колонны и будет считать, кто сколько раз попал. — Давай! — обрадовался Володя. Мы набрали камней в подолы рубашек. Лиля подошла к колонне. Я прицелился первый. Правда, я не столько целился, сколько старался все-таки разглядеть на плите свою надпись. Но даже с такого близкого расстояния ее не было видно. — Сейчас я туда свою шапку положу, чтобы цель была виднее! — закричал я и побежал к плите. Надписи «Базар — Ата 2:0» на ней не было. Все было стерто. Осталось только одно слово «Базар». Это, конечно, было делом рук Ата и Джеренки. Они, наверное, приехали сюда на Джеренкином ишаке и соскребли серпом надпись. Только мое имя оставили. «Странно, почему же они оставили мое имя?» — подумал я и вдруг догадался. Они это сделали нарочно, чтобы опозорить меня. Как только начнется учебный год, Джеренка на всю школу раззвонит: «Базар испортил древний памятник! Написал на нем свое имя. Таким образом он хочет войти в историю!» Попробуй потом доказать, что я писал не на колонне дворца, а на плите, которая валялась в земле. Кто знает, может, и она — памятник старины. Ведь черепки, которые находят возле крепости — это тоже не целые кувшины. А все равно археологи их подбирают. Я представил себе, как вся школа смеется надо мной, а учительница Шекер строго смотрит и говорит: «Вот уж от тебя, Базар, я этого не ожидала!» Я уже забыл о своем соревновании с Вовкой, которое сам же и предложил. Надо бы поскорее увести их отсюда, пока они не успели прочитать мое имя. Я бросил камни, которые набрал, подошел к Володе, стоявшему наготове с камнем в руках и из его подола тоже высыпал камни. — Ты зачем это? А соревнование? — спросил Вовка. — В другой раз, — сказал я, — уже пора обедать. Я сделал вид, что смотрю на солнце. Измерил свою тень. Потом, не обращая внимания на недовольство Володи, схватил Лилю за руку и побежал. Не останется же Володя один. Мы быстро добежали до шалаша.Что за человек Ата
— Знаешь, почему станция называется Кара-бата? — спросил я Володю, когда мы на папиной «Победе» проезжали мимо станции, направляясь в районный центр. — Почему? Я стал рассказывать старинную историю, которую слышал от дедушки. В давние времена, когда здесь не было ни города, ни железной дороги, ни даже аула, а простиралась голая степь, пастушонок, по имени Ата, отправился на поиски колодца и погиб. Это, конечно, не тот Ата, который брат Джеренки. Просто Ата у туркмен имя старинное и распространенное. Так вот, пастушонок Ата нашел колодец с водой, но сам не смог выбраться из пустыни. Когда прокладывали железную дорогу, то станцию решили назвать Ата-гарип — Ата бедный. На карте название записали по-другому: «Гарип-ата», а потом и вовсе стали произносить «Кара-бата». Шли годы. Теперь через степь по каналу идет амударьинская вода. Геологи нашли в этих местах газ. Приехало много народу. Для газовщиков стали строить сначала маленькие деревянные домики, потом большие кирпичные. А теперь строят высоченные железобетонные. Новый городок назвали Шатлык, что означает «радость». Все это я рассказал Володе, пока мы ехали в машине. Дядя Миша, сидевший впереди рядом с папой, тоже слушал мой рассказ. Он обернулся и сказал: — Молодец, Базар! Ты очень интересно рассказываешь. А Вовка сказал: — Когда ты приедешь к нам, я тебе расскажу про Ленинград, и «Аврору» покажу, не макет, а настоящий крейсер. Наша «Победа» пересекла железную дорогу. Позади остался полосатый шлагбаум с надписью «Берегись поезда!». Вскоре мы уже ехали по улице, с двух сторон засаженной молоденькими тутовыми деревцами. Я удивился, когда увидел высокий кран, поднимающий целую стену дома, с окнами и дверями. Даже сто человек не могли бы сдвинуть эту стену с места, а кран так легко движется вперед и назад. Хорошо крановщику! Он сидит на самой вершине крана, в кабине с окном. Я потянул Вовку за рукав. — Ты только посмотри. Вот это да! Вовка, видимо, не впервые видел такие краны. Он ничуть не удивился, сказал только: — Ты бы видел трубы, которые сейчас провезла машина! Таких толстых я даже в Ленинграде не видел! И снова каждый из нас повернулся к своему окну. Я не мог оторвать взгляда от крана. Для меня сейчас на всем белом свете не было работы интереснее. Что там такое доктор, о котором говорит мама! И бригадиром быть, как папа, ничего особенного. Вот бы стать крановщиком! Эта мысль не давала мне покоя и тогда, когда мы уже давно проехали кран. Папа сделал пару поворотов и остановился возле окошка у одного из похожих друг на друга двухэтажных домов. Человек в полосатой пижаме вначале пристально смотрел на нас через окошко. Потом чуть ли не бегом сбежал со второго этажа и направился прямо к нам. По его красному, вспотевшему лицу можно было подумать, что он только что вышел из бани. — Ба-а, сон ли это, или же я наяву вижу вас? Он подбежал и обнял папу. Пожал руку дяде Мише. Как только мы вышли из машины, он пожал руки и нам с Вовкой. Его рука была жесткой. Сразу видно, что он сильный. Я всегда стыжусь, когда взрослые люди пожимают мне руку. Но на сей раз мне не было стыдно. Может, потому, что рядом со мной был Вовка. — Добро пожаловать, рад видеть! Проходите, пожалуйста! Они втроем вошли в дом, а мы остались возле машины. Стоим и смотрим друг на дружку. Как-то неуютно в чужом месте, где никого не знаешь. Мне показалось, что кто-то выкрикнул мое имя. Я оглянулся. Никого. Вдруг снова раздалось: — Базар! Базар! Оказалось — Ата. Забрался в трубу и сидит там. Потому я его и не увидел. Я очень обрадовался. Даже сам не ожидал, что так обрадуюсь. В самом деле, кто мне Ата? Мы и в школе не учимся вместе и не живем по соседству. Всего-то один раз встретились, поборолись и разошлись. Вот и все. Но Ата, видимо, обрадовался мне. Но потом он посмотрел на Володю и нахмурился. — У нас тут есть одно место, — вдруг проговорил он, продолжая хмуро смотреть на Володю. — Там можно драться, никто не увидит. А что за рыжий с тобой? — кивнул он на Володю. — Если ты мужчина, давай один на один! Я разозлился. Во-первых, мне было обидно за Володю, что Ата назвал его рыжим. Во-вторых, мы ведь не собирались нападать на него вдвоем. Да и вообще я не собирался с ним драться. Я даже не знал, что встречу его. — Это мой друг Володя, ленинградец. Когда вырастет, станет капитаном. Ата присвистнул. Я не понял, чего он свистит. То ли оттого, что у меня друг ленинградец, то ли оттого, что Володя станет капитаном. В это время из окошка выглянул тот самый человек, к которому ушли папа с дядей Мишей: — Ата, ты уже познакомился со своими новыми друзьями? Погуляй с ними, покажи им город. — Это кто? — спросил я. — Мой отец. Тут уж я присвистнул. Оказывается, папин знакомый — отец Ата дядя Чары. Он тогда приезжал с Ата в гости к Джеренке. А теперь он назвал нас друзьями Ата. Ну что ж, если мой папа и дядя Чары друзья, то и мы с Ата можем быть друзьями. Ничего, что мы с ним в крепости подрались. Да это была и не драка, а борьба. Ата протянул руку Володе: — Меня зовут Ата. — Это ты всех побеждаешь? — спросил Володя. Ата искоса взглянул на меня, но ответил честно: — Нет, Базара я не победил, — и добавил: — Ну, пошли! Мы прошли немного по городу и остановились у подъемного крана. Я не знал, был ли это тот самый кран, который я видел из машины, или какой-нибудь другой. — Это кран моего отца! — сказал Ата. Вот, оказывается, кем был дядя Чары. Сейчас на кране работал его помощник, молодой парень. Он с высоты увидел Ата и помахал ему рукой. — Подождем до обеденного перерыва, — сказал Ата. — Я попрошу, он нас пустит на кран. Мы с Володей обрадовались. И не зря. В перерыве крановщик позволил нам подняться на кран. Это было замечательно! Весь город был виден как на ладони — и улицы, и площадь, и станция Кара-бата. — Я тоже стану крановщиком, как мой папа, — сказал Ата, когда мы сошли на землю. Мы вернулись в дом Ата в хорошем настроении. — Познакомьтесь, это мой сын Ата, — сказал дядя Чары моему папе и дяде Мише. — Угощай своих друзей, сынок, — добавил он. — Вы, наверное, проголодались. Ата вышел на кухню и стал там хозяйничать. — Вот так мы и живем вдвоем с сыном, — сказал дядя Чары. — Ата рано лишился матери. Все со мной и со мной. Можно сказать, что он вырос в кабине подъемного крана. Взрослые ушли в другую комнату. Ата внес еду и пригласил нас за стол. Мы сели есть. Я ел и думал, как трудно приходится Ата без мамы. Мне сразу стало как-то тоскливо, захотелось увидеть маму. Наверное, и Вовка тоже подумал о своей маме. Ата словно угадал наши мысли. — Нет, вы не думайте, что мы плохо живем. У меня есть папа. Я люблю его, а он меня. Мы с папой вместе в кино ходим. Иногда отправляемся на рыбалку или на футбол. — Он подошел к приоткрытой двери и закрыл ее поплотней. — Папа не любит, когда о нем говорят. Конечно, если бы в доме была мама, мы бы жили еще лучше, — сказал он, понизив голос. — Вы не думайте, за моего папу любая женщина замуж согласится выйти. Он даже один раз собрался жениться, но не женился. — Ата немного помолчал и добавил еще тише: — Из-за меня. — Почему? — спросил Володя. — Так получилось. Эта женщина часто приходила к нам, я уже думал, что она станет моей мамой. Но в это время у папы подошел отпуск. Папа купил три билета в Крым. Сказал: «Собирайся, сынок, будем купаться в море». А вечером, когда мы все сидели за ужином, моя будущая мама сказала: «Зачем три билета, Чары? Может быть, Атаджан останется дома, а поедет с нами в следующий раз?» Я выскочил из-за стола и закричал: «Уезжайте сами! И не на месяц! На целый год уезжайте! А я пойду в детский дом!» Убежал в свою комнату, лежал и плакал и не заметил, как заснул. Утром проснулся, прислушался: в квартире тихо. Я подумал, что они с папой улетели утренним самолетом. Вышел — папы нету, а на столе валяются три разорванных билета. — Ну, а дальше что было? — спросил Володя. — Ничего. Больше я никогда не видел этой женщины. Так мы и живем вдвоем с папой. Из соседней комнаты вышли взрослые, и наш разговор прекратился. Мы стали собираться домой. На обратном пути папа свернул в аул, мы подъехали к нашему дому. Он был заперт. — А Тазегуль где же? — спросил я удивленно. — Тазегуль уехала в Ашхабад навестить дядю Дурды, — сказал папа. — Она будет очень жалеть, что не повидала наших гостей. Вот это была новость! Я думал, что мы с мамой и дедушкой поедем в Ашхабад, и немного жалел Тазегуль, а оказывается, жалеть мне надо было себя. Тазегуль разгуливает по Ашхабаду, ест мороженое и пьет газированную воду. Но с другой стороны, папа прав: если бы мы уехали к дяде Дурды, я бы не познакомился с Володей и Лилей. Вот как получается. Жаль, что человек не может находиться одновременно в двух местах. «Ничего, — утешал я себя. — К дяде Дурды я еще поеду. Каникулы вон какие длинные». Папа и дядя Миша вытащили из дому ковер и погрузили его в машину, вынесли какую-то посуду, засунули в багажник. Я не мог догадаться, для чего это они делают, но спросить не решился. Мы снова сели в машину и поехали на бахчу.Удовольствие лизать пенку
До чего же быстро летит время! Вроде бы только вчера приехали наши гости, а уж прошла целая неделя. Пока я был на бахче один, каждый день тянулся медленно, а теперь дни летели прямо-таки с космической скоростью. Папа после первых трех дней, на которые он отпросился ради гостей, снова вышел на работу, и мы не видели его целыми днями, потому что теперь у него созрел лук. Так все лето: то помидоры, то лук, то еще что-нибудь созревает, и надо торопиться собирать урожай. Дядя Миша каждое утро уезжал вместе с папой: хотел повидать всех старых знакомых. Но сегодня он никуда не поехал. Когда мы с Вовкой проснулись, дядя Миша с дедушкой уже были на арбузном поле. Дедушка щелкал по арбузам и срывал зрелые. А дядя Миша собирал их в груду. Мы с Вовкой позавтракали и пошли им помогать. — Молодцы, ребятки! Потихоньку перетаскивайте сорванные арбузы к шалашу, — сказал дедушка.
Мы с удовольствием взялись за дело. Нам казалось, что мы быстро справимся с этой работой. Но собранных арбу зов было очень много, целая гора. И я, и Володя каждый старался выбрать арбуз покрупней. Попадался иногда такой тяжелый, что одному не дотащить. Подбежала Лиля и тоже схватила арбуз. Но не прошла она и двух шагов, как выронила арбуз из рук. Огненно-красный арбуз разлетелся на куски, во все стороны брызнул красный, словно сироп, сок. Лиля посмотрела на арбуз и заплакала. К ней с улыбкой подошел дедушка: — Не плачь, дочка, ничего страшного. Мы его скотине порежем, — стал он утешать Лилю. — Ты такие тяжелые не поднимай. Еще до наступления жары мы перетаскали к шалашу все собранные арбузы. Я догадался, что мама собирается варить тоша́б — арбузную патоку. Я до сих пор помню бабушкин черный бурдюк для тошаба с четырьмя концами, торчащими, как рожки. Бабушка моя была мастерицей по изготовлению бурдюков. Она опаляла козью шкуру, снятую целиком без надрезов. Потом смягчала ее, очищала. Завязывала концы бечевкой, а через одно незавязанное отверстие надувала его. Надутый бурдюк висел на ветке дерева, раскачиваясь на ветру. Иногда, оглянувшись, не видит ли бабушка, я, как боксер по груше, с силой ударял кулаком по бурдюку. Легкий надутый бурдюк весело кру тился. Потом бурдюки наполняли тошабом. Тошаб очень вкусный. «Хочешь полакомиться, сынок?» — спрашивала бабушка и развязывала один конец бурдюка. Темный тошаб фонтаном вырывался наружу. Я подставлял пиалу и потом ел тошаб и просто так, и с маслом, и с медом. Я обрадовался, что мама будет варить тошаб. Дедушка приготовил три больших очага. Такие очаги обычно делают, когда устраивают той. На каждый очаг ставят по огромному котлу, в который помещается по целой бараньей туше. А потом пекут несколько тандыров лепешек, крошат их, смешивают с мясом и луком и получается дограма́. Я это много раз видел. Но я не знал, для чего нужно так много казанов, если всего-то собираются варить тошаб. — Мы что, будем три казана тошаба варить, деда? — спросил я. Дедушка ответил: — Увидишь. Он вынул из-за пояса длинный нож с белой ручкой и стал резать пополам сложенные возле шалаша арбузы. Мама и тетя Маша тоже взяли по ножику и принялись вырезать из этих арбузов мякоть. Потом стали сливать в один казан арбузный сок, а в два других складывать мякоть и семечки. Теперь я понял, зачем нужны были три казана. Мама с тетей Машей работали очень быстро, и вскоре все три казана наполнились доверху. А арбузов еще оставалось полторы. Что было делать? Но дедушка решил все очень просто. Он отобрал десятка полтора самых крупных арбузов и не стал разрезать их на две части, а просто срезал верхушки и выбрал мякоть. Получились арбузные кувшины. В них тоже стали сливать сок и складывать мякоть и семечки. — Потом мы будем добавлять это в казаны, — сказал дедушка. Мы с Володей тоже хотели резать арбузы, но нам не дали ножей. Тогда Володя взял один арбузный кувшин и надел его на голову. Лиля весело засмеялась: — Мама, смотри, что он придумал! Как шлем. Я тоже надел на голову арбузный шлем. На Володе был шлем из черного арбуза, а на мне — из белого. В наших шлемах было душно и ничего не было видно. — Папа, прогони их, они в казаны упадут! — сказала моя мама. Мы с Володей сняли свои шлемы и проделали отверстия для глаз и рта. Потом взяли по камышине и схватились на «шпагах». Но вскоре нам и это надоело. — Мама, скоро будут пенки? — стал я приставать. — Нет, не скоро, — отвечала мама. — Не стойте тут, тогда казаны скорей уварятся. Бегите, играйте на песке! Чудо каракумовских песков может понять только тот, кому приходилось в детстве играть на песке. Может быть, потому, что наш аул расположен близко от песков, у нас все очень любят песок. Дедушка говорит: «Чистый белый песок священен. Раньше ребенок, едва родившись, попадал в песок. Так всю жизнь и рос в нем». И правда, на песке сколько ни играй, никогда не надоест. И не только ребята, взрослые юноши и девушки по вечерам всегда гуляют в песках. И мой брат Кервен, который служит в армии, пишет в письмах: «Тоскую по пескам. Часто представляю себе, как лежу на горячем песке или гуляю по барханам лунной ночью». Я, Володя и Лиля побежали в пески. Мы с Володей кувыркались и боролись, ползли и зарывались в горячий песок. Лиля сидела и перебирала его, пересыпая струйками с ладошки на ладошку. Даже про тошаб и пенки мы позабыли. Зато, когда вернулись, все уже было готово. Мама наполнила тошабом миску и поставила перед нами, каждому выдала по деревянной ложке. — Ешьте, только не обожгитесь. Володя макнул ложку в тошаб, облизнул ее и поднял большой палец: — Во! Лиля тоже лизнула свою ложку и сказала: — Очень вкусно! Мама, как всегда, хорошо придумала: — Этот тошаб мы отдадим нашим гостям. Будут есть его зимой вместе с сушеной дыней и весенним медом, который мы им приготовили, и вспоминать солнечную Туркмению.
Наши гости
Мама посмотрела на меня и воскликнула: — Ой, Базарджан, до чего же ты красивый стал! Я пожалел, что нет зеркала, чтобы посмотреть на себя. Вчера мы с Вовкой купались до тех пор, пока не опустела нагретая на солнце бочка. Мылись не просто так — с мылом. Вначале каждый мылся сам. Потом Вовка долго тер мочалкой спину мне, а я ему. Мы и уши как следует вымыли, не забыли и пятки. Оттого, что мы ходили босиком, пятки загрубели. Мы их долго оттирали жесткой мочалкой. На мне вышитая рубаха-косоворотка, брюки клеш. Рубаху я заправил в брюки и подпоясал их вышитым ремнем. Правда, туфли с непривычки немного жали ноги, но тут уж ничего не поделать, придется терпеть. Я сам виноват. Мама не хотела покупать эти туфли, боялась, что они будут малы, но я уговорил ее купить. В магазине они вроде бы и не жали. А теперь жмут. Наверное, ноги выросли. Интересно, могут ноги вырасти за несколько дней? Ведь туфли мы покупали перед самым отъездом из аула. Ну и пусть жмут, я ведьодин знаю об этом. Главное, что моего вида они не портят. Но когда я увидел Лилю в нарядном платье, то забыл о себе. «До чего же она хорошенькая!» — восхищенно подумал я про себя. На ней ситцевое цветастое платье. Когда Лиля идет, желтые крылышки ее платья взмахивают в такт ее шагам. Свои русые волосы Лиля заплела в две косички, которые были довольно толстыми для ее возраста. В нашем селе девушки носят косы спереди, на груди, а Лиля закинула их за спину. — Тетя Хеллы, посмотрите на нас! — закричала Лиля. Мама улыбнулась. — Ах вы мои золотые деточки! До чего же пригожие! Растите побыстрее, становитесь большими. — Какая у тебя красивая рубашка, Базар, — сказала Лиля. — Кто ее вышивал? Мама? — Нет, сестра Тазегуль. Она сейчас в Ашхабаде, — ответил я и еще раз пожалел, что Тазегуль нет с нами и она не увидит гостей. Теперь я больше не злился на нее. Напротив, вспоминал о ней самое хорошее — и рубашку она мне вышила, и в больницу ко мне приходила, когда я лежал со сломанной ногой. Я посмотрел на Лилю и вспомнил Джеренку. — У нас некоторые девочки заплетают свои волосы в четыре косы. И поэтому косички тоненькие, как мышиные хвостики, — сказал я. — А мне больше нравится, когда волосы в две косы заплетены. Честно говоря, до сих пор я не задумывался о девчачьих косах. Случалось, я дергал девчонок за косички и доводил их до слез. А сейчас вот расхваливаю Лилины косы. Я и сам удивился своим словам. Я обычно стеснялся, когда мне приходилось надевать новую одежду. Не находил себе места до тех пор, пока не привыкал к ней. А тут к тому же рядом стоит Лиля. Уставилась мне в глаза своими ясными голубыми глазами. Но хоть я и стесняюсь, я сейчас не прочь стоять рядом с ней сколько угодно. Вовка вообще-то хороший парень, но всегда не вовремя появляется. Вышел из шалаша в своей матроске. Наверное, он очень любит ее. Ну конечно, ведь он хочет быть моряком. Он и сейчас похож на моряка: матроска, черные брюки, широкий ремень с желтой блестящей пряжкой. Из-за ворота черной рубахи выглядывает полосатая матросская майка. На голове у него фуражка с надписью над козырьком «Балтика», две ленты свисают сзади. Он даже как-то старше кажется. Мы неспроста все так вырядились. К нам должно приехать много гостей. Папа устраивает праздничный вечер в честь наших ленинградцев. Как только стало вечереть, мы с Володей и Лилей побежали к дороге встречать гостей. Мы, наверное, рано прибежали, дорога была пустынная. Мне почему-то всегда грустно смотреть на пустынную дорогу. А тут я еще все время думал, что вот Володя с Лилей уедут и я опять останусь один. Лиля словно догадалась, о чем я думаю. — Теперь ты к нам приезжай, Базар. — Обязательно приезжай! — поддержал ее Володя. Мне очень хотелось приехать к ним в Ленинград, но я не знал, отпустит ли меня мама. Конечно, дорога длинная, но я ведь не ребенок. Я представил себе, как сяду на станции Кара-бата на поезд. Папа и дедушка будут меня провожать. Наверное, и мама захочет проводить. Я войду в вагон, выгляну в окошко и помашу им рукой. Мама будет Говорить: «Будь осторожен, Базарджан! Не отстань по дороге от поезда!» Папа скажет: «Не беспокойся, Базар не потеряется…» Дедушка поддержит его: «Базар уже мужчина. Надо потихоньку ко всему приобщаться». Вот удивятся ребята в школе, когда узнают, что я ездил в Ленинград. Джеренка посмотрит на меня и скажет… Что скажет Джеренка, я не успел придумать. Вдали на дороге показался мотоцикл. Он летел, поднимая облака пыли. Из-за этой пыли нельзя было разглядеть, кто сидит на мотоцикле. — Мотоцикл с коляской! — закричал Володя. Я и сам видел, что мотоцикл с коляской. — За рулем какой-то дяденька в шлеме, а в коляске девчонка! — опять закричал Володя. В коляске и вправду сидела девчонка с четырьмя торчащими косичками. Я узнал Джеренку. Это она со своим отцом. Они подкатили к нам. Джеренка выпрыгнула из коляски. — Меня зовут Джерен! — бойко сказала она. И только когда познакомилась с Володей и Лилей, обратила внимание на меня: — А, это ты, Базар? Лиля с Джеренкой сразу защебетали, словно были знакомы сто лет. Они взялись за руки и пошли к шалашу. Мы с Володей отправились следом. Вскоре приехали дядя Чары и Ата. А потом еще подкатила одна машина. Из нее вышли учительница Шекер и директор нашей школы Илли-ага. Я очень удивился. Правда, Илли-ага старый друг моего дедушки, но чтобы он выбрался к нам на бахчу, этого я предполагать не мог. Еще больше я удивился, когда увидел, что он пожимает руку дяде Мише и весело говорит: — Ну, покажись, покажись, какой ты стал, Михаил. Потом уже из их разговора я понял, что дядя Миша когда-то тоже учился у Илли-ага. Ну конечно же! Ведь он жил во время войны в нашем ауле и ходил в школу. Взрослые уселись на просторный помост, покрытый коврами. Мы же устроились отдельно на кошме. Сразу стало очень весело. Ведь когда ребята одни, можно и покричать, и похохотать громко. Если рядом взрослые, поневоле стараешься вести себя, как тот «умненький» мальчик, про которого рассказывал дедушка. Я, Володя и Ата сидели на одной стороне кошмы, а Лиля с Джеренкой — на другой. Теперь очень хорошо было видно, какие они разные. Джеренка смуглая, четыре черных хвостика торчат в разные стороны, и глаза тоже черные. А Лиля, словно ее каждый день молоком умывали, беленькая, и волосы тоже белокурые, и глаза светлые. Джеренка стала рассказывать про школу, про наш класс, передразнивала некоторых ребят и даже учителей. Она здорово умеет передразнивать. Кажется, что перед тобой не Джеренка, а тот, кого она показывает. А Джеренка скажет про кого-нибудь, а сама на меня посмотрит. Я сижу и думаю, сейчас она про меня скажет, как я принес в класс богомолку и посадил на спину. Но Джеренка про меня не сказала. Не сказала и про мою «историческую» надпись. Зря я, конечно, дразнил ее ябедой. Совсем недавно мне и в голову не могло прийти, что Джеренка и Ата вот так будут сидеть у меня в гостях. Потом Лиля стала рассказывать про своего Ножкина, который умеет во сне слушать уроки. Джеренка и Ата просто до упаду хохотали. Потом Лиля спросила Ата: — Говорят, ты кончил четыре класса и три школы. Как это? — Очень просто, — отвечал Ата. — Отец мой крановщик. Он работал то на одной стройке, то на другой, вот и брал меня с собой. Приходилось учиться в разных школах. Когда Ата заговорил, я сразу вспомнил его дом, вспомнил, как они с отцом хозяйничают без мамы. Мне хотелось сказать Ата что-нибудь хорошее. Но раньше меня сказал Володя: — Приезжай, Ата, вместе с Базаром к нам в Ленинград. — И ты, Джеренка, приезжай! — воскликнула Лиля. — Я сразу же пойду смотреть «Аврору»! — сказал я. — А я залезу на Медного всадника! — закричал Ата. — Сяду на коня! Я его видел по телевизору. Так мы разговаривали, пока мама не позвала нас ужинать. Чего только не было на цветастой клеенке, разостланной посреди помоста! Розовела редиска, зеленели огурцы и лук, краснели помидоры, отливали золотом пышные лепешки. Мама принесла в огромной миске баранью голову и ноги и поставила ее перед дядей Мишей. Дядя Миша поблагодарил маму, потом разделил мясо между всеми гостями. — Не забыл еще наш туркменский обычай, Миша, — довольно сказал дедушка. — Правда, когда ты жил у нас, не часто приходилось сидеть за праздничным столом. — Я ничего не забыл, уважаемый Белли-уста, — ответил дядя Миша. — Да, времена были тяжелые. Зато теперь вон какой стол! Все принялись за еду. Вдруг мама поднялась, подошла к Лиле и с улыбкой надела ей на шею полосатую ниточку. Лиля удивленно посмотрела на маму. — Это алаща́,— пояснила ленинградским гостям учительница Шекер. — У туркмен есть такой обычай: если родителям мальчика нравится девочка, они вешают ей на шею алаща. Когда девочка вырастет, она станет невестой сына. Да-да, Миша-хан, придется вам распрощаться с дочкой. Нравится тебе у нас, Лейла? — спросила она Лилю. — Лилечка теперь будет нашей нареченной невесткой, — подхватил папа. — И вы будете приезжать не раз в тридцать лет, а каждый год. — Мы согласны, — сказала тетя Маша. — Нам тоже очень нравится наш будущий зять Базарджан! Мы с Лилей смущенно молчали. А тут еще Ата стукнул нас головами и шепнул: — Ну, целуйтесь! Я вскочил и убежал за шалаш. На помосте все смеялись, до меня доносились их веселые голоса. Вдруг послышались легкие шаги. В темноте я не видел, кто идет, но догадался, что это Лиля. Она подошла и остановилась совсем близко от меня. Некоторое время мы стояли молча. Потом Лиля сказала: — Если я тебе не нравлюсь, может, снять это? — И она дернула ниточку на шее. — Пусть висит, — проговорил я шепотом, словно у меня вдруг пропал голос. Лиля поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку и, прежде чем я успел что-либо сообразить, убежала. Вот и все. На следующий день мы с папой провожали своих гостей на станции Кара-бата. У меня не осталось и следа от вчерашнего хорошего настроения. Володя с Лилей тоже хмуро сидели на чемоданах рядом с тетей Машей. Подошел поезд, мы все принялись таскать вещи, только Володя стоял на перроне и оглядывался по сторонам. Я знал почему. Он ждал Ата. «Может, Ата проспал, — думал я. — Отец его, наверное, с утра пошел на работу, а его кто разбудит? Ведь мамы у него нет…» Но Ата неожиданно выскочил из-под вагона. Вытер о штаны перемазанные руки и подбежал к нам. — Ты почему под вагонами лазишь, — недовольно сказал я. — А вдруг бы поезд тронулся? — Ну и состав стоит на соседнем пути! Длиннющий! Целый час пришлось бы обходить его. Как только Володя сел в вагон, мы подошли к окну. Вначале за стеклом показалась лысина дяди Миши. Потом тетя Маша послала нам воздушный поцелуй. Сколько ни поднимался я на цыпочках, все никак не мог увидеть Лилю. И вдруг увидел. Она стояла у другого выхода вагона и смотрела на меня. Поезд тронулся. Папа на ходу поцеловал Лилю в лоб и соскочил на перрон. Я пошел рядом с медленно набиравшим скорость поездом. А Лиля с рассыпанными по плечам светлыми волосами и полосатой ниточкой на шее смотрела на меня. Литературно-художественное издание Для младшего школьного возраста Пайтык Анна МАЛЬЧИШКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ. НАШИ ГОСТИ Повести Ответственный редактор С. И. Губарева Художественный редактор Ю. Н. Стальская Технический редактор Г. Г. Рыжкова Корректор Г Ю. Жильцова ИВ № 12548 Сдано в набор 09.10.90. Подписано к печати 09.07.91. Формат Бум. типогр. № 2. Шрифт обыкновенный. Почать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр. — отт. 13, 86. Уч. — изд. л. 13,27. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5398. Цена 2 р. 50 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР. 127018," Москва, Сущевский вал, 49. Отпечатало с фотополимерпых форм «Целлофот»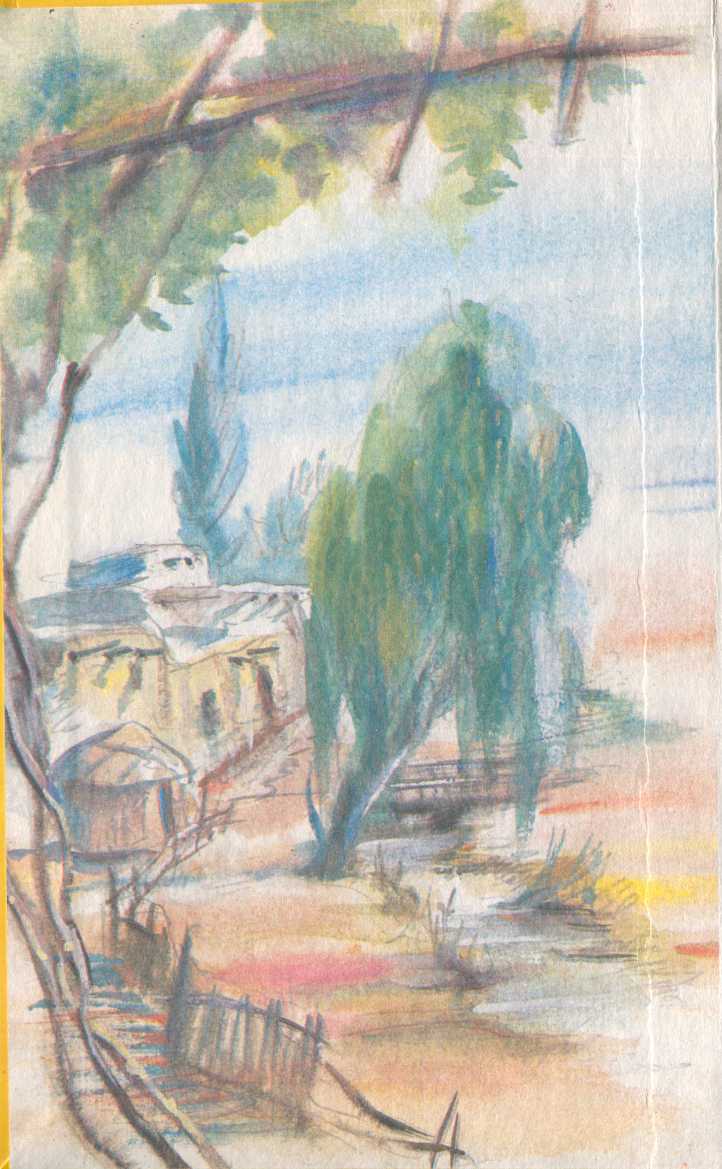

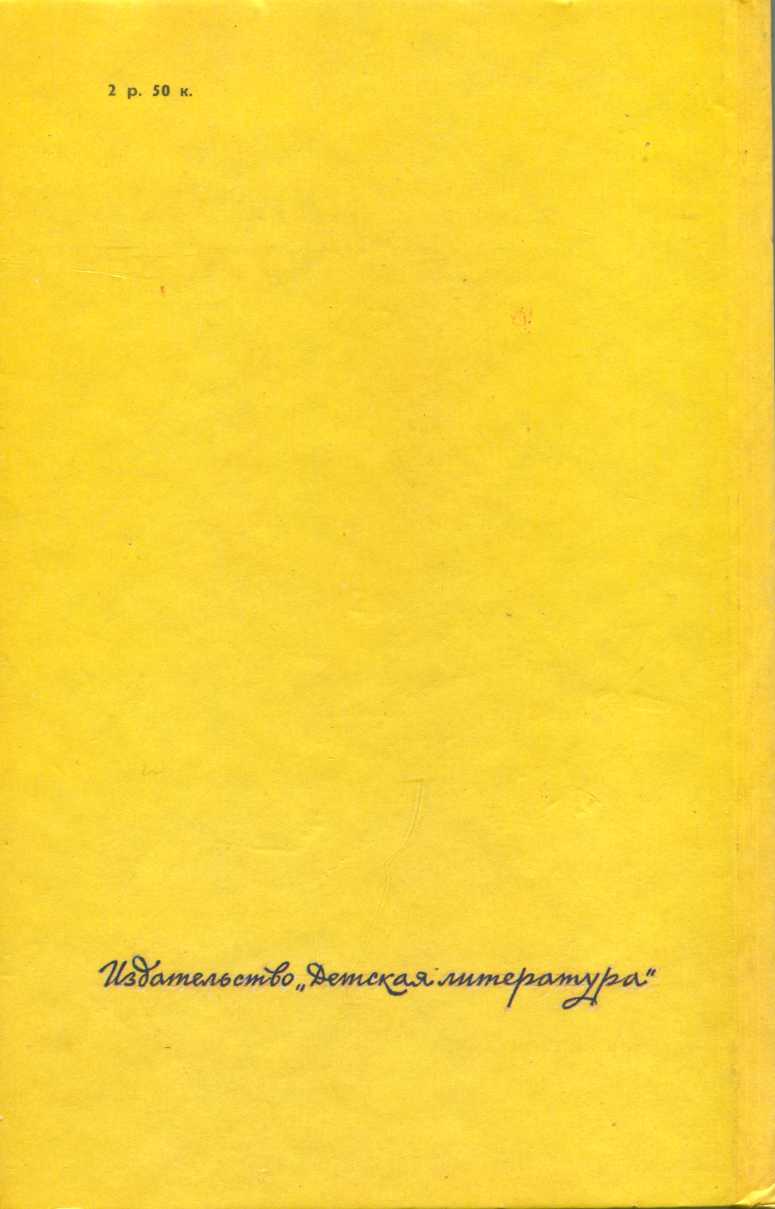

Последние комментарии
3 дней 20 часов назад
4 дней 8 часов назад
4 дней 9 часов назад
4 дней 20 часов назад
5 дней 14 часов назад
6 дней 3 часов назад