Дэвид Хейфец На коне: Как всадники изменили мировую историю
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Галина Бородина Научный редактор: Станислав Мереминский, канд. ист. наук Редактор: Наталья Нарциссова Издатель: Павел Подкосов Руководитель проекта: Александра Казакова Арт-директор: Юрий Буга Дизайн обложки: Алина Лоскутова Корректоры: Елена Воеводина, Ирина Панкова Верстка: Андрей Ларионов Иллюстрация на обложке: A Hindu raja on a black horse. Painting by an Indian artist, 1800s. Wellcome Collection. Source: Wellcome Collection
© David Chaffetz, 2024 © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2026
* * *
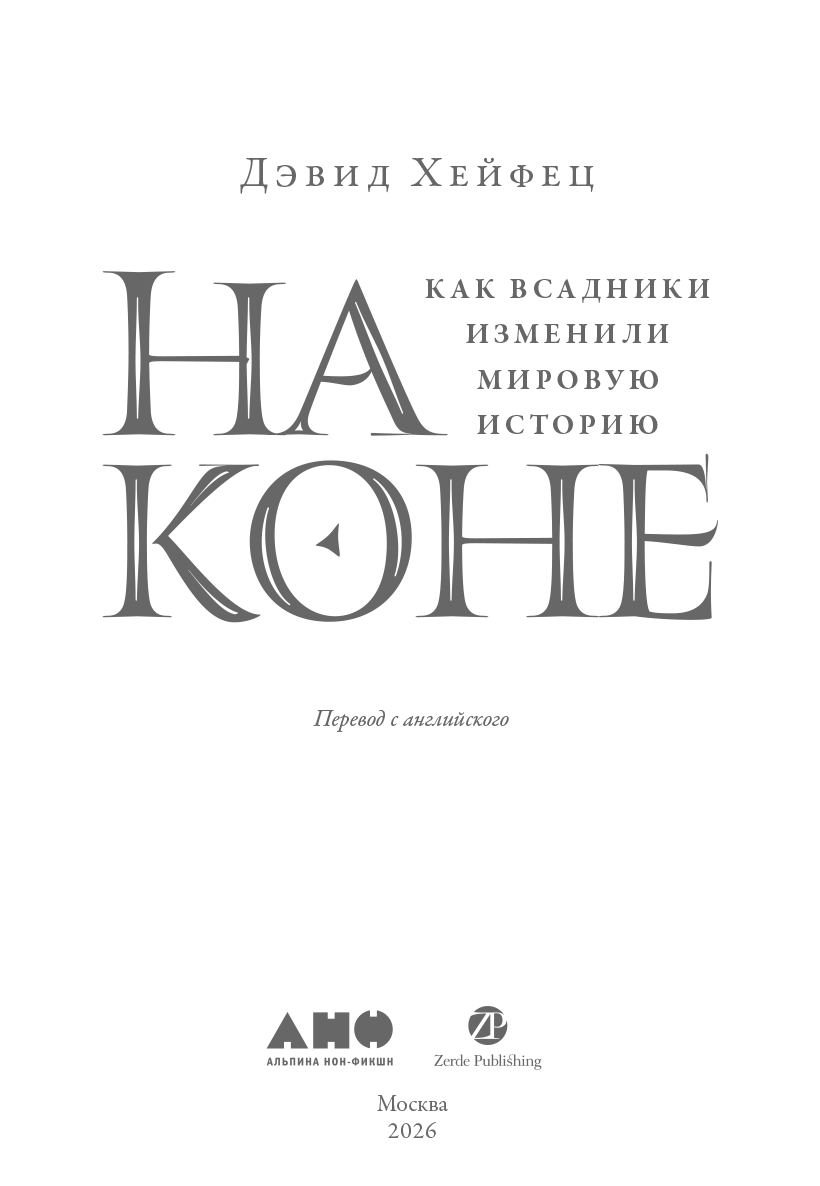
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Маргарите Тэйбор Йетс Мы готовим сабли и копья; смерть нас сражает без боя. Мы седлаем коней быстроногих; мерной поступью ночь настигает. Не воротишь былого; дороги нет влюбленным к воссоединенью. Что осталось мне от любимой? Только сон, что призраку снится.АЛЬ-МУТАНАББИ (915–965)
Пролог
Дорога до нашего первого монгольского стойбища оказалась неблизкой: неделя в тесном купе транссибирского экспресса Москва – Улан-Батор, а потом еще несколько часов пути по бездорожью в старом «лэнд-крузере», сменившем на своем веку немало хозяев. Теперь же проводники подобрали каждому из нас по коренастому и гривастому монгольскому коньку. После дорожной тряски я так устал, что с трудом держался в седле. Проводники поторапливали, а я вдруг понял, что могу зарыться в гриву своего коня и с комфортом вздремнуть – так размеренно он шагал, нагруженный моими 68 кг веса. Но увы, проводники просили нас ускориться, потому что до вечернего привала было еще далеко. Они гнали своих лошадок вперед, подстегивая их легкими щелчками кожаных плеток, но мой конек, чувствуя, что я еле упираюсь ему в бока, продолжал переставлять ноги прогулочным шагом, вынуждая наших нетерпеливых, но и незлобивых проводников регулярно останавливаться, поджидая, пока я их нагоню. Я был самый медленный в группе. Тени уже удлинились, когда мы добрались до стойбища – этакого Airbnb посреди степи. Состояло оно из нескольких юрт – круглых белых войлочных шатров. Подъехав к ним, я самым постыдным образом буквально вывалился из седла: один из проводников тут же припомнил, как я заверял его, что раньше уже ездил верхом. «Раньше да, – оправдывался я, – но не каждый же день, как вы». Мышцы нещадно болели. Я много лет не сидел в седле. Чтобы отпраздновать наше прибытие, хозяева встретили нас – или, скорее, подвергли испытанию – многочисленными здравицами, сопровождавшимися айраком – перебродившим кобыльим молоком. Россиянам и тюркским народам Центральной Азии этот традиционный степной напиток известен под названием «кумыс». С этим питьем знакомятся неискушенные юные герои повестей Толстого, пускаясь в свои степные приключения. Он ударяет в нос свежим травянистым ароматом, но оставляет сомнительное послевкусие кобыльего пота. Алкоголя в нем не больше, чем в слабом пиве, и, чтобы разделить веселье наших монгольских хозяев, выпить нам пришлось бы немало – и, пока на степь опускались сумерки, мы, вспоминая о легендарных пирушках монгольских ханов прошлого, так и сделали. Хозяева неустанно подливали нам айрак из бутылки из-под кока-колы, а мы с преувеличенной любезностью подставляли свои чашки. Но выпить весь предложенный нам молочный напиток было бы так же невозможно, как охватить взглядом Млечный Путь, висевший над нашими головами. Юрта, похожая на одинокую звезду в ночном небе, крохотной песчинкой белела в огромном и однообразном пространстве степи. Этот лишенный ориентиров и почти не населенный ландшафт мало походил на место, где могла бы вершиться история. Но именно здесь, в степи, судьбоносным образом пересеклись пути людей и лошадей. Ни одно животное не оказало такого влияния на историю человечества, как лошадь. Все началось в доисторические времена, когда люди охотились на лошадей – тогда некрупных и пугливых животных – ради пропитания. Затем охотники приручили лошадь, чтобы обеспечить себя мясом, а позже и кобыльим молоком, которое, кстати, гораздо питательнее коровьего. Для обоих видов одомашнивание стало переломным событием: из животного, которое, едва учуяв человека, пускалось в галоп, лошадь превратилась в самый ценный вид домашнего скота. Потребность лошади перемещаться на большие расстояния в поисках новых пастбищ заставила коневодов расселиться по евразийским степям, а чтобы не отставать от кочующих на дальние расстояния табунов, пастухи научились ездить верхом – и это изменило ход истории. Верховая езда сделала лошадь стратегическим ресурсом, в свое время не менее важным, чем нефть в ХХ в. А племенное разведение превратило лошадь в то быстрое и мощное животное, каким мы знаем его сегодня. Лошади и всадники заполонили степь и основали первые степные империи – хунну, кушанов и небесных тюрков, и это только первое, что приходит на ум. Сегодня мало кто о них помнит, но когда-то это были великие империи, занимавшие огромные пространства. И хотя по численности населения степные государства заметно уступали земледельческим цивилизациям, к которым принадлежали в том числе Китай, Индия и Иран, они владели половиной мирового поголовья лошадей, что позволило коневодческим народам сыграть огромную роль в истории. Это они обеспечили первые контакты между старыми земледельческими обществами. Искусство, религиозные верования, спортивные игры и мода добирались из одного конца Старого Света в другой в седельных сумках степных всадников. Лошадь была и средством передвижения, и символом: через нее проявляли себя боги, вместе с нею хоронили королей, на ней скакали принцессы, играя в поло, ее воспевали поэты в стихах, которые до сих пор учат наизусть местные школьники. Лошадь – это ключ к пониманию истории обширной территории, раскинувшейся от Дуная до Желтой реки. Огромные табуны лошадей прекрасно себя чувствовали в нежарких, сухих и травянистых степях современных Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и Венгрии. Сами названия этих стран напоминают о государствах, рожденных силой степных лошадей[1]. Угроза, которую представляли налеты степняков, заставила оседлые земледельческие цивилизации разводить собственных лошадей, торговать ими, сражаться за них и выработать свою разновидность конной культуры. Лошади стали играть почти такую же важную роль в их экономике, дипломатии и военной стратегии, как и у степных народов. Степь, с ее обширными пастбищами, всегда лучше подходила для разведения лошадей. Оседлые народы, не располагавшие такими пастбищными землями и не столь искусные в разведении, вынуждены были тратить огромные усилия на содержание своих табунов. Они привлекали степняков в качестве конюхов и наемников, притягивая порой к своим границам целые степные государства. По мере того как степные народы все больше сближались с оседлыми, складывались предпосылки для того, чтобы какая-нибудь степная империя однажды захватила мир. Это удалось монголам под предводительством Чингисхана. Сумев объединить жителей степей, Чингисхан использовал силу лошади так, как не удавалось никому до него. Монгольская империя, процветавшая с 1206 по 1368 г., ознаменовала высшую точку развития кочевых коневодческих цивилизаций, восторжествовавших над оседлыми народами. Традиционная историческая наука считает, что по окончании эпохи монголов, когда на поле боя все шире стал применяться порох, лошадь утратила статус стратегического ресурса. И все же именно на лошадях держалось могущество трех последних великих сухопутных империй Евразии. В XVI в. династия монголов, которых мы называем Великими Моголами, собрала самую большую конную армию, какую только видала Индия, и впервые за тысячу лет объединила этот Азиатский субконтинент. В конце XVIII в. маньчжурский Китай – при поддержке все еще мощной конной силы монголов – отодвинул степную границу страны дальше, чем это сделали все предыдущие династии, и тем самым определил очертания современной Китайской Народной Республики. А в конце XIX в. Россия, некогда вассальное государство монголов, опираясь на конную силу украинских казаков, завоевала значительную часть Евразии. И несмотря на то что в этот период Россия и Китай лишили степных коневодов главенствующей роли, даже на заре ХХ в. лошади по-прежнему оставались важнейшим средством получения политической власти.Большая часть событий, описанных на страницах этой книги, разворачивается в Евразийской степи, на западе которой поросшие травой равнины сменяются густыми лесами и крутыми склонами Карпатских, Богемских и Альпийских гор. Западная Европа имела совершенно иной опыт взаимодействия с лошадьми. Конные народы степей хотя пытались несколько раз, но так и не смогли завоевать ту часть света, что расположена к западу от «железного занавеса», отделявшего некогда страны советского блока от НАТО. Аттила и гунны, аварский хан Баян, хан булгар Аспарух, венгерский дьюла Арпад – все они использовали богатое травяными угодьями среднее Подунавье в качестве плацдарма для своих завоеваний, но ни одна из попыток продвинуться дальше на запад успехом не увенчалась. И все-таки степняки оставили свой след в Европе. Булгары, сербы, хорваты и мадьяры (венгры) увековечили себя во всей ее восточной части[2]. Польская знать ведет свою родословную от древних степных завоевателей, чьи гробницы, набитые сокровищами и принесенными в жертву лошадьми, обнаруживаются по всей стране. Западная Европа просто не могла прокормить лошадей в том же количестве, что и степь. В степи верхом ездили все и все мужчины воевали. Бывало, что и женщины участвовали в конных сражениях. Степные армии численностью в 50 000, а то и 100 000 человек были не таким уж редким явлением: под их знаменами собирался весь народ. В средневековой Западной Европе все было иначе: там армия из десяти тысяч всадников представляла собой редкое и внушительное зрелище. Быть всадником в Западной Европе означало быть рыцарем, шевалье, риттером, носящим золотые шпоры, – к этому классу принадлежало в лучшем случае 1–2% населения. Многие славные битвы в Западной Европе велись и выигрывались пешими воинами, а решающие кавалерийские сражения можно было по пальцам пересчитать. Как сказал один французский генерал по поводу атаки легкой кавалерии в 1854 г., в ходе Крымской войны, «с'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre» («это прекрасно, но это не война»). В Западной Европе лошадь в первую очередь служила средством передвижения для дворянства, а с изобретением хомута стала помощницей пахаря. Часто пахотные лошади были одновременно и боевыми, о чем с юмором напоминает нам Сервантес в истории о Дон Кихоте и его тщедушном Росинанте. Парадоксально, но промышленная революция способствовала огромному и очень позднему росту поголовья лошадей в Западной Европе, поскольку в лошадях в то время появилась большая нужда: они волокли баржи по каналам, перевозили бочонки с пивом, их впрягали в экипажи. В одном только Лондоне в 1870-х гг. насчитывалось не менее 280 000 рабочих лошадок[3]. В целом за XIX в. поголовье лошадей в Англии и Уэльсе увеличилось втрое и достигло трех миллионов. Однако на протяжении большей части истории Западной Европы лошади была отведена сравнительно скромная роль. Торговлю, а также перевозку людей и грузов обеспечивали судоходные реки и моря. Великие европейские империи возникали как морские торговые государства: Афины, Рим, Венеция, Испания, Португалия, Нидерланды, Франция и Британия. В истории Нового Света лошади тоже сыграли небольшую, но примечательную роль. Первые народы пришли туда из Азии и привели с собой единственное одомашненное животное – собаку. Когда в XVI в. на североамериканском континенте появились испанцы, они быстро заселили местные степи – прерии Мексики и юго-западной части США – лошадьми и другим домашним скотом, которому пришлись по вкусу бескрайние просторы ранчо и эстансий. Коренные жители юго-запада быстро оценили преимущества верховой езды и буквально за несколько поколений стали лихими наездниками[4]. Однако, в отличие от конных народов Старого Света, племена апачей, индейцев лакота и команчей не стали заниматься разведением скота. Единственным их занятием стала охота на бизонов и набеги на земледельческие общины (как переселенческие, так и местные). Такому образу жизни пришел конец, когда усилиями переселенцев стада бизонов резко сократились. Ковбои и вакерос продолжали вести жизнь ранчеро. Лошади благоденствовали на американских Великих равнинах – экологическом близнеце Евразийской степи, но такого значительного вклада в историю, как в Старом Свете, не внесли. В Новом Свете лошадь вышла на сцену слишком поздно и важную роль играла лишь несколько столетий, в то время как в Евразии она и человек были тесно связаны друг с другом целых четыре тысячелетия. Из сегодняшнего дня это может показаться странным, но все эти тысячелетия люди прекрасно отдавали себе отчет в ценности лошади. Китайский полководец династии Хань Ма Юань в I в. н. э. писал, что «лошади – основа военной мощи, важнейший ресурс государства». Он предупреждал императора: «Если позволить силе лошадей ослабнуть, государство начнет клониться к упадку»[5]. «Главное, в чем нуждаются правители, герои, великие воины и именитые люди, – писал могольский военачальник XVII в. Фируз Джанг, – и от чего зависит слава и величие империи, завоевание царств и областей, – это конь. Без него невозможно создать государство, покорять страны и невозможно царствовать»[6]. Но лошади были не только орудием строителей империй. Лошадь изменила самые простые, повседневные аспекты человеческого бытия. Жизнь верхом привела к появлению массовых охот, марафонских скачек и конных видов спорта, привлекавших восторженных зрителей. То, что мы сейчас называем Шелковым путем, правильнее было бы называть путем конным, ведь именно конь, а вовсе не шелк, связал продавцов и покупателей Европы и Азии и протоптал первые протяженные международные торговые пути. Красоту лошади воспевали поэты и художники. Особый образ жизни, сложившийся вокруг разведения лошадей, оказался на удивление однородным и устойчивым на всей территории Евразии. Культура коневодства была предметом восхищения и подражания для всех оседлых цивилизаций степей, о чем свидетельствуют терракотовые китайские лошади империи Тан, великолепная конская упряжь червленого серебра из сокровищницы Московского Кремля и восхитительные конные портреты, выполненные индийскими художниками эпохи Великих Моголов. Лошадь лишилась статуса стратегического ресурса не раньше, чем ее вытеснили автомобили и самолеты. Только тогда пришел конец культуре коневодства, сохранявшейся на протяжении четырех тысячелетий. Но это произошло столь внезапно и бесповоротно, что роль лошади как опоры человеческой цивилизации оказалась в значительной степени забыта. Книга «На коне» рассказывает об удивительной истории лошади и одновременно предлагает новый взгляд на возникновение современного мира. Учитывая, как важна была лошадь на протяжении многих веков, просто удивительно, что вне специальной литературы в наших учебниках истории почти ничего не говорится о том, откуда лошади взялись, как они были одомашнены, как появилась верховая езда и, самое главное, почему все это имеет такое большое значение. Между тем лошадь должна бы занимать центральное место при изучении истории древних государств, отношений между оседлыми и степными народами, а также политического развития коневодческих народов. Помимо антропологии, археологии, генетики и сравнительной лингвистики, эта книга опирается на исследования, мощным потоком хлынувшие после распада Советского Союза. Россияне, украинцы, казахи, монголы и даже китайцы внезапно освободились от идеологических ограничений и воспользовались возможностью заново открыть для себя историю степей. Примерно в то же время резко шагнули вперед технологии, в том числе радиоуглеродное датирование. Палеогеномный анализ – извлечение ДНК из костей – показывает, как еще в бронзовом веке, примерно от трех до пяти тысячелетий назад, одомашнивание и селекционное разведение лошадей в Казахстане и Сибири сказалось на генетическом многообразии вида. Сражаться верхом люди научились около 1000 г. до н. э. – нам это известно из свежих, проведенных в Казахстане исследований конских и человеческих скелетов: характерные травмы костей и связок обнаруживаются и у седлающего, и у оседланного. Раскопки в Сибири и Китае показывают, насколько широко расселилась по свету та же самая группа всадников и как они соединили Восток и Запад. И если уподобиться лошади, которая настойчиво выкапывает траву из-под снега, мы можем обнаружить под слоем неизвестного ее историческую роль – стоит лишь поскрести. Трудно поверить, что в этой однообразной и пустынной местности произошло великое множество исторических событий, и все же это так. Должно быть, те же мысли приходили в голову каждому путешественнику, разбивавшему здесь лагерь. Капитан Буйан де Лакост, инженер Транссибирской железнодорожной магистрали, в своей книге «В священных землях древних тюрков и монголов», которая увидела свет в 1911 г., писал: «Я устроился на ночь в нашей продуваемой всеми ветрами юрте, тщетно пытаясь согреться при температуре, близкой к нулю. Я лежал без сна, а мои мысли, казалось, блуждали по степи ушедших веков, когда лошадей в ней было столько, что люди уподобляли их звездам на небе»[7]. За несколько столетий до путешествия Лакоста в Центральную Азию Чингисхан собрал больше миллиона лошадей для своих воинов, чтобы передвигаться по бескрайним просторам завоеванных им земель. Это число вовсе не поэтическое преувеличение, вышедшее из-под пера летописца, – оно подтверждено историческими данными. И сейчас, когда я выглянул из юрты, такой же ветхой, как и та, в которой ночевал французский инженер-железнодорожник, звездная ночь и в самом деле показалась мне единственным средством представить себе, как могла бы выглядеть такая конница. К тому времени, как мы проснулись, солнце уже вовсю заглядывало в отдушины юрты, а наши хозяева готовили завтрак, который не обошелся без неизменного айрака. Легкое опьянение – нормальное состояние монгольского скотовода. Интересно, что история отношений человека и лошади тоже началась с кобыльего молока. Без него не было бы коневодства – верховой езды, скачек, охоты; не было бы ни престижных пород, ни конного спорта, ни конных портретов. Не было бы конных армий и завоеваний, не было бы Чингисхана, империй Моголов и Тан. Одомашнив лошадь, человечество отправилось в долгое путешествие в компании животного, совершенно не похожего на всех прочих, что мы приручили. Однако этого могло и не произойти. Прежде чем люди пристрастились к кобыльему молоку, прежде чем мы одомашнили лошадей, мы почти полностью их истребили.
1 Одомашнивание ради молока
Первые связи, 40 000–2000 до н.э

Прежде чем триумфально войти в историю, род Equus едва в нее не канул – еще в доисторический период. Первоначально это животное обитало на территории Северной Америки: в 1928 г. на ранчо в Айдахо были обнаружены ископаемые останки возрастом в три с половиной миллиона лет – это самое раннее из известных нам свидетельств существования лошади. Однако к тому времени, как в 1519 г. конница Эрнана Кортеса сошла на мексиканский берег в районе современного города Веракрус, обитатели Северной Америки уже 12 000 лет в глаза не видали лошадей. Палеонтологи предполагают, что люди, перебравшиеся в Новый Свет по перешейку между Азией и Аляской, истребили лошадей, которые до их появления миллионы лет кочевали по Северной Америке. Возможно также, что климатические изменения превратили травянистые просторы Северной Америки в менее подходящие для лошадей леса. Это могло бы стать для лошади концом истории, и тогда мы знали бы о ней не больше, чем о шерстистом мамонте или саблезубом тигре, только по ископаемым останкам и наскальной живописи. Но примерно в то же самое время, когда жила ископаемая лошадь из Айдахо, Equus начал перемещаться по азиатско-аляскинскому сухопутному мосту в обратном направлении. Распространившись по пастбищам Старого Света, род Equus разделился на три вида, которые существуют и поныне: лошадь, зебра и осел. Современная лошадь осталась в более холодных зонах Евразии, а зебра и осел обосновались южнее, в жарком сухом климате Северной Африки и Аравийского полуострова[8]. Первые люди Евразии, как и их американские сородичи, охотились на лошадей ради мяса, точно так же как они охотились на другую проворную четвероногую добычу вроде оленей и антилоп. Свидетельства охоты на лошадей в изобилии встречаются в наскальных рисунках и петроглифах, самые известные из которых были найдены в знаменитой пещере Ласко во Франции. Их возраст – 17 000 лет. Между прочим, лошадей пещерные художники изображали чаще всего: видимо, древних людей восхищала красота и скорость животного[9]. Согласно древнему поверью, чтобы обрести некое качество, нужно съесть растение или животное, этим качеством обладающее. Так, в некоторых культурах рог носорога пользовался большим спросом у людей, желавших обрести приписываемую этому зверю потенцию. Возможно, древние люди ценили мясо лошади потому, что лошадь бегала очень быстро – и охотники мечтали не отставать от нее. Пристрастие доисторических охотников к конине было вполне объяснимо и с точки зрения питательности[10]. В холодных, суровых условиях последнего ледникового периода конина была ценным источником белка и незаменимых жирных кислот, крайне важных для здоровья и роста. В ней меньше насыщенных жиров, чем в других видах мяса, и люди легче ее переваривают. Отчасти по этой причине современные монголы, отлучая младенцев от материнского молока, первым делом переводят их на конское мясо. В европейской и американской кухне конина встречается редко – все дело в том, что в VIII в., во времена, когда только что обращенные в христианство германцы поедали конину, отправляя свои старые языческие ритуалы, католическая церковь наложила запрет на ее употребление[11]. Как еще объяснить исчезновение этого вкусного и питательного продукта из западного рациона?
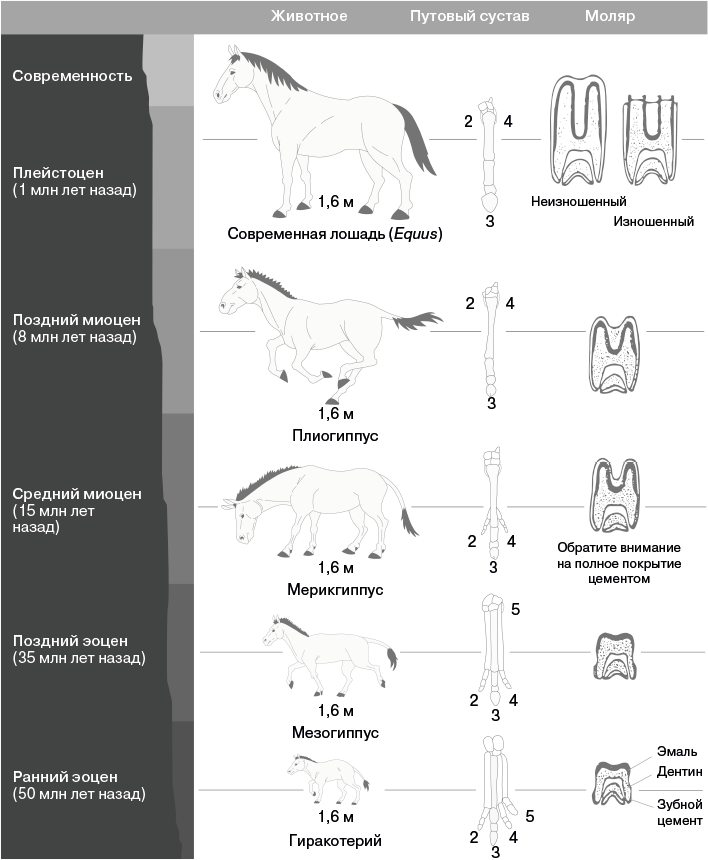 Эволюция лошади
Эволюция лошади
То ли из-за магических свойств конины, то ли из-за ее питательности древние европейцы ели ее в большом количестве. В 1866 г. в местечке Солютре, что недалеко от Ласко, ученые обнаружили скелеты 10 000 убитых лошадей[12]. Они принадлежали к подвиду Equus caballus gallicus – это существо было меньше и шустрее своих современных родичей[13]. По всей видимости, Южная Франция изобиловала лошадками вида gallicus. Во время ледникового периода климат в Солютре был схож с климатом современной Монголии с его холодными и сухими зимами. Но, как и в Новом Свете, климатические изменения и охота привели к тому, что 12 000 лет назад, в конце ледникового периода, вид Equus caballus gallicus вымер. Западная Европа больше не подходила диким лошадям в качестве среды обитания. Сокращающаяся популяция Equus нашла приют в Южной Иберии и, возможно, в Анатолии, но палеонтологи сомневаются, что современная лошадь появилась в каком-то из этих мест[14]. Вероятно, когда линия вечной мерзлоты сдвинулась к северу, предки современных лошадей отступили в сухую и прохладную Евразийскую степь[15]. Эта обширная, поросшая травой территория обеспечила лошади более безопасную среду обитания. Людей там поначалу было очень мало, и в новом естественном заповеднике табуны лошадей только разрастались[16]. Люди пришли в степь по долинам рек, протекавших у ее внешних границ, таких как украинский Днепр или река Окс, которую в современном Узбекистане называют Амударьей. Когда табуны диких лошадей спускались к реке утолить жажду, люди, поджидавшие в засаде, нападали на них. Как предполагают ученые, одомашнивание лошади началось с того, что люди начали ловить жеребят, чтобы использовать их в качестве приманки при охоте на кобылиц. Позже они придумали держать пойманных диких лошадей в загонах, чтобы обеспечить себе запас мяса и избежать трудностей и неожиданностей охоты. Начиная с 1980-х гг. археологи, ведущие раскопки в степях Казахстана, обнаруживают останки животных, которые датируются примерно 3700 г. до н. э. и свидетельствуют о наличии загонов и о систематическом убое скота, который можно отличить от охоты. Эти находки оставляют достаточно пространства для интерпретаций, и специалисты ведут горячие споры о том, какие стоянки указывают на охоту, а какие – на отлов и содержание в загонах[17]. Как бы то ни было, одно известно точно: начиная примерно с 3000 г. до н. э. люди и лошади учились жить вместе: лошади – преодолевая природный инстинкт в испуге бросаться в бегство, а люди – развивая новую технологию табунного коневодства. Для лошадей переход от дикой жизни к одомашниванию был поначалу поверхностным и легко обратимым[18][19]. В загонах, которые в те давние времена были не более чем скотобойнями, держать животных долго было нельзя. Их нужно было отпускать попастись на волю, в степь, где они могли смешаться с дикими табунами и, вероятно, снова следовать своей естественной склонности убегать при приближении человека. Но люди научились привязывать жеребят возле своих жилищ, чтобы кобылы исправно возвращались их покормить. Тем временем потомство кобыл, выросших среди людей, склонно было считать пастухов частью своей группы, особенно в отсутствие диких взрослых животных[20]. Страху перед хищниками жеребята учатся у матерей; дикие кобылицы учили своих детенышей убегать от людей, но кобылы, которые среди людей выросли, учили жеребят доверять им. Так кобылы и жеребята стали обычной приметой человеческих поселений, пусть даже скрывающиеся в степи жеребцы оставались дикими. Бывало, что дикий жеребец сманивал выращенную в неволе кобылу и, влившись в его табун, она без труда возвращалась в дикую природу. Со временем в принадлежавших людям табунах собралось столько зрелых, фертильных кобыл, что жеребцы, преодолев инстинктивный страх перед человеком, стали присоединяться к живущим в неволе. Но диких лошадей все равно было много, и приходящие из степи жеребцы иногда покрывали одомашненных кобыл и таким образом обогащали генетический фонд. Степные легенды о диких лошадях – отголоски той ранней фазы одомашнивания, когда жеребцы еще не смирились с обществом человека. В одних историях полуконь-полудракон появляется из воды[21] – возможно, это воспоминание о реках, у которых древние охотники поджидали добычу в засаде. В других сказочные кони спускаются с небес – здесь, видимо, нашла свое отражение уверенность древних людей в том, что по скорости лошади не уступают птицам[22]. Все эти легенды лишь подчеркивают, сколь мало прирученными казались людям лошади, и особенно жеребцы. Вплоть до Нового времени, когда истребили последних диких лошадей, взаимопроникновение одомашненной и дикой популяции не прекращалось. У современных лошадей, которые все без исключения являются потомками диких степных животных, насчитывается более семидесяти семи материнских линий ДНК, и это говорит о том, что процесс привлечения диких кобыл в одомашненные табуны был длительным и нестабильным[23]. В 2008 г. в попытке обратить вспять процесс, начавшийся пять тысячелетий тому назад, специалисты по охране природы вернули 325 лошадей Пржевальского в их исконную среду обитания в Монголии[24]. Лошадь Пржевальского, дикий (или одичавший) родич современной лошади[25], к началу ХХ в. сохранилась только в зоопарках. Выросших в неволе и выпущенных в дикую природу жеребят жизни в степи обучали кобылы, которых вернули в степь еще раньше. Когда одичавшее стадо увеличилось до двух тысяч особей, жеребята быстро утратили желание общаться с людьми[26]. Эта природоохранная кампания демонстрирует исключительно поверхностный характер приручения рода Equus. По сравнению с другими прирученными человеком животными, лошадь одомашнена им очень неглубоко. К тому же произошло это довольно поздно: овца, например, была одомашнена на 7000 лет раньше лошади, собака – на 20 000 лет. На следующем этапе одомашнивания, в конце III тыс. до н. э., помимо забоя лошадей на мясо, люди начали получать от кобыл молоко[27]. После этого человек стал еще сильнее зависеть от лошади – и связь между ними укрепилась. Благодаря тысячелетнему опыту разведения коров, овец и коз люди научились доить прирученных четвероногих. Они просто оттаскивали сосунка от матери, удерживали ее на месте с помощью продетой в ноздри веревки и сцеживали вытекающее молоко в кожаный бурдюк, подставленный под сосцы. Кобыла позволяет доить себя только в присутствии жеребенка. Сегодня в Монголии можно наблюдать, как жеребята широко распахнутыми глазами с завистью смотрят, как доят их матерей. Даже после отлучения трех-четырехмесячных жеребят кобылы доятся еще год, прежде чем снова ожеребиться. Кобылье молоко стало неотъемлемой частью рациона пастухов, а для монголов, казахов и киргизов оно остается им и поныне. Современные коневодческие народы употребляют в пищу как перебродившее, так и свежее кобылье молоко – на вкус оно сладкое и пахнет кокосом. Эти молочные продукты не просто дополняют рацион скотоводов – это их основной продукт питания, как хлеб или рис для земледельцев, но только коневоды утоляют кобыльим молоком и голод, и жажду. Молоком одной кобылы можно прокормить трех человек, в нем больше белка и витаминов, чем в коровьем, и, если уж на то пошло, в женском материнском молоке[28]. Оно обладает теми же полезными свойствами, что и конина. При этом оно не очень жирное, и сохранять его в виде сыра затруднительно. Поэтому, чтобы в отсутствие холодильника молоко не испортилось, степные коневоды делают из него айрак или кумыс, которым они так щедро делятся с иностранными гостями. Еще одно преимущество сбраживания в том, что оно расщепляет лактозу, а значит, обработанное таким образом молоко могут усваивать люди с лактазной недостаточностью – а это 95% современных монголов. Пристрастие к кобыльему молоку еще сильнее укрепило зависимость человека от лошади, а ведь с этого связь двух наших видов только началась. Коневодство в те давние времена мало отличалось от нынешнего животноводства: жизнь пастуха определялась временами года и жизненным циклом лошади. Кобылы жеребились весной, после чего пастухи отлучали жеребят от матери, чтобы маток можно было доить. С приближением зимы двух-трехлетних жеребчиков забивали на мясо, как это делается сегодня при производстве телятины или баранины. Бесплодные кобылы или такие, что давали мало молока, тоже шли на убой. Нескольких жеребчиков выращивали для разведения в том же соотношении полов, что и в дикой природе: одна особь мужского пола на шесть – десять женских особей[29]. Древние скотоводы не пытались улучшать поголовье – за исключением выбраковки кобыл, дающих мало молока, что повышало удойность табуна. По странному совпадению оказалось, что удойные кобылы вырабатывают и больше окситоцина[30]. Окситоцин, «гормон любви», помогал лошадям формировать эмоциональные связи с людьми, что дало начало гораздо более глубокой привязанности, существующей между нашими видами сегодня и не похожей на отношения человека и других одомашненных животных. (Одни только собаки, которых мы приручили первыми, могут сравниться с лошадьми в этом отношении. Взаимной привязанностью с собаками мы, скорее всего, обязаны совместной с ними охоте.)[31] Отношения между людьми и лошадьми вещь непростая, потому что каждая лошадь, как и каждый человек, обладает индивидуальностью. Лошади испытывают сильные симпатии и антипатии – к другим лошадям и к некоторым людям, о чем знают любые наездники, пытавшиеся ездить на лошадях, затаивших друг на друга злобу. По уровню социальности с лошадью не сравнится ни одно стадное животное. Лошади сотрудничают, соперничают и играют друг с другом – в точности, как и мы. Живут они сравнительно долго, 20 или даже 30 лет, и фазы их жизни в какой-то степени соответствуют нашим. Они формируют прочные связи с другими лошадьми и так же привязываются к людям[32]. Эту социальную сторону характера лошади сегодня внимательно изучают, потому что многие горожане, владельцы лошадей, оставляют их одних в конюшнях, редко выезжают, а потом обнаруживают, что лошадь страдает в изоляции от владельца и сородичей. Лошади теряют социальные навыки, и ездить на них становится довольно трудно или даже небезопасно. Заметьте, что подобные опасения редко высказываются в отношении социальных навыков овец или коз. Другими словами, по мере того, как в доисторические времена развивались отношения между лошадьми и людьми, прочная связь между ними стала залогом благополучия обоих[33]. И пусть долгое время главной задачей лошади было обеспечивать людей пищей, у нее оказалось множество других удивительных свойств, которые позволили этому животному взять на себя дополнительные функции и в итоге превратили его в стратегический ресурс, не имеющий аналогов в истории развития человеческой цивилизации. Начать с того, что лошадь заняла особое место в иерархии стадных животных. Конечно, у каждого из них есть особенности, которыми сумел воспользоваться человек. Овцы выносливы, могут кормиться на скудных пастбищах и не требуют особого ухода. Мяса на их костях пропорционально больше, чем у лошади, что делает их щедрым источником белка. Вдобавок в овечьи шкуры люди могут одеваться, а из овечьей шерсти валять войлок для юрт и головных уборов. Козы требуют еще меньше ухода, к тому же они наделены отличным чувством направления: нередко можно увидеть, как козы выступают во главе стада овец, которые следуют за ними, доверяя своим дальним родственникам указывать путь к пастбищу. Коровы дают молоко, телята – мясо, а волы тянут тяжелые повозки. В древние времена коровы не были такими эффективными машинами по производству молока, какими стали сейчас. Этот выносливый, пасущийся в степи рогатый скот давал тогда едва ли больше молока, чем кобылы, – раз в десять меньше, чем современные дойные коровы. А вот волы (кастрированные быки) в качестве тягловой силы всегда были предпочтительнее. Древние лошади имели не такие размеры, чтобы от них был толк в перевозке грузов. Поэтому роли лошади и коровы были перевернуты относительно современных: лошадь служила источником молочных продуктов, крупный рогатый скот – средством передвижения. При этом пастухи именно лошадей считали естественными вожаками стада. Отчасти это было обусловлено особенностями пищеварительной системы лошади[34]. Это не жвачные животные; они не пережевывают жвачку и не могут выблевать пищу, которая им не подходит. Поэтому в еде они разборчивее жвачных, и логично, что первыми щипать траву на каком-либо участке степи, выбирая лучшую, пускали сначала лошадей, а потом уже овец и коз. Лошади быстро передвигаются в поисках хорошей травы, ведя за собой мелких жвачных животных. Если сравнить стадо с армией, движущейся по степи, то лошади будут ее авангардом. К тому же лошадь – настоящий боец, что выгодно отличает ее от многих других стадных животных, а также от оленей и антилоп, ее дальних родственников. Эти животные для защиты полагаются на свою численность, а лошадь может в одиночку энергично обороняться при нападении хищников: волков, ягуаров и даже гепардов. В первую очередь это касается жеребцов или кобыл с жеребятами. Лошадь сильно лягается и больно кусается. Еще одна особенность лошади – она может пастись далеко от лагеря и не заблудиться, в отличие от хуже ориентирующейся в пространстве овцы. Поскольку лошади выше овец, они могут видеть поверх высокой степной травы, что позволяет использовать их не только для охраны стада, но и в качестве помощников на охоте. Лошади способны пастись на пастбищах, покрытых снегом глубиной до 30 см: твердыми копытами они проламывают снежную корку и добираются до травы под ней[35]. Монгольские пастухи и сегодня зимой выпасают лошадей и овец вместе, пользуясь уникальным умением лошади добывать из-под снега траву для себя и других животных, которые иначе голодали бы. Снег лошадям нипочем, и это открывает пастухам путь в земли, которые ранее нельзя было использовать для разведения скота. Лошадь буквально создана для того, чтобы вести за собой стадо[36]. В пользу этой идеи говорит и тот факт, что сухой конский навоз, который сам по себе при горении выделяет слишком много дыма, – лучшее средство разжечь костер из долго горящего и не такого дымного навоза жвачных животных. В сумме эти уникальные характеристики делают лошадь желанным дополнением к любому стаду. Неспроста еще в древности зародился сохранившийся до наших дней обычай[37] выпасать «четыре поголовья» сразу – лошадей, овец, коров и коз. Другие одомашненные животные, например яки в горах Цинхая и Тибета и верблюды в пустыне Гоби, пасутся отдельно от «четырех поголовий», поскольку предпочитают совсем другую среду обитания. Традиция совместного выпаса «четырех поголовий» доказала свою эффективность, а вот современные эксперименты с однородными стадами потерпели неудачу. Когда Казахстан еще входил в состав Советского Союза, коммунистическое правительство выступило с инициативой полного отказа от лошадей, посчитав, что от овец толку больше и управляться с ними проще. Множество овец тогда пало жертвой хищников, потому что не осталось лошадей, которые могли бы их защитить. С другой стороны, в 1990-х гг., когда в Монголию вернулся капитализм, замена коневодства интенсивным разведением коз – они ценились за пух, из которого делают кашемир, – привела к опустыниванию большой части пастбищ[38]. А вот компания из лошади и трех ее жвачных спутников прекрасно приспособлена к жизни в степи.
 Лошадь, пасущаяся в снегу в Кыргызстане
Лошадь, пасущаяся в снегу в Кыргызстане
Лошадь не только вела стада вперед, но и принуждала табунщиков к своеобразному, ни на что не похожему образу жизни. Из-за своих однопалых ног и хватких передних зубов лошади наносят больший ущерб пахотным землям, чем другие животные в стаде. Первые пастухи выпасали своих животных рядом с полями, засеянными сельскохозяйственными культурами. Археологические находки говорят о том, что пастухи в те времена либо сами возделывали землю, либо жили по соседству с земледельческими общинами[39]. Из библейских историй нам известно, как земледельцы, договорившись со скотоводами, пускали на свои поля овец и коз: те очищали землю от стерни и жнивья и удобряли пометом почву, подготавливая ее к посевам следующего года. Но когда табуны одомашненных лошадей увеличились в размерах, началась конкуренция за землю для выпаса и для выращивания сельскохозяйственных культур. Чтобы отыскать траву для лошадей и избежать конфликтов с соседями-земледельцами, пастухи стали уводить своих животных глубже в степь, на земли, малопригодные для возделывания[40]. Этот процесс усилил зависимость скотоводов от кочевого образа жизни и отделил их от земледельцев. Монголы гордятся тем, что не едят овощи («Это наши животные едят овощи, а мы едим их»), хотя неясно, насколько полезна или даже возможна для человека диета, состоящая исключительно из молока и мяса[41]. На протяжении большей части истории, не исключая и того времени, когда скотоводство окончательно отделилось от земледелия, растительные продукты неизменно составляли часть рациона пастухов, пусть и ограниченную. Но выделение собственно скотоводства и ширящийся разрыв между скотоводческими и земледельческими общинами заронил семена будущих разногласий и конфликтов. А между тем резвые четвероногие уводили пастухов все дальше от земледельческих поселений, навязывая двуногим свой ритм передвижения. Эта их тяга к перемене мест протянула еще одну связь между нашими видами, гораздо более значимую, чем отлов или доение: речь о верховой езде.
На спине у лошади
Мы не знаем, когда пастухи начали ездить верхом, зато знаем наверняка, что пасти лошадей и при этом не ездить на них невероятно трудно[42]. Лошади, даже не переходя на галоп, легко обгоняют человека. Привязанный сосунок может удержать поблизости только кобылу. Молодняк и взрослые жеребцы разбредаются в разные стороны. Когда приходит время сворачивать лагерь и уходить, уводя за собой овец, коз и коров, нужно как-то согнать в стадои лошадей. Всадники потребовались для того, чтобы собирать разбредшийся табун. Первыми, скорее всего, были дети[43]. Монгольские малыши, не боясь неизбежных кувырков и падений, и в наши дни карабкаются на спину всем четвероногим животным без разбору и катаются на овцах, козах, телятах и жеребятах. Дети в возрасте всего семи лет помогают пасти семейное стадо. Сидя на лошади, они способны управиться с двумя сотнями голов мелкого скота, в то время как взрослый человек на своих двоих с трудом может уследить за пятьюдесятью. Выпасая стадо в степи, где высота травы достигает полутора метров, ребенок, сидящий верхом на лошади, может видеть до самого горизонта. И хотя первые верховые лошади были гораздо ниже современных – не более двенадцати ладоней, или 1,2 м в холке, они все равно обеспечивали самую лучшую точку обзора в степи. У древних лошадей ни конечности, ни спина еще не были достаточно крепкими, чтобы целый день выдерживать вес взрослого человека; даже юные седоки часто меняли лошадей, чтобы меньше травмировать им позвоночник, – монголы делают так и сегодня. Верховая езда наверняка значительно облегчила труд пастуха и повысила мобильность стада – теперь в поисках травы и воды скотоводы могли уводить своих животных все дальше в степь. Нельзя сказать, чтобы лошади охотно подставляли людям свои спины. Это посягательство со стороны человека всегда воспринималось ими как еще большая агрессия, чем доение кобылы. В конце концов, кобылам нужно избавляться от молока, и, как мы уже знаем, сам акт доения эмоционально связывает кобылу и человека. Жеребенок, который свободно пасся в высокой траве и лишь изредка встречался с людьми, при попытке оседлать его впадал в панику, как если бы какой-нибудь древний хищник, лев или леопард, прыгнул ему на спину, чтобы сожрать. Ту же реакцию мы видим, когда ковбой объезжает строптивого жеребца: лошадь брыкается, встает на дыбы и делает все возможное, чтобы сбросить седока. В конце концов, если животное выбивается из сил прежде, чем избавится от человека, оно неохотно переходит в пассивное состояние и перестает бороться. Устанавливается напряженное перемирие: животное смиряется с неизбежностью веса всадника на своей спине. Если такие сражения ведутся в загонах и на пастбищах даже сегодня, то можно представить, как ожесточенно сопротивлялись еле-еле одомашненные лошади в III–II тыс. до н. э.[44] Может быть, примириться с седоком на спине лошадям помог гормон любви. Появление верховой езды совпало с интенсивным доением кобыл в период с 3000 до 2500 г. до н. э.[45] Поскольку люди все больше зависели от кобыльего молока как основной составляющей своего рациона, они разводили все больше лошадей, а чтобы управляться с возросшим поголовьем, им требовались наездники, которые следовали бы за стадами к свежей траве и воде. Происходили эти изменения, по всей видимости, в местности к северу от Черного и Каспийского морей. Появление верховой езды, какими бы значительными ни оказались его последствия, в письменной истории осталось незамеченным. Общества, овладевшие к тому времени письменностью и жившие к югу от степи, – шумеры и аккадцы – не обратили особого внимания на это явление[46]. В конце концов, народы, жившие в III тыс. до н. э. на Ближнем Востоке, были знакомы с ездой на ослах – родичах лошади, обитавших в Африке, и не видели ничего удивительного в том, что люди ездят верхом на других лошадиных. На самых старых ближневосточных изображениях всадников – маленьких статуэтках и наскальных рисунках – так сразу и не поймешь, кто изображен: лошадь или осел. В письменных языках того времени не существовало отдельного слова для обозначения именно лошади, в отличие от других лошадиных[47]. Да это и не имело значения: лошадь тогда еще не была тем рослым, мощным, устрашающим боевым конем, каким она стала в поздние века, да и пастухи не превратились пока в грозных воинов. Для жителей городов на окраинах степи верховая езда не имела ни социального, ни политического значения. Отсутствие исторических свидетельств заставляет современных ученых спорить о точной датировке появления верховой езды[48]. Честно говоря, едва ли не каждый этап развития верховой езды является предметом споров. Мы не уверены, что ископаемые остатки зубов лошадей III тыс. до н. э. бесспорно демонстрируют следы ношения удил. В более ранние периоды следов удил и уздечек вообще не обнаруживается, но это еще ни о чем не говорит. Верхом можно ездить и на неоседланной лошади: работать коленями, направляя животное, а руками держаться за гриву. Возможно, первые всадники продевали в нос лошади веревку, которую затем закрепляли вокруг морды животного и за ушами. Конечно, такая упряжь до наших дней сохраниться не могла, но этот способ верховой езды – такой же, каким пользовались индейцы американских прерий, – мог быть довольно удобным. Самое достоверное свидетельство существования верховой езды – ортопедическое: сохранившиеся скелетные останки с течением времени все чаще несут на себе следы травм, типичных для верховых животных и всадников[49]. Верховые лошади страдают от артрита и срастания спинных позвонков. Эти патологии мы начинаем наблюдать примерно с 2000 г. до н. э. Наездникам же приходится вовсю работать бедрами и коленями, что может почувствовать на себе каждый, кто хоть немного посидит в седле. Для всадников, живших в тот период, характерны удлиненные в силу постоянного напряжения поддерживающих мышц бедренные кости. Такие особенности свидетельствуют о том, что мы имеем дело с останками людей, которые уже овладели искусством верховой езды. Косвенные свидетельства существования верховой езды в этот период (2000 г. до н. э.) встречаются на все большей территории: это связано с широким распространением конного скотоводства по степи, началом тысячелетнего процесса, который приведет скотоводов на Ближний Восток, в Европу, Индию и Китай. Жажда странствий, свойственная лошадям – не людям, гнала оба вида вперед. Верховая езда просто позволяла человеку не отставать. Лошадь как никакое другое одомашненное животное нуждается в свежих пастбищах. В отличие от овец, большинству лошадей нужно пить каждый день, а соленую воду они переносят не лучше людей. Лошади готовы преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до воды, поскольку, что редко встречается среди животных, но характерно для человека, они обильно потеют, чтобы охладиться. Питательная ценность травы, в отличие от других растений, невысока, и лошадям приходится тратить на еду весь день. Они пасутся даже по ночам и спят не больше пары часов за раз. Если питательная ценность травы окажется ниже нормы, то животным просто не хватит часов в сутках, чтобы прокормиться. Они будут голодать. Поэтому поиск подходящих пастбищ – жизненно важное занятие для скотовода. Современные агрономы и гидрологи поражаются подробному знанию местных трав и водных условий, которым владеют пастухи, занятые традиционным коневодством, но для них отыскать хорошее пастбище – это вопрос жизни и смерти[50]. Кроме того, лошадь – это, как говорят скотоводы, «чистое животное»: лошади не станут щипать траву рядом с навозом, а это значит, что после выпаса табуна на каком-нибудь пастбище запах собственного помета гонит лошадей прочь, даже если позади еще осталась трава, которую можно съесть, и вода, которую можно пить[51]. Иными словами, разведение лошадей невозможно без обширных свободных пространств, и чем больше этих животных в собственности у какой-нибудь группы скотоводов, тем шире и дальше им приходится разбредаться. В зависимости от местных условий семье из пяти-шести человек для того, чтобы прокормиться, требуется от десяти до двадцати лошадей, несколько голов крупного рогатого скота и пара сотен овец и коз. Соответственно, группа из пяти-шести таких семей должна выпасать стадо в тысячу с лишним голов, для чего им потребуется около 60 кв. км травяной степи или от 180 до 360 кв. км пустыни вроде Гоби или Такла-Макана. По площади это равно городу размером с Филадельфию или Глазго, только с населением всего в несколько десятков человек. По оценкам историков, во времена Чингисхана в Монголии на площади около 1 555 000 кв. км, что в два раза превышает по размерам Техас и в шесть раз – Великобританию, проживало всего около миллиона человек. При этом численность скота в Монголии Чингисхана могла составлять от пятнадцати до двадцати миллионов голов, включая миллион лошадей. Но какими бы бескрайними ни были степные просторы, к концу влажного весеннего сезона стада истощали пастбища, и на лето пастухам приходилось перегонять их в горы либо на север. Эта ежегодная миграция определяла традиционный образ жизни степных народов. В некоторых районах Монголии, где пастухи регулярно перемещаются между летними и зимними стойбищами, он сохраняется и сегодня. Расстояние, которое они преодолевали, определялось условиями среды. В поросшей травой Внутренней Монголии типичный переход составлял 145 км, а в засушливом Южном Казахстане в середине XIX в. скотоводы могли проходить и по 1500 км. Отправляясь в путь, древним скотоводам приходилось тащить с собой весь свой скарб, а также детей, которые были слишком малы, и родителей, которые были слишком стары, чтобы идти пешком. Эту проблему степняки решили, переняв новую технологию, изобретенную в IV тыс. до н. э. где-то в районе Плодородного полумесяца, – четырехколесную повозку, запряженную волами. Повозки позволяли степным скотоводам перемещаться на большие расстояния и перегонять к подходящим пастбищам все более крупные стада животных, однако для лошадей телеги на массивных колесах из цельного куска дерева были слишком тяжелы, и их тянули волы. Позже на смену телегам, запряженным волами, пришли верблюды. Но даже сезонные миграции в поисках свежей травы не могли удовлетворить потребности растущих стад. Когда животных становилось так много, что с ними было уже трудно управляться, стадо делили между братьями и сестрами или между родителями и детьми, и новая группа кочевников отправлялась на поиски новых пастбищ. Таким путем скотоводство распространялось все дальше и дальше от своей изначальной родины к северу от Черного и Каспийского морей[52]. Условия в Центральной Азии суровее, чем в степях, расположенных западнее. Двигаясь на восток, коневоды пересекли пустыню Кызылкум, или «красные пески», Тянь-Шань, или «небесные горы», и Алтай – «золотые горы». Монгольская степь, простирающаяся к востоку от этих гор, богата хорошими пастбищами, но зимы там холодные, а снег покрывает землю долгие месяцы. До одомашнивания лошади люди не могли поселиться в восточной степи в сколько-нибудь значительном количестве. Но лошадей не пугает ни пустыня, ни снег и лед в горах Алтая и Монголии[53]. Приспособленность лошадей к суровому климату и мобильность, которую они обеспечивали своим хозяевам, сделали возможной эту великую географическую экспансию. Отголоски того великого переселения в поисках пастбищ слышны в самых ранних памятниках устной литературы коневодческих народов. Авеста, священное писание древних иранцев и современных зороастрийцев, датируемое приблизительно I тыс. до н. э., рассказывает об экспансии в степь, которая произошла еще за 1000 лет до того. В Авесте есть миф о Джамшиде, одном из первых царей мира, который после трехсотлетнего успешного правления увидел, что на земле больше нет места для его людей и их стад. Поэтому Джамшид приказал земле расшириться, и она сделалась на треть больше, после чего Джамшид правил своим разросшимся племенем еще 300 лет. Когда стада опять приумножились, Джамшид снова раздвинул землю на треть – и люди обрели необходимое им жизненное пространство. Через 900 лет с начала своего царствования Джамшид совершил акт теллурического расширения в последний раз. Древнее сказание Авесты отражает историческую реальность: коневодство распространилось по просторам Евразии. За период, ненамного превышающий легендарную эру Джамшида, коневоды заселили всю степь, включая земли, примыкающие к основным евразийским степным зонам и похожие на них климатически, такие как равнины Венгрии и Иранское нагорье. Интересно, что холодная и негостеприимная монгольская степь, которую мы привыкли считать родиной степных кочевников, была заселена последней, около 1300 г. до н. э. Этой богатой и уникальной экосистеме суждено было на следующие четыре тысячелетия стать землей коневодов[54].Море травы
Степь простирается на много миллионов квадратных километров, занимая одну седьмую часть суши. Подобно океану, определяющему судьбу своих побережий, она оказывает огромное влияние на прилегающие к ней земли. Это континентальная, а не морская Евразия. Это страна внутренних морей: Каспийского, Аральского и Лобнора; огромных пресноводных озер: Балхаша и Иссык-Куля – и бессточных рек, которые не впадают в океан. В основных степных широтах климат умеренный, а весна щедра на полевые цветы. Бóльшую часть лета в степи умеренного пояса обильно растут травы – такие высокие, что человек без лошади не может увидеть, куда идет. В травянистой степи распространен перистый ковыль, овсяница, горькая полынь и другие смешанные травы, состав которых меняется в зависимости от сезона[55]. Эти выносливые растения – отличный корм для лошади. Коневоды уверены, что разнотравье обеспечивает лошадям более здоровое питание, чем та еда, которой их кормят в конюшнях[56]. Лучшая степная почва – плодородный чернозем – богата селеном, кальцием и железом: эти минералы укрепляют кости лошади и помогают насыщать ее кровь кислородом при движении[57]. В травянистой степи выпадает слишком мало осадков, чтобы там могли расти леса, но не настолько мало, чтобы она превратилась в пустыню. Те дожди, которые там все же бывают, идут в основном летом. Зима холодная и сухая, настолько холодная, что именно в степи зарегистрированы одни из самых низких температур на планете. Средняя температура января в Улан-Баторе составляет –26,5 °C, а нередко столбик термометра опускается и до –40 °C. Ясное лазурное небо и отсутствие дождей – следствие высокого атмосферного давления. К травянистой степи прилегают зоны опустынивания, где выпадает менее 50 мм осадков в год. Здесь расположены самые большие и мрачные пустыни нашей планеты: Гоби в Монголии, Такла-Макан на западе Китая, Каракумы и Кызылкум в Центральной Азии, Регистан и Дашти-Марго в Афганистане, иранские Деште-Кевир и Деште-Лут. Но несмотря на малое количество осадков и чрезвычайно холодные зимы, в зоне полупустынь произрастают тамариск, полынь, вездесущий саксаул, ковыль и плотнокустовая трава высотой до 1,8 м. Эта растительность служит пищей для многих четвероногих: куланов, газелей и сайгаков. Весной, благодаря таянию снега, во многих пустынных районах, в том числе в провинции Систан в Иране и провинции Гильменд в Афганистане, разливаются сезонные озера. Здесь нет таких пустынь, где вообще не росла бы трава или совсем не было бы животноводства. Трава пусть и появляется на короткое время, позволяет выпасать скот, а горы, где стада могут спастись от палящего летнего зноя, всегда где-то недалеко. Иностранные путешественники из века в век удивлялись, как скотоводы выживают в таких условиях, но на самом деле наше представление о бескрайней, непригодной для жилья пустоши обманчиво. Евразийская степь представляет собой мозаику отдельных экосистем, которые дают приют множеству человеческих поселений, а также одной из самых богатых флор и фаун в Азии[58]. Степь похожа на море травы посреди Азии и подобна Средиземному морю, водному бассейну между Европой и Африкой. Как Средиземное море соединяется с Адриатическим, Черным и Красным морями, так и море травы в центре Азии перетекает в другие, меньшие моря. Не все эти прилегающие земли сохранились до наших дней в первозданном виде: ирригация и интенсивное сельское хозяйство преображали степь ради того, чтобы накормить жителей городов. Деятельность человека изменила некогда обильные травяные угодья Пенджаба, Джазиры (так на арабском называются верховья рек Тигр и Евфрат), западных склонов Таврских гор в Анатолии, где теперь выращивают хлопок, и Пусты в Венгрии, хотя коневодство распространено там и сегодня. Но значительная часть степей – в том числе засушливые степи Иранского нагорья и Аравийского полуострова – осталась такой же, какой была в древности, что помогает объяснить очень разную историю Ближнего Востока и Ирана по сравнению с историей Индии и Китая.Евразийская степь

Если степь – это огромное внутреннее море, то оазисы – Самарканд, Турфан, Герат и Мерв – это острова. Оазисы играли важную роль в развитии скотоводческой культуры, поскольку служили рынками, где люди могли обменивать мясо и молоко на хлеб. Некоторые из этих оазисов – просто крошечные сады у подножия гор, возвышающихся над ними на 2000 м; талый снег с этих гор обеспечивает оазисы водой. Другие распространяют свой «зеленый след» на многие километры во всех направлениях с помощью сети оросительных каналов[59]. Продвижение скотоводов в бескрайнее море травы подчинялось четкой географической логике. Лошади паслись в основном на землях, на которых не выпадало достаточного количества дождей и которые не подвергались ирригации с целью приспособить их для выращивания сельскохозяйственных культур. Пастухи избегали активно возделываемых земель – отчасти потому, что их настойчиво защищали местные крестьяне, а отчасти потому, что земля там все равно была слишком влажной для их животных. Греческий географ Страбон в I в. н. э. писал, что в Крыму крестьянин с каждого посаженного им зерна получал урожай в 30 зерен, а в Вавилоне урожай с каждого посаженного зерна достигал 300 зерен[60]. Так что, пусть в крымской степи и можно было выращивать зерновые культуры, вероятность засухи или недорода отваживала земледельцев от такой малоплодородной земли, а вот скотоводство она, напротив, поощряла. Степь, а значит, и земля всадников простирается вглубь Европы. Она расчерчена реками: Волгой, впадающей в Каспий, Доном, Днепром и Дунаем, которые несут свои воды в Черное море[61]. Имена всем этим рекам дали, скорее всего, древние коневоды. Днепр, на берегах которого стоит современный Киев, тянется по степи далеко на север, до самой границы лесной полосы. Дунай течет через Румынию по широким равнинам, прорезает узкую долину между двумя большими горными цепями, Карпатами и Балканами, и пересекает самую западную степь в Европе – Венгерские равнины[62]. В Венгрии, Румынии, Украине и России, благодаря их географическому положению, всегда обитали коневодческие народы. Они сыграли огромную роль в истории этих стран, а также соседних с ними Польши и Литвы. В степи, как и в других крупных природных зонах планеты, влажный климат периодически сменяется более сухим, и наоборот. Палеоклиматологи полагают, что такие изменения сильно влияли на лошадей, а это, в свою очередь, могло не раз приводить к массовой миграции из степи или вторжению степняков в земли оседлых народов. Несомненно одно: переменчивая степная погода, с ее внезапными засухами и заморозками, пагубно влияла на поголовье лошадей[63]. Степь бывает сурова и требует от скотоводов умения приспосабливаться: чтобы выжить, им часто приходилось мигрировать. Оседлым народам, привязанным к полям зерновых, садам и виноградникам, бескрайняя степь казалась пустой и пугающей. Для коневодов же их родная земля была полна знакомых ориентиров[64]. В казахском эпосе «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» герой, вынужденный покинуть родовые пастбища, с поклоном прощается с родными озерами, реками и холмами. Куда бы ни бросали взгляд коневоды, они везде видели знаки, и нередко ими оказывались кости их лошадей.
Посмертие
По всей территории Монголии разбросаны каменные пирамидки: камни размером с кирпич сложены в кучи и образуют ориентиры высотой до колена. Во время моего путешествия по степи я слышал, как монголы уважительно называли эти пирамидки «обо»[65]. На вершину «обо» пастухи помещали выбеленные временем черепа лошадей: сверкающие в лучах солнца, они видны издалека. Наши гиды объяснили, что каждый череп водружен в память о верном четвероногом спутнике: с вершины пирамиды пустые глазницы и ноздри черепа, словно живая лошадь, все еще могут наслаждаться бескрайним простором неба, ароматом душистых трав и дуновением ветра. Обычай этот очень древний[66]. Степь на тысячи километров во всех направлениях усеяна захоронениями людей и лошадей. Большинство из них – простые ямы в земле. Как и в современных «обо», от лошади там один только череп. Возможно, лошадей приносили в жертву для погребального пира усопшего, подобно тому как Ахилл приносил в жертву лошадей (и людей) на похоронах своего друга Патрокла. Действительно, греческий историк V в. до н. э. Геродот сообщает, что жертвоприношения лошадей занимали важное место в ритуалах греков и персов. Даже Аид, подземный мир, греки представляли себе в виде пастбища, κλυτοπολος, «славного жеребятами»[67]. В Древней Индии принесение лошади в жертву считалось самой престижной из всех церемоний, предписанных Ригведой, сборником религиозных гимнов, по времени создания примерно соответствующим иранской Авесте. Скорбящие по своим покойникам древние коневоды поедали плоть принесенных в жертву лошадей, так что для захоронения оставались одни только черепа. Это говорит и о том, как древние люди любили конину, и о том, как они почитали лошадь[68]. Как объясняет Филипп Свеннен, специалист по индоиранским народам, в этих древних гимнах лошадь рассматривается как животное поистине лиминальное, как средство сообщения двух миров: «Не только потому, что она используется для перевозки, но и потому, что благодаря своему бурному темпераменту она способна рывком преодолевать барьеры между днем и ночью, между укрощенным и диким»[69]. Для захоронений более позднего времени характерны высокие своды и многочисленные погребальные камеры. Внутри находили целых мумифицированных лошадей, которые, казалось, готовы были сопровождать умерших в их загробном путешествии. В холодных северных степях погребенные лошади прекрасно сохранились благодаря вечной мерзлоте. Так или иначе, лошадь всегда является вторым самым важным объектом в могиле после тела или тел людей. Кости других животных там тоже встречаются, но их помещали туда для того, чтобы продемонстрировать богатство умершего или обеспечить ему запас пищи в загробной жизни. Кости овец, коз и крупного рогатого скота не занимают в могиле символически значимых мест – зато кости лошадей находят рядом с человеческими останками или в отдельной камере поверх человеческого захоронения[70]. «Наши кости будут лежать вместе», – обещает герой одного монгольского эпоса своему коню[71]. Древние скотоводы старались хоронить своих умерших – и лошадей, и людей – в отдаленных местах, где их никто не потревожит. Геродот писал, что степные пастухи его времени устраивали родовые захоронения вдали от привычных маршрутов и держали эти места в большом секрете. Лошади утаптывали вырытую землю, а люди укладывали поверх могил дерн, и все выглядело так, будто усопших поглотила степь[72]. Именно таким образом тысячи лет спустя в Монголии похоронили Чингисхана: в тайном месте и в компании его любимого буланого коня. Говорят, что всех присутствовавших на похоронах убили, чтобы они не раскрыли тайну могилы великого хана. Многие из путешественников искали это место, но никто так и не нашел. Тайные могилы были, по-видимому, привилегией великих степных вождей. Обычные могилы, без ценных погребальных принадлежностей, отмечались грудой камней или «обо». Каменные пирамидки, укрывающие останки людей и лошадей, давали скотоводам ощущение дома в просторах степи. Самой своей удаленностью эти места напоминали им, что без лошади степь навсегда осталась бы безлюдной. И хотя жителей степей больше не хоронят вместе с лошадьми – обычай этот просуществовал до XIX в., «обо» сохранились до сих пор и напоминают о связи между людьми и лошадьми и между духом лошади и этими бескрайними просторами[73]. Захоронения, которые были спрятаны надежнее всего и не попались на глаза грабителям могил, могут немало рассказать нам об эволюции одомашненной лошади, ее ДНК, размерах и мастях. Благодаря им мы узнали, кем были древние коневоды, откуда они пришли, чем питались и как освоили верховую езду. Археологические исследования, во множестве проводившиеся после распада Советского Союза в 1991 г., подтверждают тесную связь лошади с древними народами степи. Образ жизни коневодов начал складываться, когда охотники ледникового периода оценили красоту и скорость животного, укрепился, когда они стали полагаться на кобылье молоко как на основной источник питания, и окончательно оформился, когда лошадь увела их далеко в степь, к исключительно кочевому существованию. Она играла огромную социальную, экологическую и эмоциональную роль в жизни первых скотоводов, и все же письменная история долгое время упускала из виду этот факт. Но все изменилось, когда великие цивилизации древности открыли для себя колесницу.2 Лошади для героев
Коневоды проникают в оседлый мир, 2000–500 гг. до н.э

«Мой господин не должен ездить на лошади – такой совет давал около 1760 г. до н. э. Зимри-Лиму, правителю государства Мари, что в Северо-Восточной Сирии, его визирь. – Пусть мой господин едет в повозке или на муле и пусть он чтит свой царский статус»[74]. В то время цари на лошадях не ездили. Каким бы странным ни казался нам совет ездить на муле, этот бесплодный гибрид лошади и осла по крайней мере позволял надежно усесться и принять величавый вид[75]. Древние жители Ближнего Востока, давным-давно одомашнившие ослов, даже не подозревали, что езду верхом на лошади ждет большое будущее. Вероятно, они смотрели на нее так же, как позже люди будут смотреть на езду на оленях или яках, – как на экзотический, избранный лишь отдельными народами способ перемещения. Люди II тыс. до н. э., обитатели Мари или Ура, стоявшего на берегах реки Евфрат на территории современного Ирака, или Бактрии, располагавшейся у реки Окс на территории современного Афганистана, время от времени видели всадников верхом на лошадях. Коневоды, выпасавшие свои стада в степи по соседству с этими двумя великими реками, приезжали на городские рынки, чтобы обменять животноводческую продукцию – сыр, шкуры животных, рог, конский волос и овечью шерсть – на местные продукты вроде хлеба или растительного масла. Но визиты коневодов не удостоились особых комментариев со стороны жрецов-летописцев, которым было поручено записывать необычные события. Езда на лошадях не считалась чем-то особенно примечательным, однако и благородным занятием, по мнению визиря, ее нельзя было назвать. Запряженная ослом повозка, в которой визирь рекомендовал передвигаться Зимри-Лиму, в ту эпоху нередко появляется на изображениях пышных процессий. Известный пример – царский штандарт из Ура, датируемый 2500 г. до н. э.[76] На этом памятнике материальной культуры, выполненном из дерева, лазурита и перламутра, изображены пять запряженных ослами четырехколесных повозок, ощетинившихся вооруженными воинами. Воины на штандарте убивают своих врагов. Но в реальном бою эти тихоходные повозки не представляли такой грозной силы, как появившиеся позже боевые колесницы, запряженные лошадьми. Ослы, выносливые уроженцы пустыни, не бывают очень крупными или очень резвыми. Им не свойственна реакция «бей или беги», которая делает лошадь столь подходящей для сражений. Мулы наследуют бóльшую часть недостатков осла. Других лошадиных Африки и Аравийского полуострова – зебру, кулана и их гибриды – люди тоже пытались использовать в качестве тягловой силы, но без особого успеха[77]. Будущее военного дела принадлежало лошадям и колесницам, ими запряженным.
Колесница
Мы почитаем Митру, он правит колесницей с высокими колесами… вывозит мощный Митра… свою легковезомую, златую колесницу, красивую, прекрасную. И колесницу эту везут четыре белых, взращенных духом, вечных и быстрых скакуна, и спереди копыта их золотом одеты, а сзади – серебром. И впряжены все четверо в одно ярмо с завязками при палочках, а дышло прикреплено крюком[78].Этот гимн из Авесты воспевает Митру, бога стад и пастбищ. Как и в мифе о Джамшиде, в этих строках запечатлен важный исторический момент: в данном случае речь идет о появлении колесницы. Точность, с которой описывается транспортное средство бога, подчеркивает, с какой силой новая технология – колесница – подействовала на человеческое воображение. Люди сочли новое средство передвижения самым подходящим для богов. Колесница и в самом деле была гораздо быстрее своей предшественницы – воловьей упряжки, распространенной на Ближнем Востоке, в Трансоксиане и западных степях. Одна такая тяжелая повозка с четырьмя цельными колесами была найдена у реки Окс, на границе со степью, и датируется 2200 г. до н. э.[79] Вероятно, она служила скотоводам для перевозки шатров, ковров, горшков для приготовления пищи, кислого молока и питьевой воды. Учитывая, что с телегой они были уже знакомы, степным народам не пришлось изобретать колесо. Зато во II тыс. до н. э. они начали его переделывать. Отказавшись от массивных колес, вырезанных из цельного куска дерева (поначалу это вообще были стволы, попиленные поперек), они изобрели полое колесо со спицами. К нему добавили бронзовый обод и бронзовый же крепеж на концах спиц, которых было по восемь или по десять на колесо[80]. Шины делались из кожи. Уменьшение числа колес с четырех до двух позволило сильно выиграть в скорости, однако сделало колесницу гораздо менее устойчивой по сравнению с повозкой: управлять ею было сложнее. Но когда мастера научились распределять вес пассажиров и лошадей вдоль центральной оси, маневренность колесниц возросла[81]. Колесом их усовершенствования не ограничились. Саму колесницу сделали легче и усилили ее бронзовыми деталями, поскольку металл обеспечивал лучшее соотношение веса и прочности по сравнению с деревом. Бронзовые блоки позволяли оси свободно вращаться. Чтобы дополнительно снизить вес, корпус плели из ивовой лозы. Однажды археологи нашли чрезвычайно легкую колесницу, сделанную в основном из березы. Мы не знаем, что побудило степные народы усовершенствовать традиционную телегу и превратить ее в быстроходную колесницу, которая весила раз в двадцать меньше своей предшественницы[82]. Возможно, поначалу они делали это ради забавы – гонок на повозках, которые до сих пор проводятся кое-где в сельской местности. А может, ремесленники создавали облегченные транспортные средства, потому что в степи не хватало твердой древесины. Самое большое преимущество легкой повозки заключается в том, что в нее можно запрягать лошадей, обеспечивая скорость, немыслимую для волов. Лошади никогда не смогли бы возить тяжелые повозки, поэтому с упряжью они познакомились только с изобретением повозки легкой. Как и верховая езда, попытка запрячь лошадь – это тоже акт насилия. Непривычный вес, нечто сдавливающее шею, громыхание колес позади – все это могло повергнуть животное в панику. Но люди сообразили: если запрягать лошадей вместе – по две или больше – близость товарища успокаивает лошадь, снижает травматизм и позволяет возничему управляться со всей упряжкой. Степные народы быстро приспособили этот транспорт к охоте; лучник на колеснице мог стоять прямо и пускать стрелы в добычу, пока возничий выравнивал траекторию движения[83]. Поскольку в ту эпоху степь изобиловала дичью, колесница, должно быть, оказалась весьма желанным пополнением арсенала кочевников. Вскоре, отточив свои навыки управления и стрельбы из лука на охоте, степные народы начали использовать колесницы в бою, для начала – в междоусобных войнах в степи, в первую очередь в районе Уральских и Алтайских гор, где была хорошо развита бронзовая металлургия. Можно было бы ожидать, что практика, для которой требуется больше всяческих приспособлений, будет следовать за той, для которой их требуется меньше, и что степные народы должны были бы начать воевать верхом на лошадях еще до изобретения колесницы. Однако вплоть до I тыс. до н. э. люди верхом не воевали[84]. Кажется, будто настаивать, что бои на колесницах на тысячу лет опередили конные сражения, – это все равно что ставить телегу впереди лошади. Чтобы примириться с этой контринтуитивной последовательностью событий, мы должны помнить о двух вещах: на самом деле, для того чтобы сражаться верхом на лошади, требуется больше приспособлений, чем для того, чтобы просто пасти скот, сидя на ней; кроме того, первые лошади были еще слишком мелкими, чтобы везти всадника в бой. Колесницы устранили обе эти проблемы. Во-первых, амуниция: появление колесниц привело к усовершенствованию не только повозок и колес, но и конской упряжи. Начиная с 1800 г. до н. э. мы находим в археологических раскопках все более сложную конскую амуницию: удила, нащечные ремни и пряжки, которые когда-то удерживали кожаные уздечки и поводья. Похоже, все это было изобретено специально для того, чтобы управлять лошадьми. И если раньше наездники использовали продетую в нос веревку или другие простые приспособления из органических материалов, которые не оставляют археологических следов, колесничим, чтобы направлять или замедлять лошадей, требовались более чувствительные средства[85]. Возможно, по мере того, как упряжь, придуманная для колесниц, распространялась все шире, коневоды постепенно приспосабливали ее к верховой езде. Теперь они могли освоить тот тип езды, который нужен для конного боя[86]. В истории встречаются примеры свирепых воинов, которые скакали верхом без всякой упряжи, – на ум приходят команчи и апачи. Но эти наездники практиковали совершенно иную форму ведения войны, не похожую на конные сражения древнего и Нового времени, невозможные без сложной упряжи, которая позволяла как ввязаться в ближний бой, так и выйти из него целым и невредимым. К тому же таких лошадей, на которых ездили американские индейцы, у древних степных народов еще не было. Отсюда вытекает во-вторых: лошадь II тыс. до н. э. была недостаточно крупной, чтобы нести на спине тяжеловооруженного всадника, но упряжка таких лошадей без труда тянула колесницу. Отрывок из Геродота, написанный пятнадцатью столетиями позже, иллюстрирует этот момент. Греческий историк удивляется, что сигинны – народ, занимавшийся коневодством на территории современной Болгарии, разводят крошечных, покрытых косматой шерстью лошадок: они «слишком слабосильные, чтобы возить на себе человека. Запряженные же в повозку, они бегут очень резво». Измерение колес древних колесниц и реконструкция конской упряжи убедили ученых в том, что рост колесничных лошадей не превышал 11–12 ладоней (1,1–1,2 м)[87]. Гораздо позже, в век, когда большинство их современников уже давно отказались от этого вида транспорта и перешли к конному бою, сигинны все еще ездили на колесницах и разводили маленьких лошадок. Они по какой-то причине не сумели вывести боевых коней с крепкими спинами, которые переняли эстафету у легких лошадей эпохи колесниц. Геродоту эта особенность сигиннов показалась достаточно архаичной, чтобы он обратил на нее внимание. Именно отсутствие навыков верховой езды и лошадей, для нее подходящих, стало причиной того, что впервые степные народы отметились в письменной истории как возничие колесниц, а не как конные воины.
Колесничие
За тысячу лет, что прошла со времен Зимри-Лима, отношение царей к лошадям изменилось. Сюань-ван, правивший китайским царством Чжоу на рубеже IX и VIII вв. до н. э., объявил одному из своих вассалов:Жалую тебе: отделанную бронзой колесницу с узорчатым покрывалом на поручне; нагрудные ремни для лошадей из мягкой кожи, червленые; полог из тигровой шкуры на красно-коричневом подбое; крепление на дышло и стяжки на ось из окрашенной кожи, бронзовые бубенцы для ярма; задний крепеж оси и тормоза, обтянутые кожей и позолоченные; золоченую стойку для лука и колчан рыбьей кожи; упряжь для четверки лошадей; золоченые уздечки и подпруги; алый штандарт с двумя бубенцами. Я жалую тебе эти дары для жертвоприношения или для военной службы[88].В другом месте мы читаем: «Царь дал ему [другому вассалу] четверку лошадей для поддержки царя, и дал ему лук с блестящими алыми стрелам, и дал топор для покорения варварских земель»[89]. Воины на колесницах вошли в историю. Во второй половине бронзового века, продлившегося примерно с 3000 по 1200 г. до н. э. и названного так за характерное для этого периода использование прочного медно-оловянного сплава, мир захватили колесницы, запряженные лошадьми. Во всей ранней литературе, от «Илиады» Гомера до Библии, индийской Махабхараты и китайской «Книги песен», есть рассказы о воинах, управляющих колесницами[90]. Колесницы были так широко распространены, что ученые годами безуспешно пытались определить место их происхождения. Где зародилась езда на колесницах – среди оседлых народов Ближнего Востока или в степи? Распространились ли они по миру молниеносно, путем завоеваний или же постепенно? Открытия последних десятилетий дали ответы на эти вопросы. Синташта, комплекс археологических памятников эпохи бронзового века, расположенный к востоку от Уральских гор в России, хранит многочисленные свидетельства складывающейся практики езды на колесницах. Российские археологи отыскали это место еще в 1978 г., но в полной мере оценили его значение только после 1992 г., когда точное радиоуглеродное датирование подтвердило, что в Синташте найдены древнейшие в мире колесницы II тыс. до н. э. В двадцати богатых могильниках были обнаружены принесенные в жертву лошади вместе с колесницами, в которые их когда-то запрягали, и эти находки позволили получить яркое представление о материальной культуре и мировоззрении первых возничих колесниц. Обитатели Синташты запрягали в колесницы жеребцов одного роста; эти кони были сложены лучше обычных лошадей того периода, останки которых обнаруживаются в других местах. Это говорит о том, что лошадей уже в те времена специально отбирали для выполнения особых задач. Колесничные лошади были, вероятно, сильнее и выносливее табунных. Поскольку они не ходили рысью – этот аллюр появился гораздо позже[91], – они должны были мчаться галопом, издавая на скаку чудовищный грохот. Лошадей украшали бронзовыми бляхами (они назывались фалерами), сбрую увешивали медными побрякушками и бубенцами. Должно быть, упряжка таких лошадей представляла собой впечатляющее зрелище – вся эта звенящая, громыхающая сбруя служила для лошади своего рода выездным парадным нарядом. Сами колесницы, чьи призрачные следы сохранились в виде отпечатков в земле, представляли собой узкие одноместные повозки и использовались для гонок. Здесь, в тщательно спланированных захоронениях, прекрасные лошади и гоночные колесницы погребены вместе, что говорит о той культурной роли, какую лошади и колесницы играли в жизни народа Синташты. Ключ к пониманию этой загадочной культуры дают нам гимны Ригведы, одного из основополагающих священных текстов индуизма. Ведические гимны, как и гимны Авесты, трудно датировать, но, скорее всего, они доносят до нас устные традиции II тыс. до н. э. Языки Авесты и «Ригведы» близки друг другу, кроме того, и там, и там часто упоминаются одни и те же божества: Джамшид (в Ведах это Яма) и Митра. Как и в Авесте, в Ригведе тоже есть гимны богам, управляющим колесницами. Правила жертвоприношения лошадей, изложенные в Ригведе, перекликаются с погребальными обрядами Синташты. Народ Синташты, по-видимому, отмечал похороны великих вождей гонками на колесницах. Победившую упряжку лошадей приносили в жертву, разделывали, готовили и распределяли лошадиное мясо между сотнями, а возможно, и тысячами гостей, явившихся на поминки. Вот как Ригведа описывает нетерпение присутствующих: «[Те,] кто осматривает коня, когда он готов, Кто говорит: Он пахнет хорошо. Снимай [его]. И кто ожидает угощения мясом коня, – Их воспевание пусть также нам благоприятствует!»[92] В Синташте головы и передние ноги принесенных в жертву животных – все, что оставалось после поминок, – клали в могилу вождя вместе с колесницей и упряжью. Согласно предписаниям Ригведы, вместе с лошадьми положено было приносить в жертву козла, и действительно в одной из могил Синташты рядом с лошадью погребен козел. Человеческие жертвоприношения упоминаются в этом священном тексте редко, но в одном из гимнов говорится о божестве, которому после обезглавливания приживляют голову коня[93]. В Синташте к человеческому скелету без головы приставлен череп лошади. Эти параллели позволяют нам считать погребения в Синташте самым ранним материальным следом народов, передвигавшихся на колесницах и впоследствии принесших ведических богов и язык Ригведы в Индию, где они позднее превратились в брахманизм и санскрит соответственно. А произошло это потому, что люди, управлявшие колесницами, в степи не остались. Через 200 лет после жертвоприношений лошадей в Синташте они двинулись дальше и познакомили с новымобразом жизни окружающие оседлые народы. Одна из ветвей этих степных колесничих постепенно мигрировала из Центральной Азии в Восточную Европу. На этом пути миграции археологи, помимо колесниц и лошадей, находят характерные скипетры с лошадиными головами, которые впервые появляются на Урале около 1800 г. до н. э., а к 1200 г. до н. э. – и в Греции. Царь Микен Агамемнон, герой Гомера, мог держать в руках такой скипетр на военных советах под стенами Трои[94]. Скипетры с лошадиными головами свидетельствуют не только о том, что их владельцы разводили лошадей, но и о том, что лошадь сама по себе была для них символом верховной власти. Поскольку коневоды, придя в Европу, столкнулись с дописьменными обществами, кроме археологических свидетельств, у нас есть только легенды о них, записанные много веков спустя, в частности «Илиада» Гомера. На Ближнем Востоке, напротив, появление людей на колесницах хорошо задокументировано городскими владевшими письменностью обществами, которые вступали с ними в контакт, – разительный контраст с тем молчанием, каким они обошли первых верховых лошадей. Возницы колесниц явились не как завоеватели; горстка степняков на колесницах вряд ли могла угрожать высоким крепостям древних государств Ближнего Востока. Но правители оседлых государств быстро осознали потенциальную ценность колесниц для гонок, демонстрации власти (вспомните всю эту сбрую с бубенцами) и, естественно, для ведения войны. Чтобы быстрее освоить новую технологию, правители земледельческих государств приглашали к себе конюхов, возничих и военных наемников из числа степных народов, потому что только люди степи знали толк в лошадях и колесницах. Следующие 3000 лет сначала на Ближнем Востоке, а затем в Индии и Китае оседлые народы нанимали степняков, чтобы те обучали их конному делу. С этого времени степные лошади и те, кто их разводил, стали неотъемлемой частью жизни на окружающих степь оседлых землях. Например, хетты, жившие в XIV в. до н. э. в городах на большей части территории современной Турции, пригласили к себе человека по имени Киккули, чтобы тот научил их ездить на колесницах. Инструкции Киккули касательно кормления, чистки и обучения колесничных лошадей сохранились на клинописных табличках, найденных в 1906 г. в Турции немецкими археологами. Киккули, вероятно, говорил на языке, родственном языкам Авесты и Ригведы. Он называет лошадей «асса»[95] (сравните с «ашва» на санскрите), а себя самого «ассусани», что наводит на мысль о термине на санскрите «ашва сана»[96], означающем «знаток лошадей». Позже ассирийцы станут величать этим титулом командиров своих кавалерийских отрядов. Киккули давал конкретные советы по питанию лошадей, а также по процедурам разминки и охлаждения после состязаний или битв[97]. Хотя руководство Киккули – уникальный артефакт, подчеркивающий роль степных экспертов в распространении технологии колесниц, иностранные имена, часто встречающиеся в археологических записях Ближнего Востока, показывают, что привлечение специалистов из степи действительно было широко распространенным явлением[98].
Распространение лошадей и коневодов

Поскольку в этот период степные коневоды вступали в тесные контакты с оседлыми народами, важно понять, чем они друг от друга отличались и в чем могли выражаться их различия. Хотя у каждого из оседлых народов имелась своя самобытная культура, было у них и нечто общее: как доказывает переписка Зимри-Лима с его визирем, лошадей они поначалу не ценили. За пределами степи лошадь считалась животным экзотическим, она была той отличительной чертой, что выделяла коневодов среди всех прочих народов. Оседлые земледельческие народы давали коневодам самые разные неодобрительные прозвища[99]. Греки называли их кочевниками, номадами – от греческого слова νομος (пастбище). Китайцы именовали их 鬍, Hu, что означает «чужеземцы», или 行國, xing guo – «перехожий народ», в отличие от 土 著, tu zhe – тех, кто «остается на месте». В персидском языке они были известны как khane be-dush – «те, кто носят свой дом на спине». Сегодня этих людей принято называть кочевниками, а антропологи используют термин «скотоводы-кочевники». Грекам это показалось бы тавтологией, поскольку оба слова означали для них одно и то же. Слово «кочевник» может ввести нас в заблуждение и заставить думать, будто степные скотоводы – это какие-то неприкаянные скитальцы, какими оседлые народы их зачастую и считали. Я предпочитаю называть их «коневодами», поскольку именно это занятие отличает их от всех прочих народов, в том числе от других кочевников, которые лошадей не разводили. Лошади, осваивающие новые пастбища, лошади, запряженные в колесницы, впервые в истории соединили западные степи Евразии с восточными и привели народы Древнего Китая в соприкосновение с Бактрийско-Маргианской цивилизацией и с древними государствами Плодородного полумесяца[100]. Богатые гробницы с захороненными в них колесницами тянутся через степь от Синташты в Приуралье до самого центра древнекитайской цивилизации. «Синташтинские черты» в Китае нашлись, когда в Аньяне, в провинции Хэнань, обнаружили захоронение эпохи династии Шан (около 1200 г. до н. э.). Масштабные археологические раскопки, начатые в 1980-е гг., пролили свет на культуру лошадей периода династии Шан, которую китайцы считают своей первой исторической династией. Колесницы найдены во всех гробницах шанской аристократии, а это доказывает, что для правящей элиты Шан колесница быстро обрела важное символическое значение. Примечательно, что по конструкции шанские колесницы почти идентичны найденным в Западной Азии, видимо, они и в самом деле проникли в Китай не постепенно, а появились там сразу в готовом виде[101]. Только начиная с этого периода археологи находят обширные свидетельства существования в Китае одомашненных лошадей. В китайском иероглифе, обозначающем повозку или автомобиль, chē, 車, до сих пор легко узнать двухколесную колесницу степных воинов. Иероглиф chē удивительно похож на самые старые петроглифы с изображением колесниц, которые можно обнаружить в степи. Некоторые западные ученые заходят так далеко, что предполагают, будто династия Шан и сама пришла из степи. Доказательств этому мало, но позже в китайской истории не было недостатка в династиях степного происхождения[102].
 Петроглифы с изображением степных колесниц, напоминающие китайский иероглиф, который обозначает транспортное средство. Монголия, XV–XIV вв. до н. э.
Петроглифы с изображением степных колесниц, напоминающие китайский иероглиф, который обозначает транспортное средство. Монголия, XV–XIV вв. до н. э.
Одна из шанских гробниц в Аньяне рассказывает историю прибытия колесничих через историю личную. В гробнице царицы Леди Хао, раскопанной в 1984 г., хранились не только предметы китайского происхождения, такие как ритуальные бронзовые сосуды, нефрит и слоновая кость, но и конские уздечки и оружие, характерное для степных народов. Может быть, супруга царя прибыла ко двору в рамках союза между царями Шан и разъезжающими на колесницах степными элитами. Археологический участок Аньян находится на своего рода экологической границе между степью и долиной Желтой реки, но различие между степными варварами и цивилизованными китайцами, важное для поздних китайских историков, возможно, в тот период еще не проводилось. Вероятно, с помощью таких брачных связей китайцы переняли колесницу и ассимилировали рожденных в степи колесничих в свою культуру и общество. Что в Китае, что в других странах эта ассимиляция происходила быстро, потому что колесничие были представителями влиятельных военных элит. Именно им суждено было стать самыми заметными фигурами периода, который во многих традициях запомнился как век героев. Колесничие придерживались аристократических кодексов поведения. Они ездили на колесницах на охоту и на войну и постоянно тренировались под пристальным взглядом наставников вроде Киккули. Они сражались друг с другом на дуэлях. Считалось, что простому пехотинцу не по чину вступать в бой с воином на колеснице, даже если пеший солдат выходил из схватки победителем. Этого кредо придерживались Ахилл и Гектор, сражавшиеся у стен Трои. Гектор, напомню, был «укротителем коней» и принцем Трои, «богатой лошадьми». Следуя традициям колесничих Синташты, элиты повсеместно считали лошадь важнейшим элементом погребального ритуала. Этот культ, исповедуемый героями-воинами Троянской войны и Махабхараты, разделяли и аристократы династии Шан, в чьих захоронениях обнаружено множество останков лошадей и колесниц (причем в самых важных могилах находили до пятидесяти лошадей сразу), а также бронзовые и золотые украшения для упряжек и колесниц. Воистину, бронзовый век – это век лошадей, героев, колесниц и впечатляющих погребальных обрядов, благодаря которым мы так много узнали о тех давних временах. Со временем оседлые государства расширили применение колесниц, превратив их из военной силы аристократов в нечто вроде современных танков[103]. В битве при Мегиддо в 1457 г. до н. э. египтяне и ханаанеи выставили по тысяче колесниц с каждой стороны, и это стало самым крупным сражением такого рода в истории. После битвы, как сообщается на обелиске победы в Карнаке, египтянам досталось девятьсот колесниц и две тысячи кобылиц. Мы не знаем, запрягали ли кобыл в колесницы – и если так, то каким чудом они выжили в бою. В Китае на смену династии Шан пришла воинственная династия Чжоу, которая в крупных сражениях в значительной степени полагалась на колесницы. В период расцвета в распоряжении Чжоу имелось от четырех до пяти тысяч колесниц, вероятно, больше, чем у кого бы то ни было в мировой истории. А вот в Западной Азии к тому времени – к началу I тыс. до н. э. – колесницы уже постепенно исчезали с полей сражений. Отказ от использования колесницы в бою не должен нас удивлять. В летописях рассказывается, как полководцы, готовясь к битве, прочесывали местность, убирая камни, которые могли замедлить или опрокинуть колесницы[104]. Командирам приходилось тщательно выбирать место для сражения – на нем не должно было быть высокой травы, промоин и оврагов. Даже на охоте – или даже в первую очередь на охоте с ее непредсказуемыми погонями – нестабильность колесниц представляла явную опасность. В самых ранних китайских исторических записях рассказывается о том, как царь Шан У Дин, живший в XIII в. до н. э., в компании некоего князя Яна отправился охотиться на носорога (ареал обитания этого животного в ту эпоху был шире, чем в наши дни). Во время погони колесница перевернулась. Царь отделался легкими царапинами, а вот принца Яна пришлось уносить с поля[105]. У колесниц были недостатки, и поэтому требовалось найти им альтернативу. К V или IV в. до н. э. на Ближнем Востоке на смену колесницам в качестве основного мобильного боевого подразделения пришла конница, хотя за колесницами еще долгое время тянулся шлейф былой славы. Об этом свидетельствует модель колесницы, изготовленная в тот период[106]. Всего в 20 см длиной, она очень похожа на золотую колесницу с высокими колесами, описанную в авестийском гимне Митре. Ее выковали из чистого золота, и запряжена она четырьмя миниатюрными, но мощными лошадками с поводьями из золотой проволоки; у нее даже колеса крутятся. Возможно, этой дорогой игрушкой забавлялся какой-нибудь персидский принц, готовясь к тому дню, когда он будет давать смотр своей армии, стоя на настоящей колеснице. Но его армия будет уже состоять из всадников, вооруженных луками, копьями, короткими мечами и булавами. Переход от колесниц к коннице произошел на фоне серьезной эволюции верховой езды, вооружения и самой лошади.
Боевой конь
Древняя степная легенда, сохранившаяся у осетин – современного кавказского народа, рассказывает, как герой обзаводится боевым скакуном. В табуне вождя был молодой жеребенок, который только-только перерос свою мать, однако укротить его никто не мог. Жеребенок вставал на дыбы, яростно брыкался и кусался, кто бы к нему ни подходил. Один храбрый паренек застал жеребенка врасплох, схватил за хвост, прыгнул ему на спину, пришпорил пятками и после короткой, но энергичной борьбы гордо поскакал похвалиться своей отвагой перед вождем. Увидев скачущего галопом коня и его всадника, старик с горечью понял, что этому юноше суждено стать следующим предводителем клана вместо него[107]. В основе мифов о лошади для героя, таких как миф об Александре Македонском и его Буцефале, лежит обыденный героизм степных коневодов. Чтобы укротить сильного, свирепого коня, нужна молодецкая удаль: чем злее лошадь, тем больше славы достается всаднику. Около 1200 г. до н. э. лошади и в самом деле стали быстрее, свирепее и сильнее – готовый материал для легенд, а их наездники, подобно юноше из осетинской легенды, сделались отважнее. Разводить и объезжать могучих коней – это совсем не то же самое, что карабкаться на мелких лошадок, чтобы пасти стада. Возможно, это новое занятие, как и гонки на колесницах, родилось из любви к охоте. Охота для жителей степи была важным средством пропитания, установления связей и обретения славы. Простые коневоды не могли позволить себе смастерить и содержать колесницу, поэтому состязаниями на колесницах увлекались только самые богатые и могущественные из вождей. Но поскольку лошадей в степи держали все, то и охота верхом была доступнее, хоть и требовала от всадника умения полностью контролировать животное. Первые наездники сидели у лошади на шее и управляли ею, дергая за гриву. Из такой позиции только самым умелым из них под силу было заставить лошадь прыгать или быстро менять направление. Вдобавок, если охотник вооружен только коротким копьем, у него есть не более двух попыток добыть зверя. Если копье не достигло своей цели с первого раза, то выскочивший невесть откуда лев или леопард мог моментально расправиться и с лошадью, и с седоком. Стрелять из длинных луков, какими пользовались в ту эпоху колесничие, сидя на лошади было затруднительно, поскольку стрелку мешала лошадиная шея. Вот с такими трудностями сталкивался простой коневод, с тоской наблюдавший, как его вождь возвращается с охоты на колеснице, нагруженной дичью. На преодоление этих проблем у коневодов ушло время с 1800 по 1200 г. до н. э. Эволюция лошадей, упряжи и оружия сделала верховую охоту проще, а в I тыс. до н. э. произвела еще и революцию в военном деле – историческое событие, которое значило даже больше, чем изобретение колесницы. В ту эпоху сильно изменились и сами лошади, и их взаимодействие с человеком, и виды верховой езды. Сама по себе практика езды на колесницах уже приводила к тому, что животные становились сильнее. В отличие от нетребовательной работы пастуха, для которой любая лошадь сгодится, колесничных лошадей тщательно отбирали, и с течением времени, чтобы обеспечить их владельцам успех на охоте, в гонках или в бою, колесничным жеребцам стали давать больше возможностей для размножения. Кости ног колесничных лошадей Синташты уже были длиннее и крепче, чем у лошадей, которые жили до них[108]. Лошади стали выше, прибавив в росте с 1,2 м в холке до 1,5 м и почти сравнявшись с современными лошадьми. В этом смысле езда на колесницах послужила предпосылкой к широкому распространению верховой езды. Физические изменения происходили медленно, поскольку разведение лошадей в ту эпоху было, скорее, пассивным. Степные народы, в отличие от современных западных коннозаводчиков, не ставили жеребца и кобылу в стойло и не понуждали жеребца покрыть кобылу. Как это до сих пор делают традиционные животноводы Монголии и Кыргызстана, они позволяли кобылам и жеребцам спариваться на свободе в степи. В этом отношении люди почти не вмешивались в репродуктивный процесс другого вида. Однако в другом отношении они оказывали огромное влияние на эволюцию лошади. Кастрации подвергались и подвергаются до сих пор восемь из десяти жеребят. Не ограничивая количество жеребцов в стаде, коневоды не смогли бы сохранить свои табуны. Молодые жеребцы пытались бы создавать собственные и дрались бы между собой, что повысило бы травматизм и среди лошадей, и среди людей. Для народов, которые не разводят лошадей в конюшнях или загонах, кастрация – неизбежная практика[109]. То, как это делается в современной Монголии, позволяет представить, как древние селекционеры влияли на эволюцию лошади. Нынешние заводчики смотрят на двух– или трехлетних жеребят и решают, выйдет ли из них толк. Мышечная сила, скорость, способность долго обходиться без воды и добрый нрав – вот признаки лошади, которую стоит допустить к разведению. Если коневодам кажется, что из жеребенка вырастет посредственная лошадь, они его кастрируют. Таким образом они проводят грубую селекцию по мужской линии. В результате применения этой древней практики в период между 1800 и 1200 гг. до н. э. лошади стали крупнее, сильнее и резвее. И все же древние лошади оставались генетически очень разными[110]. Геродот приписывает степным народам обычай дарить и получать лошадей в дар. И действительно, в некоторых из найденных нами захоронений на останках лошадей можно насчитать до восемнадцати различных клейм. У каждого степного племени было свое клеймо, почти как у шотландских кланов с их тартанами. Анализ ДНК лошадей из захоронений того периода еще раз доказывает, что древние коневоды предпочитали аутбридинг. ДНК подтверждает очень низкую степень кровного родства их лошадей, показывая, что интенсивный отбор на основе нескольких лучших жеребцов был еще незнаком древним коневодам[111]. Генетическое разнообразие было важно для снижения травматизма и восприимчивости к заболеваниям и делало степную лошадь гораздо выносливей современных чистокровных животных, которые, как и многие наши домашние любимцы, страдают от близкородственного скрещивания. К тому же аутбридинг не противоречит репродуктивным привычкам лошадей. Предоставленные сами себе, они не станут спариваться с близкородственными особями[112]. Через несколько веков, в течение которых люди разводили лошадей для охоты и войны, в степи появилось новое животное – боевой конь. Эта крупная мускулистая лошадь с длинными ногами и мощными легкими могла нести на спине взрослого человека в доспехах и покрывать галопом большие расстояния. Но лошади прибавили не только в мышечной силе и выносливости. Выведенные из колесничных, они развили в себе и более воинственные инстинкты, частично утратив боязливость, что была присуща их предкам[113]. Охотничьими и боевыми характеристиками изменения не ограничились: лошади стали испытывать глубокую симпатию к своим седокам. Всадники тоже научились понимать эмоциональное состояние лошадей и общаться с ними посредством все более сложной упряжи, частично позаимствованной у колесничих. Межвидовая коммуникация седока и оседланного – вот что делает отношения человека и лошади неповторимыми и уникальными[114]. Люди ездят на волах и ослах, но не ради скорости или расстояния и не на скачках, охоте или войне. Лошадь устанавливает психологическую связь с всадником; ни одно другое четвероногое не станет прыгать через препятствия, не пойдет сквозь огонь и дым взрывов и не станет нести своего седока, получив ранение[115]. Эмоциональная связь с человеком помогает лошади преодолевать страх перед поклажей, громкими звуками и водными препятствиями[116]. Люди поставили присущий лошади инстинкт «бей или беги» на службу своим целям: он пригодился и в массовых кавалерийских атаках, и в одиночном бою с другой лошадью и ее всадником. Не столько одомашнивание как таковое, сколько широкое использование лошади на охоте и в сражениях объясняет почти мистические отношения, которые возникают между конем и умелым ездоком. Верховая езда как искусство, то, что мы называем выездкой, постепенно сложилась как раз на основе этого круга действий[117]. Все теснее взаимодействуя с лошадьми, всадники стали давать им имена. Простому коневоду и в голову не пришло бы придумывать имена всем своим лошадям, пасущимся в степи, да в этом и не было необходимости. Он стал бы давать имя только своему любимому коню – тому, что выиграл состязание, что вывез его живым из боя. В начале II тыс. до н. э. обладавшие письменностью общества Ближнего Востока уже увековечивали в летописях имена колесничных лошадей. Признаться, некоторые из этих имен носили описательный характер, но такими были тогда и людские имена. Лошадь могли называть Серая в яблоках, а ее всадника – Крепыш или Плешивый. Такие имена встречаются на клинописных табличках, начертанных служащими царских конюшен Месопотамии. Еще одним свидетельством все более прочной эмоциональной связи человека с лошадью может служить отказ от жертвоприношения призовых лошадей и ритуального поедания конского мяса на праздниках. Современные казахи и монголы едят конину, но избегают употреблять в пищу мясо лошадей, на которых они ездили верхом[118]. Лошади героев стали, как писал английский исследователь Викторианской эпохи Томас Аткинсон, «почти что членами любящей семьи»[119]. Социальные связи между лошадьми и людьми углубились примерно в 1200 г. до н. э. Лошадей в тот период помещали в могилы целиком, то есть их больше не забивали для жертвоприношений, а, наоборот, хоронили как самостоятельное и почитаемое существо[120]. В Пазырыке, хорошо сохранившемся могильнике в Западной Сибири, датируемом IV–II вв. до н. э., обнаружены погребения, которые, похоже, должны были сохранять память не только о наездниках, но и об их лошадях. Животных хоронили вместе с людьми, что свидетельствует об отношениях длиною в жизнь, связывавших оседлавшего и оседланного. У лошади должен был быть только один всадник, и после его смерти лошадь продолжала служить ему уже в загробной жизни[121]. Если так, то эта загробная жизнь была, вероятно, удивительно яркой, потому что вечная мерзлота сибирской земли сохранила для нас остатки разноцветной одежды, которую носили лошади и всадники: шелка из Китая, вышивки из Ирана и самые старые из известных нам тканых ворсовых ковров. Текстильные изделия, которыми пользовались всадники Пазырыка при езде верхом, выглядят совсем как современные: например, чепраки и седельные подушки с великолепными геометрическими узорами очень похожи на сегодняшние турецкие, монгольские и тибетские покрывала для лошадей. Но больше всего поражает то, что каждая лошадь погребена вместе с тонкой работы попоной или накидкой – иногда даже с головным убором, напоминающим те, что надевали на лошадей на средневековых турнирах. В технике, которая и сегодня распространена в степи, попоны делались из войлока, но были красиво окрашены и имели самые разнообразные формы. На одной лошади надета маска с рогами, как у антилопы. На другой – маска в виде леопарда; передние лапы дикой кошки обхватывают глазницы, а задние – ноздри лошади. Ученые предполагают, что эта лошадь прославилась, сразившись с леопардом, который тогда еще водился в евразийских степях. Это говорит об особой храбрости животного, ведь большие кошки – извечный враг лошади, и обычно один только запах такого животного обращает лошадь в бегство[122]. По сравнению со смирными лошадками, которых разводили в степи тысячелетием раньше, новая порода была заметно агрессивнее. Богатый набор приспособлений для верховой езды, обнаруженных в пазырыкских захоронениях, позволяет утверждать, что люди, использовавшие Пазырык в качестве места погребения, собственно, и изобрели искусство верховой езды в том виде, в котором мы его знаем. Они первыми придумали для верховой езды штаны. Они усовершенствовали седла, снабдив их мягкими подушками, уберегающими бедра и копчик наездника[123]. Эти первые седла были легкими и предназначались для того, чтобы всадник мог просто накинуть такое седло на спину лошади и вскочить в него. Для дополнительной устойчивости к седлу были приторочены три подпруги, которые удерживали его на месте, и подхвостник, который шел от седла к хвосту; спереди седло фиксировалось нагрудным ремнем. Многие из изящных золотых украшений, найденных в могильниках, когда-то были нашиты на эти ремни, придавая лошади и всаднику роскошный вид. Более того, наездники Пазырыка усовершенствовали лошадиную сбрую, придумав трензельные удила[124]. Эти удила, пришедшие на смену простому грызлу, металлическому пруту, просунутому в рот лошади, состоят из двух соединенных деталей и обеспечивают всаднику контакт с языком, губами и щеками животного, позволяя посылать лошади более тонкие сигналы, не травмируя ей рот. До изобретения трензельных удил верховая езда была для лошадей утомительной и травмоопасной[125]. Все эти новшества обязаны своим появлением необходимости править все более крупными и сильными животными. В период, названный железным веком из-за того, что этот металл стал использоваться все шире, бронзовые детали сбруи уступили место железным. Бронзу проще обрабатывать, но железо встречается в природе в сотню раз чаще меди и в двадцать пять тысяч раз чаще олова, двух основных компонентов бронзы. Переход к железу сделал конскую упряжь доступной для простого коневода, а дорогая бронза осталась прерогативой вождей. На счету пазырыкских коневодов было еще одно новшество, которое решило проблему вооружения всадника. Они изобрели составной лук – и тем самым открыли эпоху конных сражений, которая продлилась следующие 2500 лет.Лучники
Древний составной лук еще называют «луком Купидона». Излюбленное оружие маленького бога любви изгибается вперед на концах, что увеличивает силу выстрела при натяжении тетивы. На самом деле, чтобы натянуть тетиву такого лука, требуются настолько прокачанные дельтовидные мышцы, что трудно себе представить, как Купидон мог им орудовать. Еще больше сил требуется, чтобы надеть тетиву на лук, то есть зацепить ее за два паза на изогнутых концах основы. В одном из степных мифов рассказывается о трех братьях, которые решали, кто будет править их народом, соревнуясь в надевании тетивы на отцовский лук. Старшему сорвавшаяся тетива сломала зуб, средний получил перелом берцовой кости. «Малейший перекос – и лук вырывается из рук и наносит мстительный удар неудачливому лучнику», – говорит Майк Лодс, британский реконструктор и опытный лучник[126]. В мифе только младшему удалось согнуть лук, надеть тетиву и медленно отпустить его туго натянутым и готовым к бою[127]. Стрельба из лука была делом нешуточным. А когда она стала возможна при езде верхом, лошадь превратилась в первое в истории оружие массового поражения. Полноразмерные луки были слишком громоздки для конной охоты или боя. Составной лук решил эту проблему, упаковав большее сопротивление в гораздо меньшую длину; чтобы увеличить упругость основы, при его производстве вдобавок к дереву использовали жилы и костяные пластины. Чтобы изготовить такой лук, который степные мастера, почти как Страдивари свои скрипки, собирали из шестнадцати деталей, требовалось до трех лет работы. Такой лук можно было удобно закинуть на плечо или привязать к шее лошади. Как уже не раз отмечено многими, это оружие стало неотъемлемым атрибутом степной войны; оно позволяло лучнику не вступать в рукопашный бой, а поражать врага на расстоянии при помощи стрел[128]. Конные лучники возили с собой по два-три колчана по сотне стрел в каждом и в начале боя делали три-четыре залпа разом. На стрелы приходится 90% всех повреждений, обнаруженных на человеческих останках в степных могильниках[129]. Этот новый способ ведения войны был так важен, что лег в основу самоидентификации народа, который его изобрел. Мы не знаем, как называл себя народ Синташты, но знаем, как называли себя люди Пазырыка. На своем наречии, которое относится к иранской группе языков, они звались «скудра»; это слово близко по значению английскому shooter – стрелок. Все оседлые народы I тыс. до н. э., оставившие по себе письменную историю, использовали тот или иной вариант этого названия: китайцы, персы, евреи и греки транскрибировали «скудра» как «сей», «сака», «ашкеназ»[130] и «скиф» соответственно. Мы вслед за греками и сегодня называем этот народ скифами. Греки еще довольно точно называли их «конными лучниками» (ιπποτοζατοι) и пожирателями молока (γαλακτοφαγοι); последнее наводит на мысль о культе перебродившего кобыльего молока, сохранившемся в Казахстане и Монголии и по сей день. Ходить пешком скифы не любили, предпочитая везде ездить верхом, и, что особенно не давало покоя греческим историкам, скифские женщины тоже охотились, а иногда даже участвовали в сражениях. Их конный образ жизни, пусть единого государства они и не создали, распространился от Дуная на западе до нынешней китайской провинции Ганьсу на востоке[131]. Именно от скифов научились ездить верхом и стрелять народы северо-восточной степи, нынешней Монголии, – хунну, тюрки и собственно монголы. Верховая стрельба из лука по сей день считается одним из самых сложных видов спорта в мире, ведь для того, чтобы сохранять устойчивость, когда скачешь галопом, преследуя убегающую дичь или врага, нужны очень сильные колени, а также умение удерживать торс и плечи абсолютно неподвижными, почти как орудийную платформу на взлетающем на волнах линкоре. Современные японские конные лучники ябусамэ такое умеют, и этот их навык восхищенным зрителям кажется чудом, однако у них есть преимущество – стремена, неизвестные первым лучникам. Чем быстрее скачут их лошади, тем меньше трясет седока. Умение поражать цель с раскачивающейся лошадиной спины требует многомесячных тренировок как для лучника, так и для коня. Лошади должны научиться не шарахаться при звуке отпускаемой тетивы и не сбиваться с шага, когда всадник бросает поводья и тянет руку за спину, чтобы достать стрелу из колчана[132]. О том, как степные лучники овладевали своим мастерством, рассказывают древнекитайские «Исторические записки» («Ши цзин»)[133], один из основных источников сведений о древней истории степей:Мальчики умеют ездить верхом на овцах, из лука стрелять птиц и мышей; постарше стреляют лисиц и зайцев, которых затем употребляют в пищу; все возмужавшие, которые в состоянии натянуть лук, становятся конными латниками[134].Верховая стрельба из лука как вид боя стала следующим после верховой езды и колесниц новшеством, изобретенным степными народами. В то время как бои на колесницах были привилегией немногих аристократов вроде героев Гомера, конный лучник появился в среде обычных коневодов. Развитая металлургия, требовавшая большого мастерства и ценных материалов, уступила место не такой требовательной технологии: примитивное седло, никаких стремян, в крайнем случае – чуть более сложные удила и уздечка. Верховая лошадь, выведенная скифами, стала важнейшим средством ведения массовой войны. В отличие от колесниц, которые нужно было производить по одной и которые потому не поддавались масштабированию, лошади размножаются экспоненциально: кобылы жеребятся каждый год и за 20 лет жизни могут принести до 16 жеребят. Теоретически табун из 100 кобыл за эти 20 лет может превратиться в табун из 824 925 кобыл[135]. С математической точки зрения сила лошадей неисчерпаема, хватило бы пастбищ. Эта уникальная способность лошади, которая позволяла правителям железного века собирать армии невиданных ранее размеров, имела далеко идущие последствия для будущего степных народов и для их соседей. Превращению степной конницы в массовое явление посодействовала, помимо всего прочего, и привычка скифов идти в бой не на жеребцах, а на меринах. У оседлых народов, которые запрягали в колесницы жеребцов и которые именно жеребцам приписывали особые боевые качества, это вызывало удивление. Греческому географу Страбону пристрастие степняков к меринам казалось таким странным, что он счел нужным найти ему объяснение. Он отметил, что степные лошади были маленькими, но чрезвычайно горячими – таким горячими, что заводчики стали холостить жеребцов, чтобы ими было проще управлять и они вели бы себя спокойнее на марше[136]. Некоторые другие конные народы ездили на кобылах, но степные коневоды предпочитали не использовать кобыл в бою, поскольку они были нужны им для производства молока и для разведения. Седлать жеребцов они и в самом деле не любили, потому что контролировать их было непросто что на пастбище, что в походе. Чтобы жеребцы не сбегали, на ночь их приходилось стреноживать, а это означало, что в случае внезапного нападения всадник не сможет быстро вскочить на коня. В эпоху колесниц таких проблем не возникало. Поэтому с железного века и по век девятнадцатый традиционным средством передвижения для степных народов были мерины. Это позволяло степнякам собирать большие армии и разводить выносливых лошадей, менее подверженных болезням и травмам; к тому же на приучение меринов к седлу требуется меньше времени. Степные лучники, предпочитавшие меринов, могли выставить на поле боя гораздо больше лошадей. Собрав воедино все эти новшества, скифы произвели революцию, которая положила конец тысячелетнему засилью колесниц. Около 700 г. до н. э., оставляя за собой след разрушений, протянувшийся от Кавказских гор до Египта, на Ближний Восток пришло скифское племя, которое в Библии называют Гогом и Магогом. У этих конных лучников было множество преимуществ перед колесницами, посланными для противостояния им: скорость, маневренность и, что немаловажно, возможность поражать противника, не вступая с ним в прямой контакт. Конные лучники побеждали, не неся потерь, что было важно для простых коневодов – не царских воинов, а обычных более-менее свободных людей. Оправившись от скифского вторжения и сравнив достоинства конницы и колесниц, оседлые народы сделали для себя выводы. Подобно тому как во II тыс. до н. э. оседлые государства Ближнего Востока взяли на вооружение изобретенные в степи колесницы, в I тыс. до н. э. они, хотя и не без колебаний, переняли у степняков вооруженную луками конницу. Езда на лошади требовала большего мастерства, чем управление колесницей. Конница, как и колесницы, пришла в армии оседлых государств вместе со степными наемниками, и только позже в эти воинские подразделения стали набирать местных всадников[137]. От Ближнего Востока до Китая колесницы докатились с отставанием в 500 лет. Конницу там тоже взяли на вооружение позже, зато этот переход прекрасно описан в известной, хотя и апокрифической истории о царе Чжао Улин-ване, который правил с 325 по 299 г. до н. э. Этот царь решил, что его армия должна перенять новую технологию, которую он называл «носить одеяние Ху и стрелять с лошади» (по-китайски это будет 胡服 骑射). Собирательным именем Ху китайцы называли всех степных коневодов. Улин-ван потребовал, чтобы его солдаты сменили длинные облачения и полусапожки, принятые при китайском дворе, на облегающие туники с рукавами до локтя, штаны с ремнем и высокие сапоги, в которых проще ездить верхом; до появления стремян всадникам приходилось запрыгивать в седло, а кроме того, им нужно было обращаться с луком, не путаясь в рукавах. Консервативные конфуцианцы, советники Улин-вана, отговаривали его перенимать чужеземные, варварские устои, утверждая, что ничего хорошего из этого не выйдет, но Улин-ван упорствовал: сам являлся ко двору в одежде степного воина и даже подарил один такой наряд своему самому упрямому оппоненту. Мнение царя возобладало, и государство сформировало и обучило собственное конное войско[138]. Если даже эта история – художественная выдумка, она точно указывает на тот момент, когда китайцы поняли, что в военном деле им стоит брать пример со степняков. Бесчисленные находки бронзовых поясных крючков этого периода дают понять, что и со штанами для верховой езды китайцы тоже смирились[139]. Одежда, конечно, красит человека, но влияние реформ Улин-вана было далеко не таким поверхностным. Конница полностью изменила характер военных действий. До того времени на поле боя царили в основном герои-аристократы со своими колесницами. Ни аристократии, ни колесниц, ни героизма в неограниченном количестве даже китайскому царю взять было негде. Зато лошадей и конных лучников можно было выращивать и обучать в самых широких масштабах. Битвы периода Сражающихся царств (475–221 гг. до н. э.) превзошли по размаху сражения предыдущих эпох, став прообразом войн с участием огромных полчищ Чингисхана. Армии древней династии Чжоу (770–256 гг. до н. э.) выставляли на битву по четыре тысячи колесниц; Улин-ван мог бросить в бой 10-тысячную конницу[140]. Его конные воины были, скорее всего, наемниками, возможно, скифами. Захоронения периода Сражающихся царств, обнаруженные в Юхуаньмяо, в 350 км к югу от Пекина, не содержат китайских артефактов, зато там в избытке лошадиной сбруи и предметов искусства в типичном для степей стиле. Это позволяет предположить, что местные правители формировали свои конные отряды из отдельной, однородной группы коневодов, которые даже в смерти сохраняли сознание своей особой, отличной от китайской, идентичности[141]. Нанять клан иноземных воинов – быстрая альтернатива необходимости обучать местных уроженцев приемам степной войны. Конница наступала от Китая до Западной Азии. Она изменила динамику отношений между степными коневодами и оседлыми государствами. Хотя колесницу изобрели коневоды, массово делать это средство передвижения стали именно оседлые государства, а степные народы со своими колесницами оседлым никогда не угрожали. Но с появлением конницы соотношение сил изменилось. Мультипликативный эффект конницы позволял даже относительно небольшим степным народам нападать на мощные оседлые государства и одерживать победы. Эта исходящая из степи угроза дала толчок к появлению великих оседлых империй, чей рост зависел от количества и качества лошадей, которых они смогли раздобыть.
3 Движущая сила империи
Иран и Индия, 500–400 гг. до н.э

Первые империи
В скифах и их опустошительных набегах израильские пророки увидели армию Гога и Магога, предвестников конца времен. Прошло несколько лет, конец света не наступил, но новый враг, пожалуй, мог бы заставить многих желать его пришествия. Вот как об этой угрозе предупреждал пророк Иеремия:[Они] держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосердны; голос их шумен, как море; несутся на конях, выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою…[142]Иеремия описывал полчища Сеннахериба, ассирийского царя, который «пришел, как на пастбище волк»[143], в 689 г. до н. э. разрушил Вавилон и покорил Иерусалим. В отличие от скифов, ассирийцы после набегов не убирались восвояси; они приходили, чтобы завоевывать и править. Преемники Сеннахериба, завладев территорией между Тигром и Нилом площадью 1 400 000 кв. км, подчинили Египет и построили первую в мире великую империю. Движущей силой Ассирийской империи, обязанной своими завоеваниями скорости и мобильности конницы, служила лошадь. Само существование империи зависело от выносливости почтовых лошадей, связывавших центр с удаленными провинциями. Однако сами ассирийцы никогда не владели обширными пастбищами и не были искусны в верховой езде. Конной силой, без которой не было бы великой Ассирии, империю снабжали коневоды, жившие у ее границ. По этому образцу отношения между коневодами и оседлыми народами будут строиться веками. Позднее такое соседство даст начало трем империям, которые будут значительно превосходить Ассирию по размерам: это Персидская империя в Западной Азии, империя Маурьев в Индии и империя Цинь в Китае. Тот факт, что эти империи возникли только после переселения коневодов в оседлые земли, не может быть случайностью. Бесконечные войны, в которых погрязли оседлые народы, сделали коневодов востребованными поставщиками боевых коней, наемников и союзников, и степные народы с удовольствием помогали амбициозным оседлым государствам в их борьбе за новые земли. Скифские набеги убедили оседлых людей, что им и самим стоит обзавестись конницей, и послужили толчком к созданию крупных многонациональных государств с их неутолимыми территориальными амбициями[144]. В VII в. до н. э. ассирийцы, владевшие Ниневией – столичным городом, располагавшимся на территории современного Ирака, приобретали лошадей у коневодов-мидийцев – народа, обосновавшегося в Северном Иране еще в IX в. до н. э. и находившегося в близком родстве с жителями степей – скифами. Всадников тоже вербовали в Мидии[145]. Для ассирийцев это был второй шанс, поскольку несколькими веками ранее они безуспешно пытались распространить свою власть за пределы долин Тигра и Евфрата: тогда им удалось захватить лишь государство Митанни, колесничих которого обучал Киккули. В те времена у ассирийцев не было конницы[146], теперь же мидийские лошади стали движущей силой их завоеваний[147]. Ассирийские правители вовсю эксплуатировали тот ужас, который их конница внушала современникам, в том числе Иеремии. Они с гордостью позировали верхом для первых в истории конных портретов. Барельеф из Ниневии изображает царя Ашшурбанапала верхом на богато убранной лошади. Но, скорее всего, ассирийцы не так хорошо ездили верхом, как мидийцы,поскольку ассирийских всадников часто изображали едущими бок о бок, причем один правил обеими лошадьми, а другой держал лук и стрелы, – разделение труда, привычное для возничего колесницы и лучника. На других барельефах можно увидеть конюхов, причесанных и одетых как мидийцы, подводящих ассирийскому царю великолепных коней[148]. Мидийцы познакомили ассирийцев со всеми тонкостями верховой езды. У них была сложная сбруя, в том числе сочлененные трензельные удила, меньше травмирующие нежные губы лошадей; изящные нащечники (псалии), соединявшие уздечку с удилами, обеспечивая лучшее управление, и мартингал – ремень, соединяющий узду и нагрудный ремень: он заставлял гордую лошадь склонять голову, не позволяя ей вставать на дыбы. Мартингалы украшали перьями, которые, словно помпоны, колыхались в такт движениям головы лошади. Седло закреплялось подпругой и нагрудным ремнем[149]. Сцены сражений, охоты на львов и военных парадов изображают мидийскую конницу ассирийских царей во всем ее великолепии. Но зависимость от мидийских всадников оказалась ахиллесовой пятой Ассирийской империи. В 612 г. до н. э. мидийцы восстали против своих господ, разрушили Ниневию и основали собственную империю[150]. А в 550 г. до н. э., ослабленные тем, что, в свою очередь, взбунтовалась наемная скифская конница, мидийцы покорились персидскому царю Киру[151]. Персы пришли из Фарса (который первоначально назывался Парсом, по-гречески Περσία), с юго-запада Ирана, из местности, где первые свидетельства разведения лошадей датируются II тыс. до н. э. Персы быстро захватили Иран, поглотив ряд коневодческих народов, обитавших между горами Загрос на западе и рекой Окс на востоке. Множество скифов выпасало свои стада как в этих границах, так и за их пределами. Древний мир считал персов, культурно родственных и мидийцам, и скифам, непревзойденными наездниками. «Ездить верхом, – пишет греческий историк V в. до н. э. Геродот, – первое, чему учится каждый персидский ребенок»[152]. «Бог, – гласит монументальная царская надпись, – дал мне Персию, страну хороших лошадей»[153]. Персидские цари пили воду только из реки Хуваспа (что означает «имеющий хороших лошадей»). Как и индейцы Великих равнин Америки, древние персы часто носили личные имена, связанные с коневодством, такие как Гуштасп (Скакун) или Сиявуш (Темный Жеребец). Уверенные в своем мастерстве наездников, персы преследовали амбициозную цель править огромной оседлой империей, не попадая в зависимость от степной конницы – зависимость, которая привела к гибели и Ассирию, и Мидию. Это стало для них идеологическим императивом. Считается, что персы придумали дуализм, создав религию, в которой добро противопоставляется злу. Они спроецировали этот дуализм на экологическую границу между оседлыми землями и степью. Городскую, земледельческую персидскую империю нужно было защищать от скотоводов из-за Окса. Эта двойственность видна уже в самых ранних легендах, согласно которым сами боги скачут на белых жеребцах и защищают земли Ирана от сил зла, передвигающихся на черных скакунах[154]. Такое представление об Иране как о «стране света», как его тогда традиционно называли, и о степных налетчиках как извечных врагах Ирана проникло в более поздний национальный эпос «Шахнаме», а символика добра и зла перетекла в придворный церемониал, где выражалась через лошадей. Царь царей ездил на белом коне. Жертвоприношениями белых лошадей сопровождались торжественные события. Но и в сферах, не столь нагруженных символически, к лошадям и ко всему с ними связанному персы относились с бюрократической въедливостью. Только что провозглашенный царем царей Кир принял серьезные меры для укрепления конной мощи государства. Оседлая империя, не желавшая полагаться на степных коневодов, поставляющих лошадей из своих неисчерпаемых табунов, должна была разводить собственных, а значит, заготавливать корма и оплачивать услуги профессиональных конюших: все это обходилось в копеечку[155]. Кир приказал создать на территории современных Курдистана, Азербайджана и Фарса три племенных хозяйства: работа в них велась под бдительным надзором целого штата стражников, конюхов и ветеринаров. Лошадей распределяли по табунам согласно масти – серые, рыжие и вороные паслись раздельно, чтобы их легче было выследить в случае кражи. Конюхи помечали лошадей царским клеймом – нишаном. Нам неизвестно, как выглядело клеймо царя царей в тот период, но на дошедших до нас царских каменных печатях видны выразительные геометрические узоры, напоминающие астрологические знаки планет и похожие на более поздние нишаны, какими пользовались в дальнейшем иранские династии. Представление о том, что лошади олицетворяют небесные силы, не исчезло и в более поздние времена. Элитная персидская конница славилась нисейскими лошадьми – породой, выведенной в Мидии. На барельефах из Персеполя, столицы Кира и его преемников, расположенной близ современного Шираза, они выглядят коренастыми, мощными, широконосыми. Гривы лошадей подстрижены короткой щеткой, что придает им дикий и свирепый вид. Челка, та часть гривы, что ниспадает на глаза, убрана в пучок, из-за чего лошадь кажется еще выше. Хвост тоже заплетен – чтобы не мешал в бою. Сбруя состоит из грудного и подпружного ремня, которые фиксируют мягкое, пазырыкского типа, седло. На барельефе мускулистые тела лошадей, кажется, подпирают стены позади, и даже спустя 2500 лет словно вот-вот сорвутся в галоп и взлетят по парадному въезду во двор царского дворца. По современным меркам эти лошади среднего размера, примерно пятнадцати ладоней (1,5 м) в холке, но крепко сбиты и весят около 450 кг[156]. Нисейские лошади паслись на пастбищах древней Мидии, недалеко от современного Керманшаха, где иранские курды до сих пор разводят лошадей. Мидийцы и персы должны были выращивать этих могучих коней для полководцев и элитных воинов, которые носили доспехи и защищали своих лошадей от стрел врага нагрудными пластинами, что добавляло к весу всадника порядка 18 кг[157]. Неудивительно, что копыта нисейских лошадей, по словам Геродота, «сотрясали землю». Нисейская и другие персидские породы позволили Киру и его преемнику Дарию создать империю такого размера, каких мир еще не видывал. Она простиралась от реки Инд в современном Пакистане до города Сарды в Западной Анатолии, в два раза превосходя по размерам Мидийскую империю и в четыре – Ассирийскую. Грецию персы покорить не смогли – для этого нужна была морская, а не конная сила. Гористый рельеф Греции мешал продвижению конных армий. А вот Сирия и Египет не смогли оказать сопротивления персидской коннице. Кроме того, без лошадей персы не сумели бы управлять своей огромной империей. Чтобы связать отдаленные провинции со столицами империи Персеполем и Сузами, персы создали почтовую службу, подобную ассирийской. Как гласит надпись на здании бывшего главного отделения Почтовой службы США, «ни снег, ни дождь, ни зной, ни мрак ночи не помешают посыльным быстро выполнить назначенное им». Эта цитата из Геродота описывает работу персидских конных почтовых курьеров. Верховые гонцы могли скакать со скоростью под 30 км/час, сменяя лошадей и друг друга на каждой из ста с лишним почтовых станций, поэтому способны были доставить приказ царя царей из Персеполя на юго-западе Ирана в Сарды за девять дней, тогда как пеший путь занял бы целых девяносто[158]. Эта система управления и контроля оказалась критически важна и для Персии, и для более поздних империй[159]. Полторы тысячи лет спустя монголы, чтобы управлять крупнейшей сухопутной империей всех времен, создали столь же разветвленную систему почтовой службы.
Расцвет империй: Персия и Индия

Конница и империя – как курица и яйцо. С одной стороны, без конницы персы не смогли бы построить и сохранить свою обширную империю. Они и следующие за ними империи зависели от скорости и мобильности лошадей, без которых не сумели бы распространять свою власть на большие расстояния. С другой стороны, без империи содержать такую большую конную армию вне степи было бы невозможно. Для управления тремя конными заводами по нескольку тысяч лошадей в каждом, да еще расположенными на большом удалении друг от друга, требовалась целая бюрократическая машина[160]. Выращивание люцерны – лучшего корма для лошадей – и доставка ее в племенные хозяйства в зимний период даже для империи было той еще задачкой. Содержание огромной конной армии, подобной персидской, малым государствам Западной Азии оказалось не по силам. Например, Афинская империя, чей флот значительно превосходил персидский, располагала всего шестью с половиной сотнями лошадей[161]. Персидская конница производила неизгладимое впечатление на жителей Западной Азии. Начиная со времен завоевания Киром Вавилона в 539 г. до н. э. на территории всей империи мы находим сотни терракотовых статуэток, изображающих всадников в традиционной персидской одежде, вооруженных коротким мечом, луком и стрелами. Скорее всего, это были культовые предметы, а местные жители, подданные империи, приносили их в жертву своим богам. Персидский всадник был символом такой мощи и престижа, что казался достойным подарком божеству[162]. Возможно, именно так на свет появилась игрушечная лошадка, цокающая копытами в воображаемой скачке по детской и пробуждающая в детских душах мечты о лошадях. Эти глиняные всадники – достойное наследие самой могучей империи Древнего мира.
Степь и стойло
Царь царей Кир любил скачки – и как развлечение, и как способ продемонстрировать свою неограниченную власть. Однажды – вероятно, в день весеннего равноденствия, на иранский Новый год, – он устроил смотр всей своей коннице, по размаху напоминающий современный майский парад в Москве. Во главе процессии выступал его личный табун из двухсот лошадей с золотыми уздечками и в парчовых попонах. За ним следовали три персидских подразделения по 10 000 всадников в каждом. В арьергарде шла конница подвластных народов: мидийцев, ассирийцев, армян, части из Гиляна и Горгана, что у Каспийского моря, и, наконец, наемная скифская конница[163]. Кир выбрал ориентир в нескольких километрах и приказал всадникам скакать до него и обратно. И хотя может создаться впечатление, что на дистанции было слишком многолюдно, но такой обычай не редкость для Азии, где до сих пор проводятся конные состязания с участием сотен человек и где плетью, бывает, охаживают не только лошадей, но и соперников. Однако царь не стал устраивать состязаний между национальными командами, иначе все закончилось бы рукопашной, – они должны были скакать по очереди, персы первыми. Описанием этих скачек мы обязаны Ксенофонту Афинскому, который командовал крошечной кавалерией современных Киру Афин[164]. Он написал первое в Европе руководство по конному делу, «Peri Hippikes», во всех прочих отношениях скучнейший текст, над которым страдали поколения школьников, изучавших древнегреческий язык. Ксенофонт сообщает, что Кир пришел к финишу первым среди персов: исключительно благодаря своему мастерству наездника, а не потому, что персы поддались своему царю. Конницы вассальных народов друг за другом выходили на старт. В скифском заезде победил не командир, а рядовой, который несся с такой скоростью, что пересек финишную черту прежде, чем остальные едва добрались до середины дистанции. Впечатленный Кир предложил юноше царство в обмен на победившую лошадь. Гордый скиф отказал персидскому царю царей. Кир великодушно посмеялся – или то был нервный смех? Благоговеющий перед героями Ксенофонт хотел бы заставить читателя поверить, что Киру нечего было бояться скифов. Но на самом деле, если бы история повернулась чуть иначе, скифы могли бы стать его погибелью. Даже включенная в состав персидской армии, наемная конница скифов представляла угрозу для любой империи, хоть и меньшую, чем в эпоху мидийцев и ассирийцев, впавших от них в опасную зависимость. Рассказ о скачках у Кира можно прочесть как притчу об этом соперничестве и задаться вопросом: у какого из гордых народов лошади были лучше – у оседлых персов или у обитателей степей скифов? Дело было не только в скачках или славе: хорошая лошадь была вопросом жизни и смерти, победы и поражения. Народы состязались в выращивании элитных лошадей, которые могли бы обеспечить им победу на поле боя. Элитная лошадь была не просто быстрым или сильным животным, она обладала развитым эмоциональным интеллектом. Она предугадывала желания своего всадника, будь то идти в атаку или спасаться бегством. Она умела вставать на дыбы и бить врага копытами – прием, который и сегодня можно увидеть на соревнованиях по выездке[165]. В неравной схватке даже раненая лошадь пыталась спасти жизнь своему седоку. Хороший конь и впрямь стоил царства. Оттого-то воины той эпохи так тщательно выбирали себе коней. В эпосе «Шахнаме» рассказывается о том, как главный герой ищет себе боевого коня, и, хотя в этой истории слышны отзвуки древнего осетинского мифа, главное в ней – выбрать правильного коня: «Чтобы легко он мог носить в бою мой стан и шею мощную мою»[166]. Перед юным героем лошадь за лошадью проходят табуны Забулистана, коневодческого региона в Юго-Западном Афганистане; насколько хватает глаз, равнины усеяны животными. Чтобы испытать лошадей, герой садится то на одну, то на другую, и каждая оседает под его весом. Вдруг герой замечает кобылицу, сильную, как львица. Уши у нее как вороненые клинки, то есть стоят торчком; в груди она широка, а в перехвате – тонка. О бок с кобылой рысит жеребенок – черноглазый, поджарый и резвый, он не убегает, потому что люди не отпускают его мать. У него крепкие бока; шерсть золотисто-рыжая, с шафраново-желтыми разводами. Силой он подобен слону, а ростом – верблюду. Ни одному человеку не удавалось его оседлать, пока герой не вскочил ему на спину. Огненно-рыжий жеребенок инстинктивно признал в нем хозяина и стал ему верным боевым товарищем. Когда герой дает ему волю, чтобы испытать отвагу, силу и чистоту крови, конь доказывает, что может нести всадника, булаву и доспех. Весь в пене, он мчится по степи быстрее лани. Конь податлив узде, ловок и резв. Короче говоря, это идеальное воплощение превосходного боевого коня[167]. Томас Аткинсон так описывает отношения между воином и его лошадью:[Всадник] любит своего коня… В походе животное на ночь привязывают у постели хозяина, и тогда оно исполняет обязанности верного сторожевого пса. Никто не может приблизиться незаметно для него, и по его всхрапу или фырканью хозяин понимает, кто рядом – друг или враг.И в самом деле, в эпосе «Шахнаме» легендарный конь Рахш спасает своего спящего хозяина Рустама от ночного нападения льва, змеи и, наконец, дракона, прежде чем Рустам понимает, насколько Рахш ему предан. Аткинсон заключает: «Лошадь зачастую проявляет больше интеллекта, чем ее хозяин»[168]. И персы, и скифы стремились разводить именно таких коней, и совершенствовали свои очень разные методы их выращивания – можно сказать, это была первая гонка вооружений. У персов имелись все преимущества, какие только можно купить за деньги. Царская казна оплачивала разведение и содержание около сотни тысяч животных[169], а племенные хозяйства, чтобы обеспечить нужды царя царей, поставляли по 10 000 лошадей в год. В основном это были жеребцы внушительного роста, отмеченного во всех древних источниках. Чтобы вырастить таких статных лошадей, персы заботились как о жеребых кобылах, так и о подрастающих жеребятах. Обычным кобылам позволялось или их даже поощряли жеребиться ежегодно, но лучшим племенным кобылам давали отдохнуть между беременностями подольше – и тогда от них рождалось более крупное и сильное потомство. Сами жеребята паслись на воле по два или три года, прежде чем их начинали приучать к седлу, – кости и мышцы таких коней были сильнее и прочнее. Этот дорогостоящий и длительный процесс позволял получать превосходных лошадей, подходящих для хорошо подготовленных всадников. Молодые жеребцы – горячие и потенциально опасные животные; и когда они поступали в войско, им требовалась интенсивная подготовка. Скорее всего, персы и придумали те упражнения, которые сегодня можно увидеть на соревнованиях, включая прыжки и джигитовку – акробатические трюки на лошади[170]. Жеребцы больше меринов подвержены несчастным случаям и болезням, поэтому им требовалось постоянное внимание всадников и конюхов. В походах персы не позволяли своим лошадям свободно пастись; их привязывали и кормили с рук люцерной. Это делалось для того, чтобы лошади не заболели, поев незнакомой травы, но такое правило влекло за собой потребность в дорогостоящей системе снабжения, на которую все равно нельзя было бесконечно полагаться во время длительной военной кампании[171]. Когда персы попытаются загнать мародерствующих скифов обратно в бескрайнюю степь, этот обычай им еще аукнется. Типичные скифские боевые кони, в отличие от холеных скакунов царя царей, были выносливыми и жилистыми животными; отбирали их по резвости, способности долгое время обходиться без воды и переносить холод. Общее число лошадей ограничивалось только количеством осадков и травы; превосходство скифов в численности конницы было абсолютным. Они не ограничивали количество потомства, кобылы жеребились каждый год, потому что лошади служили скифам не только средством передвижения, но и пищей. Они не ждали по два-три года, прежде чем надеть на жеребенка узду, поэтому их кони не развивали той силы и роста, какими славились лошади персов. Для степных народов рост и сила означали, что лошадь будет вечно голодной и может не пережить суровую зиму, когда травы мало. Кроме того, скифы не хотели держать слишком много жеребцов – они разваливали бы их табуны, – поэтому большую часть своих жеребчиков холостили. Это тоже уменьшало средний рост лошадей, зато на них было проще ездить, да и большой тренированности от обычного скифского всадника такие кони не требовали. У скифов тоже были элитные лошади, но в этом вопросе они полагались на численное преимущество. Лошади, как и люди, не рождаются физически одинаковыми. У одних крупнее сердце, что позволяет им развивать большую скорость. У других мощнее конечности или крепче копыта. Именно благодаря своим врожденным характеристикам скифская лошадь победила на скачках у Кира, оставив далеко позади всех остальных. Скифы отбирали перспективных коней из огромного резерва, подобно тому как это делают олимпийские тренеры в таких больших странах, как США, Россия и Китай. Поиски славных скакунов, подходящих для вождей и чемпионов, – распространенный сюжет степных легенд. В одной из таких историй всадник натыкается на белеющий в степи конский череп. Он спешивается, чтобы подобрать его, и, изучив форму черепа, подмечает все признаки превосходной лошади. Он привязывает череп к своему седлу и месяцами разъезжает по окрестностям, спрашивая всех встречных и поперечных, узнают ли они мертвую лошадь и оставила ли она потомство. Все считают его ненормальным, но один человек и в самом деле узнает череп и рассказывает всаднику, где тот может найти жеребенка, рожденного от погибшей лошади. Тот приобретает жеребенка, со знанием дела тренирует его и берет приз за призом на скачках[172]. Физическое совершенство таких лошадей может показаться чем-то невероятным, ведь научные методы селекции в то время еще не появились. Масштабы, в которых люди в древности разводили лошадей, не позволяли им в полной мере контролировать брачные ритуалы жеребцов и кобыл. И персидские, и скифские лошади резвились на открытых пространствах, и природа распоряжалась ими по своему усмотрению. В те времена всадники придавали особое значение масти лошади, связывая ее с небесной символикой[173]. Обычай выпасать вместе лошадей одной масти приводил к интересным генетическим феноменам. Древние наездники ценили леопардово-пятнистую масть; легендарный Рахш был таким. Ген, отвечающий за этот окрас, сцеплен с геном ночной слепоты: то есть два этих гена расположены рядом на одной хромосоме, и кодируемые ими признаки с большой вероятностью будут передаваться от родителей к потомству. Есть предположение, что первые селекционеры ценили такую слепоту, поскольку благодаря ей лошадей труднее украсть под покровом ночи[174]. Степные народы, не менее искушенные, чем персы, разработали свои методы воспитания и подготовки лошадей, из которых хотели сделать победителей. Племенным жеребцам обеспечивали более щадящие, по сравнению с простыми меринами, условия[175]. Элитных животных лучше кормили, особенно зимой, и не жалели средств, чтобы помочь молодой лошади вырасти и окрепнуть. Поскольку у степняков не было конюшен, зимой на лучших лошадей надевали толстые попоны, а в особенно холодные ночи даже заводили в семейные шатры. Коневоды давали таким лошадям уникальные имена, а заурядных коней звали просто по окрасу (Гнедой, Пегая). Устные эпосы содержат целый словарь эпитетов для этих лошадей: «не потеет», «не касается земли», «быстрая, как газель»[176]. Скифские методы разведения элитных лошадей отличались от методов персов, отражая их особый уклад жизни. Как убедился Кир во время скачек, и у персов, и у скифов имелись отличные кони. Победа зависела от выбора метода ведения боя.
Вражда скифов с персами
Пользуясь безнаказанностью, которую обеспечивали им их быстроногие скакуны, скифы часто совершали набеги на земли Персидской империи, а позднее и на Индийский субконтинент. Как уже отмечалось, важной обязанностью царя царей была защита находившихся под его покровительством оседлых народов от этих набегов. Редкое изображение битвы персов со скифами, найденное в гробнице в Юго-Восточной Анатолии, дает яркое представление о тех стычках. Персидские конные лучники справа и скифские конные лучники слева выстроились друг против друга, выпуская залпы стрел меж настороженных ушей своих коней. Персидские лошади крупнее и массивнее, а всадники держат строй. Скифы, верхом на более мелких животных, рассеяны по полю. Спешившийся командир персов, настоящий гигант, наносит смертельный удар своему противнику. Эта картина прославляет победу персов над налетчиками-скифами, то ли реальную, то ли желаемую[177]. И хотя сил у персидской конницы с избытком хватало, чтобы прогнать скифов обратно в степь, ее было недостаточно, чтобы эту степь покорить. Кир II Великий счел необходимым ответить на набеги скифов, дав им бой на их же территории в попытке подчинить их своей власти. Он повел свое войско за реку Окс, которая сегодня отделяет Туркменистан от Узбекистана. Скифы под предводительством царицы Томирис благоразумно отступили глубже в степь. Кир предложил скифам мир, а Томирис – место в царском гареме, от которого она, что неудивительно, отказалась. Персидская армия на опасное расстояние удалилась от своих земель[178]. Для огромного войска с измученными жаждой животными местность была неприветливой. Степь за рекой Окс простиралась на многие километры без каких-либо приметных ориентиров. Одни только саксаулы с их колючими, как иглы, листьями разбавляли однообразный ландшафт. Козы могли бы объедать сочную кору саксаулов, но для лошадей, тем более для 10-тысячной конницы, травы было совершенно недостаточно. Воду и корм для лошадей везли на ослах, но ведь тех и самих нужно было кормить. Армии последующих эпох пересекали эти степи, используя не ослов, а верблюдов, и это давало им больший простор для действий, но в те давние времена гордая кавалерия Кира зависела от скромного ослика и его ограниченной способности выживать без воды. Ослики, шагавшие в длинном обозе персов, помогли Киру одержать первые победы: скифские лошади пугались их рева и обращались в бегство. Но проведя в степи много дней, измотанные и истощившие свои припасы персы уступили скифским конным лучникам. По одной из версий, убит был и Кир, и Томирис приказала принести ей его голову. Сначала Томирис зашила голову Кира в кожаный бурдюк, наполненный человеческой кровью, «чтобы утолить его жажду». Затем она сделала из его черепа кубок: отпилив по линии глазниц, свод черепа обтянули кожей, а изнутри выстелили золотом. После этого всякий раз, когда царица устраивала при дворе пиры, череп Кира, наполненный вином, передавали по кругу и в очередной раз пересказывали историю его поражения. Что же касается персов, они усвоили урок и больше не пытались покорять степь. Даже если история о Кире и Томирис – выдумка, она послужила основанием для таких здравых политических мер, как укрепление восточной границы и подготовка к отражению нападений из степи[179]. «Шахнаме» содержит предания о витязях, которые, оседлав своих могучих коней, изгоняют захватчиков обратно в степь. По конной мощи противники друг другу не уступали, поэтому их противостояние длилось из царствования в царствование. Для иранцев, веками вынужденных противостоять степным захватчикам в лице скифов, гуннов, тюрков и монголов, истории «Шахнаме» о героях и их конях никогда не теряли актуальности. Через 2000 лет после Кира один иранский шах разгромил орду степных воинов и, пусть и неосознанно, свершил возмездие, превратив череп их хана в кубок для питья[180].Лошади против слонов
В другой истории, рассказанной в «Шахнаме», индийский посол, приехав в Иран, привез с собой головоломку: испытание для визиря Бозоргмехра, который славился своей мудростью. Это было полотно, расчерченное чередующимися черными и белыми квадратами, и два набора крошечных фигурок, вырезанных из слоновой кости и тикового дерева. Бозоргмехру дали всего один день, чтобы изучить головоломку и объяснить ее смысл в присутствии шаха и индийских послов. Проведя в раздумьях бессонную ночь, Бозоргмехр уверенно заявил, что перед ним – настольная игра, изображающая поле боя. Фигурки – это сражающиеся армии, в каждой из которых есть царь, визирь, слоны, колесницы, конные и пешие воины[181]. Это, конечно же, были шахматы, а ходы каждой из фигур отражали возможности их прототипов по части приемов ведения войны. Пешие солдаты, нынешние пешки, шагали вперед. Колесницы, нынешние ладьи, прикрывали фланги и перемещались по прямой. (По-английски ладьи называются rooks, слово произошло от санскритского ratha – колесница – и пришло в английский язык через персидский.) Кони, или рыцари, совершали обходные маневры. Слоны (которых некогда по-английски называли fools, от персидского слова fil – слон), стояли справа и слева от короля с визирем (которого теперь называют ферзем) и двигались по диагонали. Визирь мог сесть на колесницу или слона, а значит, быстро перемещался в любом направлении. Головоломка, подаренная индийским послом, должна была предупредить иранцев, что армия индийского правителя овладела всеми этими средствами ведения войны, поэтому им лучше относиться к Индии с должным уважением. Колесницы и боевые лошади пришли в Индию через степь, зато слон был сугубо индийским феноменом и, по мнению индийцев, достойным соперником иноземных боевых транспортных средств. Ни одно другое животное нигде и никогда не бросало такого дерзкого вызова лошади на поле боя и не служило таким мощным символом государственной власти, как индийский слон. Разница в том, как проявила себя конница в Иране – стране хороших лошадей – и в Индии – стране слонов, во многом объясняется географией. Индийский субконтинент отделен от Евразийской степи главным образом Гималайскими горами, средняя высота которых составляет 6000 м, и в меньшей степени Памиром и Гиндукушем, расположенными дальше к западу. Горный барьер задерживает над субконтинентом влажный воздух Индийского океана и обеспечивает как благоприятный для лошадей сухой климат внутренней азиатской степи, так и цикл муссонных дождей в Индии[182]. Лошадям не на пользу сырой и жаркий муссонный климат. Пусть обильные дожди, которые идут с июля по сентябрь, благоприятны для бурного роста самой разной травы, но лошади – привередливые едоки[183], а богатая флора Индии таит слишком много незнакомых им и неаппетитных сюрпризов. Частые дожди вымывают из травы питательные вещества, лишая лошадь жизненно необходимых ей минералов, в первую очередь селена[184]. Влага размягчает копыта лошадей и делает их слишком нежными для ходьбы по каменистым тропам. Когда наступает сухой сезон, солнце жарит изо всех сил, а испарение настолько интенсивное, что луга высыхают – и лошадям становится нечего есть. На большей части плодородной земли в Индии развито сельское хозяйство, поэтому даже там, где природные условия подходят для разведения лошадей, их потребность в обширных пастбищах вступает в конфликт с потребностями крестьян, которым нужна земля для возделывания. Поэтому во многих районах Индии лошади почти не встречаются[185]. Наименее подходящие для лошадей области почти полностью покрыты лесами. Муссоны, приносящие от 760 до 1500 мм осадков в год, обеспечивают рост нима, акации, сосны, ползучих и вьющихся растений, которые образуют пышный полог, покрывающий северо-восточную часть субконтинента. Сегодня в Индии лесами покрыто 750 000 кв. км земли, что по площади больше Техаса, а до сельскохозяйственной вырубки девственные леса были куда обширней. Множество событий в индийской истории и легендах происходит в лесу: здесь охотились цари, сюда удалялись в изгнание принцы, здесь уединялись для медитации отшельники и святые, такие как Будда. Индийская классическая и народная литература изобилует лесными животными: обезьянами, тиграми, львами, змеями и, конечно же, слонами. В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» долина древнего Ганга, где сходились в противоборстве два враждующих княжеских рода, описывается как край густых лесов[186]. Один род вырубает лес, чтобы расчистить место под свою столицу, Индрапрастху, которая потом превратится в Дели. Соперничающий род держит двор в лесном Хастинапуре, «слоновьем городе». Слон – настоящий лесной житель: ему нужно не меньше 150 кг корма в день, что составляет 5% от массы тела животного. Сравните с нетребовательной лошадью, которая довольствуется примерно 9 кг в день (1,5% от массы тела)[187]. Такое количество пищи слон может раздобыть только в лесу, где он пасется по 16 часов в сутки. В I тыс. до н. э., когда нетронутые леса Индии изобиловали слонами, их опасное присутствие пугало людей и побуждало местных правителей, раджей, загонять слонов и отлавливать. Когда этих животных удалось приручить, они оказались очень полезны для перевозки грузов и ведения войны. Процесс одомашнивания слона почти не отличался от приручения лошади, однако, в отличие от лошади, которая может прокормиться сама, были бы пастбища, прокормить слона так трудно, что позволить себе содержать этих могучих животных могли только самые могущественные раджи – махараджи. Вскоре само обладание слонами стало символизировать царскую власть – тайские монархи придерживаются этой традиции до сих пор. Махараджи, впечатленные воинственностью слонов-самцов, чеканили их изображения на монетах и старались превзойти друг друга размерами слоновьего войска. И хотя в колесницы индийцы запрягали лошадей, в бой они шли на слонах. Как и в шахматах, в реальной войне – в зависимости от местности – применение находилось и слонам, и лошадям. Для боевых действий в лесу, где лошадям нечего есть и где они не могут свободно передвигаться[188], предпочтительнее слон. Зато на открытой местности, где слон прокормиться не мог, лошадь была в своей стихии. В гораздо более поздней хронике XIII в. сообщается, как степняки захватили боевых слонов и выпустили их на пастбище. К их удивлению, все слоны умерли от голода[189]. Но в V в. до н. э. степные воины мало интересовались слонами, поскольку предпочитали не углубляться в жаркую, покрытую лесами, влажную Индию. На подходящей местности превосходство конницы над слонами в стратегическом и тактическом плане подтверждалось из раза в раз, хотя устрашающие боевые качества слонов и их величественный вид по-прежнему импонировали индийским правителям, считавшим, что они могут победить кавалерию одними только слонами. Многие индийские монархи, командовавшие крупными слоновьими армиями, попадали в ловушку, принимая бой с конным противником на открытых равнинах в долинах Инда и Ганга, после того как их расчистили от лесов. Все вторгавшиеся в Индию конные армии – от Александра Македонского до первого императора Великих Моголов Бабура – добились успеха, воспользовавшись самоуверенностью противника, разъезжавшего на слонах[190]. Самым большим недостатком слонов по сравнению с лошадьми была проблема увеличения численности. Лошадей можно разводить, а слонов обычно отлавливают в дикой природе, поскольку в неволе они размножаются плохо[191]. Кобыла дает потомство каждый год, а слониха – раз в два года. Конные армии персов и скифов насчитывали десятки тысяч лошадей, а армии индийских князей – всего только тысячи слонов. Индийские слоны были хороши для обороны царских столиц, но не очень помогали в завоевании отдаленных областей; к тому же из-за нехватки корма их нельзя было задействовать в больших количествах. В результате в V и IV вв. до н. э., когда власть персов простиралась от Эгейского моря до Инда, Индия представляла собой горстку небольших царств, сосредоточенных в заросших густыми лесами центральных и восточных районах страны. С помощью одних только слонов индийские махараджи не могли соперничать с западными соседями. История с игрой в шахматы показывает, что они и сами это постепенно осознавали. Надо сказать, что не весь субконтинент одинаково негостеприимен по отношению к лошадям. В Индии есть территории с самыми разными климатическими условиями, и часть из них отлично подходит для разведения лошадей. Западные области – Белуджистан, Синд, Пенджаб и Раджастхан – это естественное продолжение степей, простирающихся от Афганистана на севере до берегов Аравийского моря на юге. Эти земли лежат далеко на западе, куда не добираются муссоны, и поэтому не страдают от избыточной влажности. Есть в Индии и другие островки естественных лугов: Деканское плоскогорье, холмистое плато на юге Индии и предгорья Гималаев. Еще выше в горах, в Ладакхе, Лехе и Непале, прекрасно себя чувствуют выносливые пони[192]. Рельеф с изображением боя лошадей и слонов. Храм в Махешваре, 1666 г.
Рельеф с изображением боя лошадей и слонов. Храм в Махешваре, 1666 г.
Сухие, поросшие травой равнины Пенджаба – отличные пастбища – всегда привлекали скифских коневодов. Традиционно эти земли считались диким, малонаселенным приграничьем, удаленным от индийских столиц и основных населенных районов, поэтому кочевники, которые пришли сюда в середине I тыс. до н. э., почти не встретили сопротивления[193]. Как это было и в Западной Азии, степные народы, приходившие в Индию, становились наемниками в армиях индийских государств, расположенных дальше к югу и востоку. Вероятно, первые индийские конницы целиком состояли из наемников. За несколько столетий до этого степные народы бронзового века, передвигавшиеся на колесницах, мигрировали в Пенджаб и принесли с собой революцию колесниц. Теперь настало время степным переселенцам железного века принести в Индию революцию кавалерии[194]. В IV в. до н. э., когда Персидская империя уже достигла расцвета, в долине Ганга только-только возникла первая индийская императорская династия, Нанда. Как и предыдущие правители, Нанда полагались на слонов, укрепляя свою власть в восточных лесистых областях империи. Но чтобы удержать западные границы и защитить их от конных набегов из степей или из Ирана, необходимо было принять на вооружение конницу. (И действительно, пугающая слава конницы государства Нанда в 326 г. до н. э. убедила Александра Македонского, покорившего персов, остановить вторжение в Центральную Индию.) Силой своей 80-тысячной кавалерии, а также 3000 боевых слонов Нанда смогли завоевать Бихар, Бенгалию и Мадхья-Прадеш[195]. В 322 г. до н. э. соперничающей династии Маурьев при поддержке скифских, македонских и персидских наемников удалось разгромить империю Нанда. Детали этих событий легли в основу древнеиндийской драмы «Мудраракшаса», в которую вошел в основном мифологический материал об основателе династии Чандрагупте Маурье и его хитроумном визире Чанакье. Одно известно наверняка: придя к власти, Чандрагупта постарался сохранить конницу Нанда. Согласно традиции, Чанакья, известный также под именем Каутилья, составил для Чандрагупты обширное руководство по управлению государством. Несколько глав этого труда, который называется «Артхашастра» («Наука о государственном устройстве»), посвящены лошадям и коннице. В них Чанакья дает государю советы, где лучше приобретать хороших лошадей и как за ними ухаживать. Он рекомендует лошадей из Камбоджи (сегодня это область Хазара в Пакистане), Синда или Аратты, с северных равнин Пенджаба[196]. Лошади из Ванаю – местности, относящейся то ли к Ирану, то ли к Афганистану, и из Балха (нынешний Мазари-Шариф в Северном Афганистане) тоже получили одобрение визиря. Двенадцать столетий спустя командир конницы Великих Моголов Фируз Джанг рекомендовал своим хозяевам лошадей из тех же мест. Разведение лошадей в неблагоприятных природных условиях Индии требовало особого подхода. Во-первых, их нужно было держать в конюшнях. Заботясь о психологических потребностях лошади, живущей в конюшне, Чанакья выдвигал идеи, которые кажутся одновременно и эксцентричными, и вполне современными: «В конюшнях должны быть просторные и светлые помещения, в которых также можно содержать обезьян, павлинов, пятнистых оленей, мангустов, куропаток, попугаев и майн». Это гарантировало, что лошади не станут асоциальными и неуправляемыми[197]. В отсутствие свежей степной травы кормление лошадей требовало не меньшего внимания. Индийские заводчики предпочитали лошадей с блестящей шерстью и слоем жирка под кожей, а для этого нужен был особенно обильный рацион. Чанакья рекомендовал «кормить лошадей топленым маслом, мукой и жиром». Для объема зеленую пшеницу мешали с сеном. Готовили болтушку из коровьего молока, пшеницы или риса, давали даже баранину с топленым маслом[198]. «Лошадь может приспособиться к любой еде, даже к бирьяни[199], если только дать ей время привыкнуть», – пишет индийский всадник и автор Яшасвини Чандра[200]. Скифам, чьи лошади паслись на воле, или иранцам, выращивавшим для них люцерну, такая лошадиная диета могла показаться разорительной, но по сравнению с кормежкой прожорливых слонов она, должно быть, выглядела вполне бюджетно. Помимо конюшен и специального рациона, лошади в муссонном климате Индии нуждались в постоянном медицинском уходе. Брахманы, обученные ветеринарной науке, составляли обширные руководства по лечению болезней, поражающих лошадей. В «Ашвашастре», или «Сборнике правил по уходу за лошадьми», написанном уже после эпохи Маурьев, в IV в., в 12 000 рифмованных строк на санскрите описаны болезни лошадей и средства их лечения. Это руководство стало классическим, его перечитывали, комментировали и дополняли в течение следующей 1000 лет; тот самый Фируз Джанг даже перевел его на персидский язык. Наконец, помимо определения наилучших мест приобретения и правил ухода за лошадьми, Маурьи, как и персы до них, наладили логистику, необходимую для содержания крупных конных армий вне степи. Они выстроили целую бюрократическую структуру, в которую входили специалисты, отвечающие за фураж, конюхи и отдельные службы по уходу за лошадьми, слонами и волами из обозов. Государство сохраняло монополию на владение слонами и лошадьми. Слонами – потому что они по-прежнему прочно ассоциировались с царской властью. Что касается лошадей, монополия отражала сложность содержания конского поголовья в условиях Индии – только могущественная империя могла позволить себе такие расходы. Содержание столь дорогостоящих животных, как лошади и слоны, поддерживало престиж правителей династии Маурьев. Они кичились мощью, которую эти животные олицетворяли. Махараджи устраивали впечатляющие кровопролитные бои между слонами-самцами в период гона, которые, когда битвы слонов перемещались на трибуны, зачастую были опаснее для зрителей, чем для непосредственных участников. Самая большая опасность конских состязаний, в отличие от слоновьих боев, – это риск, что азартные болельщики потеряют последние деньги, делая ставки на своих фаворитов. О популярности скачек можно судить по тому, что афродизиак на санскрите описывают как «то, что превращает мужчину в скаковую лошадь»[201]. Камасутра тоже предупреждает: «Лошадь на полном скаку, ослепленная энергией собственной скорости, не обращает внимания ни на столбы, ни на ямы или канавы на пути – как и двое влюбленных, ослепленных страстью»[202].
 Скаковая лошадь и всадник. Государство Гуптов, IV–V вв.
Скаковая лошадь и всадник. Государство Гуптов, IV–V вв.
Размеры и доблесть кавалерии Маурьев впечатляли чужеземцев, писавших об Индии в первые века нашей эры. Римский ученый I в. Плиний Старший оценивал численность конницы Маурьев в 30 000 лошадей. Соответствующие оценки численности слонов колеблются между 3000 и9000, то есть конница оставалась более мощной силой, чем боевые слоны[203]. Маурьи держали боевых животных не только ради престижа. Они первыми из индийских династий использовали лошадей не просто для того, чтобы отражать нападения с северо-запада, но и для того, чтобы в 303 г. до н. э. завоевать Пенджаб и Афганистан. Об этих своих подвигах сами Маурьи никаких сведений не оставили, поскольку предпочитали сухим историческим хроникам поэзию. Более поздний эпос, написанный в IV в. одним из величайших индийских поэтов Калидасой, дает нам представление о том, как, вероятно, разворачивалась кампания Маурьев. Возможно, ею-то Калидаса и вдохновлялся. Легендарный герой поэта, Рагху, собрал армию из пехотинцев, колесниц, слонов и конницы – точно, как в шахматах, – чтобы отразить наступление скифов. Сначала он прогнал их обратно за реку Инд, а потом, когда, преследуя противника, индийская армия дошла до Хайберского прохода и Гиндукуша, пехотинцы, колесницы и слоны отстали. Конница Рагху преследовала скифов и в тенистых каштановых лесах, и в заснеженных горах. Еще через 1600 км, на берегах реки Окс, неподалеку от места, где 800 лет тому назад встретил свою смерть Кир Великий, индийская и скифская конницы сошлись в битве. Пыль, поднятая конскими копытами, мешала воинам отличить друга от врага, и только по характерному звуку спускаемой тетивы могли они узнать своих. Войско Рагху усеяло землю бородатыми головами врагов, чьи тела были утыканы стрелами, будто жалами целого роя пчел. Скифы в знак покорности сняли шлемы, а их женщины, которые тоже участвовали в сражении, покраснели от стыда. Победоносная индийская конница остудила лошадей в водах Окса, а скифские вожди в качестве мирных подношений отдали им свое золото и боевых коней. Действительно ли индийцам, выступившим против скифов на их родной земле, повезло больше, чем Киру, нам неизвестно, но, покорив Афганистан – что, вероятно, и было целью легендарного похода Рагху, – реальные Маурьи оградили себя от вторжений из степи[204]. От Маурьев во II в. до Моголов в XVI в. – и даже во времена британского колониального правления в XIX в. – властители Индии стремились господствовать над Афганистаном, чтобы лишить коневодов плацдарма для нападения и использовать афганские пастбища для разведения собственных лошадей. Индийские империи либо преуспевали в этом и процветали, либо терпели неудачу и исчезали. После падения Маурьев степные народы возобновили набеги на субконтинент[205]. Скорость и мобильность лошади позволили степным народам превратить ее в грозное оружие, а время, когда в Иране и в Индии приняли на вооружение конницу, совпало с возникновением первых империй. Для персов, скифов и индийцев конная мощь означала возможность завоевывать другие народы и сохранять свою независимость. Дальше на восток, в бедном лошадьми Китае, конкуренция за конную мощь разворачивалась в континентальном масштабе.
4 В отчаянных поисках небесных лошадей
Китай, 200 г. до н. э. – 400 г. н.э

Китай и его беспокойная граница
В год Лошади, 770-й до н. э., группа придворных заговорщиков задумала свергнуть Ю-вана, представителя трехсотлетней династии правителей Чжоу. В голову им пришла идея привлечь к делу чужеземцев-коневодов. Они предложили сильному скотоводческому народу цюань-жунов – «собачьему племени» – напасть на столицу Чжоу город Хаоцзин (располагавшийся неподалеку от нынешнего Сианя) и сместить монарха. В качестве задатка коневодам отправили повозку, груженную золотом и шелком, и поманили перспективой поживиться сокровищами царского дворца. Вождю цюань-жунов сделка показалась выгодной, и он собрал 15-тысячную конницу. Размахивая мечами и копьями, эта масса всадников хлынула на ничего не подозревающий беззащитный город, окружила его и отрезала от источников воды. Город немедленно сдался, и цюань-жуны разграбили его подчистую. Уходить обратно в степь они, однако, не стали торопиться[206]. Заговорщики слишком поздно поняли, что нанять «собачье племя» для вторжения в столицу Чжоу было просто, а вот заставить кочевников отказаться от своего нового приобретения будет потруднее. Из-за таких вторжений извне и внутренних раздоров Китай постепенно и погрузился в смуту периода Сражающихся царств, продлившуюся с 475 по 221 г. до н. э. Чжоу управляли союзом княжеских кланов, обладавших колесницами, полагаясь больше на ритуалы и традиции, чем на грубую силу. Набеги «собачьего племени» и их вооруженной смертоносными луками конницы подорвали авторитет Чжоу и возвестили о том, что колесница себя изжила. Чтобы защититься от цюань-жунов, независимым теперь кланам пришлось обзавестись собственными конными войсками. Именно в этот момент один из теперь уже номинальных вассалов Чжоу, Улин-ван, правитель Чжао, убедил своих придворных, что им нужно «надеть наряд Ху и стрелять сидя на лошади». Тем самым он положил начало соперничеству между кланами, которые боролись за обладание богатой северной равниной Китая. Сопутствующие социальные потрясения вдохновили на глубокие размышления таких философов-моралистов, как Чжуанцзы. Как в Иране и в Индии, так и в Китае возникновение первых империй по времени совпадает с появлением на сцене степных коневодов. Истории о том, как эти государства приобретали и поддерживали конную мощь, средство воплотить в жизнь свои имперские амбиции, послужили основой бессмертных легенд. Вдоль тысячемильной границы между степью и Сражающимися царствами обитало больше десятка коневодческих племен. Китайцам они были известны под разными названиями: жуны, ронг, дун, ди, усунь и юэчжи. Зачастую эти названия трудно связать с какой-то конкретной, идентифицируемой этнической группой[207]. «Собачье племя», названное так в честь своего тотема – собаки, пришло, вероятно, с Тибета. Другие были все теми же скифами, которые в течение I тыс. н. э. освоили пастбища на всем пространстве от Алтайских гор до провинции Шэньси, которая в то время была самой западной провинцией Китая. Третьи, возможно, происходили от еще одного древнего народа Центральной Азии – тохаров. На севере, в современной Монголии, живший там в III тыс. до н. э. народ неизвестного происхождения перенял многие из скифских обычаев, включая выпас четырех поголовий, знаменитую скифскую металлургию, охоту и верховую стрельбу из лука. Они называли себя «натягивающими лук»[208], что соответствует этнониму «скиф»; китайцы звали их «шумными варварами» или «сюнну»[209]. Поскольку вполне вероятно, что они были предками хунну, я для удобства буду использовать это более позднее наименование[210]. От ранних хунну сохранились артефакты, отличающие их от скифов. Могилы они огораживали каменными плитами и по всей степи оставляли петроглифы с изображением оленя – задолго до того, как похожие памятники стали создавать тюрки[211]. Даже наконечники их стрел отличались от скифских: у них было по два лезвия вместо трех. Но во многих других отношениях хунну были очень похожи на скифов, с которыми они и воевали, и сотрудничали и которых в итоге поглотили. Каким бы ни было их этнолингвистическое происхождение, коневодство, которым занимались оба этих народа, делало их одновременно ценными и опасными соседями для Китая. Со временем хунну стали самым крупным и могущественным из коневодческих народов, живших у китайской границы. Помимо того что коневоды служили наемниками у китайцев или же совершали на них набеги, они еще и активно поставляли всем Сражающимся царствам боевых лошадей. Степные погребения того периода полны серебряных и золотых украшений, полученных в обмен на этих животных[212]. Лошадей покупали и продавали у оборонительных стен, возведенных Сражающимися царствами в степи, прилегающей к их землям. Отдельные участки этих стен много позже войдут в Великую Китайскую стену, но в те времена это были просто земляные укрепления. Тем не менее они давали защиту местным китайским гарнизонам, контактировавшим со степными жителями[213]. Близость к этим торговым постам давала западным Сражающимся царствам преимущество в приобретении лошадей. Клан Цинь, правивший самым западным из Сражающихся царств, возможно, и сам был степного происхождения. Долина реки Вэйхэ, колыбель Цинь, веками давала приют племенам коневодов. Вэйхэ, приток Желтой реки, образовывала экологическую границу между превосходными пастбищами севера и влажными сельскохозяйственными землями юга. Живший в XVII в. автор Фэн Мэнлун отмечал, что обычаи государства Цинь «мало отличались от обычаев степных народов», таких как «собачье племя», с которым Цинь часто воевали. Между прочим, основатель династии Цинь начинал свою карьеру на службе ослабленного двора Чжоу, для которого он закупал лошадей[214]. В награду за то, что он наконец-то изгнал «собачье племя» из разрушенной столицы, чжоусцы признали его независимым правителем Цинь. Цинь приобрело репутацию самого воинственного из Сражающихся царств – чего-то вроде китайской Пруссии – и собрало самое большое конное войско. Правитель, унаследовавший трон Цинь в 246 г. до н. э., принялся наращивать военную мощь, чтобы раз и навсегда расправиться с врагами государства, и за 25 лет почти непрерывных войн покорил и объединил все сражающиеся царства, объявив себя в 221 г. до н. э. Шихуанди, 始黃帝, то есть Первым императором. Каждый год 9 млн туристов, привлеченные терракотовыми призраками его огромной армии, посещают гробницу Шихуанди, расположенную недалеко от древней императорской столицы, современного Сианя.Возникновение империй: Китай

Кони первого императора
Они чинно стоят рядом со своими лошадьми, сжимая в левой руке невидимые теперь поводья. Императорские солдаты высоки ростом – под метр восемьдесят, одеты в брюки и сапоги до колен. Рост их лошадей – чаще всего это мерины – равен 13 ладоням, в соответствии с требованиями кавалерийского устава Цинь. Уши лошадей вытянуты вперед в ожидании команды. Гривы коротко подстрижены для удобства стрельбы из лука, хвосты подрезаны, чтобы не мешать в ближнем бою. Морды широкие, как у современных монгольских лошадей. На спинах у них подседельники, аккуратно закрепленные тремя подпругами, и низко свисающие по бокам мягкие седла в скифском стиле. Эти кавалеристы и их лошади – часть терракотовой армии первого китайского императора. Они были обнаружены внутри огромного могильника, найденного крестьянами в провинции Шэньси в 1971 г. Лошади, как и вся остальная армия, 1300 фигур из которой к настоящему времени извлечены из земли, были отлиты в формах, позволявших воспроизвести их в натуральную величину. После обжига в печи при температуре около 1000 °C на фигуры наносили резьбу и полировали; при помощи такой отделки каждой из лошадей придавали свое выражение глаз, форму ноздрей и постановку ушей. Когда-то лошади были окрашены яркими пигментами – красным, розовым, охристым, а их глаза с белыми склерами и черными зрачками казались живыми. В последнюю очередь, чтобы закрепить краску, наносили лак. Увы, 2000 лет окисления перекрасили всех лошадей в одинаковый терракотовый цвет[215]. Терракотовые лошади из гробницы Первого императора, III в. до н. э. Сиань, провинция Шэньси
Терракотовые лошади из гробницы Первого императора, III в. до н. э. Сиань, провинция Шэньси
Реалистичность и детальность этих фигур позволяют ученым установить близкое родство конской сбруи армии Первого императора со сбруей из пазырыкских погребений. Мягкие седла выглядят так, будто набиты мехом. Уздечки сделаны так же, как в Пазырыке, с характерными S-образными псалиями[216]. Зубчатые гривы и челки напоминают гривы лошадей, изображенных на скифских металлических изделиях. Нет сомнений, что конница Шихуанди многим обязана степным коневодам. В исполинской гробнице – на сегодняшний день здесь вскрыт лишь 1% от общей площади в 56 кв. км – обнаружено 116 всадников, 670 лошадей и 516 колесниц с возничими. Детальная проработка и достоверность фигур дает нам представление о том, как могла выглядеть китайская армия III в. до н. э. в тот период в истории Китая, когда его правители еще не полностью отказались от использования колесниц, но все больше ценили конницу. Гробница Шихуанди говорит и об изменении отношения к самой лошади и к ее использованию в качестве ритуального объекта. В более ранних захоронениях обнаруживаются десятки или даже сотни принесенных в жертву лошадей, а заодно и людей. В этой гробнице пока найдено только четыре жертвенные лошади, дань похоронным традициям династий Шан и Чжоу[217]. Хотя со временем место захоронения Первого императора забылось, поздние историки писали о жертвоприношении лошадей, совершенном при его погребении: все они были одной и той же гнедой масти и похоронены были заживо, вместе с бронзовой колесницей и упряжкой из четырех бронзовых дракончиков. Однако начиная с периода династии Цинь мы больше не находим массовых захоронений лошадей. Лошади стали стратегическим ресурсом государства, который нужно было сохранить и после смерти императора. Вместо того чтобы по старому обычаю приносить в жертву лошадей и людей, Шихуанди заменил их статуями в натуральную величину[218]. Следующие династии, включая Хань и Тан, тоже провожали своих умерших скульптурами, пусть уже не в натуральную величину, но тоже очень реалистичными[219]. При жизни, как и в смерти, Первый император распоряжался конной мощью страны. Расширив бюрократический аппарат, унаследованный от государства Цинь, он учредил Большую конюшню, Дворцовую конюшню и Среднюю конюшню, каждая из которых имела свои собственные критерии отбора животных, свои правила и процедуры и конюхов, работу которых строго контролировали[220]. Минимальный рост боевых лошадей, как свидетельствуют статуи в гробнице и останки настоящих животных, был установлен на уровне пять чи восемь чунь, что соответствует 1,34 м, или чуть более чем 13 ладоням. Хотя по меркам современных верховых лошадей, чей рост достигает 15–17 ладоней, это немного, но таков был средний рост степных коней. Боеспособность конницы поддерживали посредством беспощадной дисциплины. Государственные служащие, не сумевшие приобрести лошадей в достаточном количестве или сохранить их в надлежащем состоянии, подвергались суровым наказаниям. Это позволяло Первому императору при необходимости мобилизовать 10-тысячную конницу. Огромный управленческий аппарат Шихуанди пережил недолговечную династию Первого императора. Когда после короткого междуцарствия власть захватила династия Лю, основавшая империю Хань, она сохранила и приумножила штат тех, кто отвечал за содержание лошадей. В течение четырехсотлетнего существования Хань, длившегося с 202 г. до н. э. по 220 г. н. э., пост распорядителя Великого конюшенного приказа, или главного конюшего, считался одной из высших государственных должностей. В подчинении главного конюшего находились распорядители рангом ниже, включая начальников дворцовых конюшен, службы, занимавшейся императорскими кобылами, службы императорских охотничьих колесниц, службы кавалерийских конюшен, управлений лучших боевых лошадей и чистокровных лошадей, управления по реквизиции боевых лошадей из провинций для нужд столицы, конюшни для «летающих лошадей» левого и правого крыла (войска), конюшни «коней-драконов» и более прозаично – управления пастбищ[221]. Как и при династии Цинь, конюхи и рабочие конюшен набирались из степных жителей[222]. Такая развитая иерархическая структура, распорядитель которой входил в ближний круг императора, была характерна и для следующих китайских династий, и, собственно, для всех евразийских империй, что ясно дает понять, какое значение эти великие государства придавали разведению лошадей.
 Бронзовая колесница эпохи Хань, I в. Провинция Хэнань
Бронзовая колесница эпохи Хань, I в. Провинция Хэнань
В период пятилетнего междуцарствия Цинь и Хань все эти должности сохранялись только на бумаге. Из-за гражданской войны и сопутствовавших ей неурядиц число кавалерийских лошадей резко сократилось. Большие конюшни были заброшены, а конюхи уехали домой в степь вместе с лошадьми, вверенными их опеке. Лошадей было так мало, сообщается в «Исторических записках» Сыма Цяня, что «[дошло до того], что Сыну Неба не могли даже предоставить четверку одномастных лошадей для выезда, а военачальники и первые советники часто ездили на повозках, запряженных быками»[223][224]. Жертвоприношения лошадей пришлось приостановить. Китайская империя, столь зависимая от этих животных, не могла раздобыть их достаточно, чтобы восполнить потери.
Нехватка лошадей
Когда около 1200 г. до н. э., в эпоху колесниц, китайцы только познакомились с лошадьми, это чужеземное животное было окружено в их глазах аурой тайны и волшебства. Замысловатые похоронные обряды и ритуалы ворожбы, просуществовавшие весь имперский период, уходят корнями как раз в те времена. Китайцы не сомневались, что лучшие лошади – животные не просто чужеземные, но небесные (天馬, Tiānmǎ). Такое представление подразумевало, что разведение лошадей не под силу простым смертным. И все-таки китайцы принялись усердно изучать животное в надежде чему-нибудь да научиться. Первым китайским специалистом-иппологом был Бо Ле; и хоть фигура он скорее легендарная, чем историческая, принято считать, что жил он в VII в. до н. э. Поздние авторы приписывают Бо Ле изобретение «физиогномики» (想馬, xiangma), ключа к разгадке секретов выдающейся лошади. Многочисленные приписываемые Бо Ле рекомендации, собранные в летописях династии Хань, звучат загадочно:Рыжие лошади с черными отметинами на желтых плечах, лошади, окрасом похожие на оленей с желтыми пятнами, серые в яблоках и белые лошади с черными гривами – это хорошие лошади. Если у лошади белая полоска тянется ото лба до рта и на этой лошади ездят слуги, они сложат голову в чужих краях. Если же на ней ездит хозяин, его казнят на рыночной площади. Лошадь с белыми задними ногами, правой и левой, убивает женщин[225].
 Иппологическая диаграмма по мотивам Бо Ле, VII в. до н. э.
Иппологическая диаграмма по мотивам Бо Ле, VII в. до н. э.
В другом месте Бо Ле советует: «Рост шерсти на животе должен быть направлен в сторону, противоположную росту шерсти на пояснице. Такая лошадь может проходить по 1000 ли в день. В противном случае она сможет пройти только 500 ли»[226]. Такие заявления вызывают недоумение, тем не менее они из века в век воспроизводились в традиционных иппологических руководствах в Китае, Индии и Иране. Современные исследователи изучили корреляцию между направлением роста шерсти и боковой асимметрией. Они подозревают, что у некоторых лошадей есть едва заметное латеральное доминирование, которое, если всадник о нем не знает, может привести к несчастному случаю[227]. Эмпирические наблюдения Бо Ле, возможно, подсказали ему, что определенное направление роста шерсти свидетельствует о потенциальной опасности. Эти рекомендации, несомненно, отражали важность внешнего вида лошади, а не только ее рабочих качеств. В императорскую колесницу всегда запрягали лошадей одинаковой, считающейся благоприятной, масти, с одинаковыми отметинами. Возможно, определенные окрасы ассоциировались с более востребованными кровными линиями. И все-таки труды Бо Ле и вся китайская иппология в целом почти ничего не говорят о том, как вырастить хорошую лошадь, и Китай веками не мог справиться с этой задачей. Более 1000 лет спустя миссионер-иезуит и ученый-универсал Маттео Риччи констатировал, что ситуация не изменилась:
На службе у китайской армии бесчисленное множество лошадей, но все они такие выродившиеся и лишенные боевого духа, что обращаются в бегство, лишь заслышав ржание [степных] скакунов, так что в битве они бесполезны[228].Действительно, китайское слово «боевой конь», 戎 馬, или rong ma, буквально означает «лошадь западных чужеземцев», напоминает о племени ронг и указывает на то, что лошади – привозной товар. Увы, к удивлению и разочарованию людей, ответственных за императорские конюшни, потомство этих завозных лошадей оказывалось мельче и слабее родителей. Желая улучшить качество лошадей в императорских племенных хозяйствах, около 30 г. н. э. полководец Ма Юань (馬 援) преподнес императору Хань по имени Гуанъу-ди памятку в виде бронзовой статуи лошади. Это был смелый ход, учитывая, что при дворе больше ценились глубокомысленные, красиво написанные тексты с цитатами из древних мудрецов, подобных Бо Ле. Но закаленный в боях рубака не стал выбирать выражения, объяснив, что одна его статуя стоит тысячи слов. «Вашему величеству, – сказал он, – нужно раздобыть побольше лошадей, похожих на эту»[229]. Наверняка придворные не удивились одержимости военачальника лошадьми, учитывая, что и его фамилия, Ма, означает «лошадь». Его предок Ма Фу Цзюнь был «князем, укрощающим лошадей» (馬服君)[230]. Хотя от статуи, изготовленной по заказу Ма Юаня, не осталось и следа, статуэтка, извлеченная из одного из захоронений того периода, дает нам понять, как именно военачальник представлял себе идеальную лошадь. У нее мощные, симметричные и по заветам Бо Ле почти шарообразные грудные мышцы и ляжки. Спина и живот очерчены прямыми линиями, без изгибов. Конечности длинные и изящные. Шея прямая, уши торчком; ноздри широкие; морда квадратная сверху и круглая снизу, с выдающейся округлой челюстью. Глаза выпирают из глазниц. Касаясь земли одним копытом и чуть склонив голову в сторону, лошадь как будто летит. «Летящая лошадь из Ганьсу» воплощает в себе все качества, какие императорский Китай хотел видеть в лошади, да не мог от нее добиться[231]. Китай плохо справлялся с разведением лошадей по множеству причин, и первая из них – это неподходящий корм. Земли империи Хань, куда входили современные провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань и Шандун, не рождали той полезной, богатой минералами травы, которая нужна лошадям для роста, поэтому даже отпрыски жеребца ростом в 160 см могли недотягивать и до 130 см. Чтобы лошади вырастали высокими, им необходимы минералы, в первую очередь селен и кальций, но обильные дожди вымывают их из местной почвы, а значит, и из травы[232]. Раздобыть люцерну тоже было непросто. Ученый и поэт IX в. Лю Юйси рассказывает, как получил жеребенка в подарок от друга, отвечавшего за отбор боевых коней на северной границе. «Я кормил его [обычной] травой и соломой», – признается он. Затем Лю Юйси за сущие гроши продал этого жеребенка другу, знающему толк в лошадях. Новый владелец следил, чтобы животное кормили люцерной, мыли и чистили, а стойло содержали в чистоте. И вскоре, сокрушенно сообщает Лю Юйси, жеребенок вырос в исключительную лошадь, такую, за которую императорские конюшни небесных коней готовы были отвалить тысячу золотых монет[233].
 «Летящая лошадь из Ганьсу», II в.
«Летящая лошадь из Ганьсу», II в.
Кроме того, императорским лошадям не хватало подготовки. Один из мандаринов династии Хань в 177 г. до н. э. жаловался, что «земля сюнну и навыки [верховой езды], которых она требует, отличаются от китайских. Там нужно взбираться в горы и спускаться с них, пересекать ущелья и горные реки. Китайские лошади не могут сравниться с лошадьми сюнну»[234]. Эволюция приспособила лошадей к постоянному движению; в военном походе кони, выращенные в стойле и питающиеся из кормушки, не смогут сравниться в выносливости со степной конницей, да и разнеженные всадники не будут столь же отважны. Единственное средство поддерживать конницу в боевой готовности – постоянно занимать ее войной или какой-то похожей деятельностью: охотой или разбоем. Парадоксально, но только в постоянных конфликтах китайская конница могла сохранять преимущество, которое давала ей численность, а вот мирные периоды часто заканчивались внезапными военными катастрофами, поскольку и люди, и лошади от безделья теряли закалку и боевой дух. Лошади хунну побеждали китайских и в поединках воли, заставляя последних в панике спасаться бегством. Животные, которых держат в конюшнях, страдают от метаболических, пищеварительных, сосудистых и даже психологических нарушений. Лошади на свободном выгуле агрессивнее и бесстрашнее[235]. И снова Лю Юйси понимает, где ошибся:
Я держал коня в темном и сыром стойле. Когда он вставал на дыбы и прыгал, я думал, что он будет брыкаться и кусаться, и стегал его кнутом, не зная, что он пытается вознестись к облакам. А слушая, как он дышит и фыркает, я думал, что он болен и нездоров, и просто кидал ему каких-нибудь лечебных трав, не зная, что он пытается излить нефрит[236].Мало того что китайцам не хватало знаний о лошадях, так еще и жители империи опасались, что если преуспеют в их разведении, то императорские конюшни небесных коней просто реквизируют лучших животных, вместо того чтобы платить за каждое по тысяче монет. Такое периодически случалось, так что опасения были небеспочвенны. Даже когда правительство официально поощряло разведение лошадей населением, платили за них столько, что затраты и усилия коневода зачастую не окупались[237]. Согласитесь, есть огромная разница между тем, чтобы растить животное, которое спасет вам жизнь в бою, и растить его в счет уплаты налогов! Огромная империя Хань не могла даже толком прокормить своих лошадей. Области, подходящие для выращивания таких кормов, как люцерна, – Ганьсу и Нинся, – император планировал превратить в пахотные земли для крестьянских хозяйств, и действительно, в скором времени правительство уступило народному давлению и передало эти земли под обработку[238]. Кроме того, доставка качественных кормов племенным хозяйствам была сопряжена с логистическими трудностями. Кормить лошадей таким способом было дорогим удовольствием по сравнению с выпасом на пастбищах. Как и в других оседлых империях, содержание конницы тяжким бременем ложилось на государственную казну. Война, естественно, делала этот груз еще более тяжелым. Несмотря на все усилия, ханьцам с их 36 племенными хозяйствами так и не удалось обеспечить свою конницу лошадьми надлежащего качества[239]. Трудности, с которыми сталкивались китайцы при разведении лошадей, стали притчей во языцех и подкрепляли традиционную китайскую склонность к самоуничижению. Как бы ни требовал император больше лошадей и лошадей лучшего качества, гражданские и военные чиновники должны были тактично вразумлять монарха, принимая на себя все риски, которые влекут за собой попытки говорить правду облеченным властью. Кстати, китайцы прекрасно понимали, что лошади тоскуют по родной степи. В элегии того же Лю Юйси болезнь и смерть лошади именно этим и объясняются:
Он боролся с ветром и дождем. Он смотрел не прямо, а искоса. Мой конь, разве мог он выжить? Он шел короткими шажками, постоянно оглядываясь назад. Он останавливался и натягивал поводья. С каждым днем он все меньше пил и ел. От нехватки сил он занедужил. Он грустил в холодном стойле. Он терял силы, и шерсть его редела. Он вскидывался, когда чуял запах [северного пути]. Он жаждал скакать навстречу этому запаху. Он издавал звуки, говорящие о том, что он хочет уйти. Павший духом, он мог вернуться домой лишь после смерти. Он был славным конем юэчжи, его родина – Центральная Азия. Судьба его была пастись там день за днем. Он был бы счастлив вернуться на запад. Люди говорят, что этой породе нужна трава. Говорят, что такой цвет шерсти не встречается на Центральных равнинах. Они рассматривают его шерсть и гадают, кто бы мог быть его отцом? Ханьцы говорят: «В мавзолее императора Ву есть родник, драконий источник». Я брошу твои кости, мой друг, в драконий источник[240].Сколько бы ни восхищались китайцы красотой лошадей, сколько бы ни ценили их как источник политического могущества, именно Китай сильнее прочих оседлых империй страдал от нехватки этих животных. Потому-то китайцы и впали в опасную зависимость от степных народов, которые поставляли им коней, – от тех самых кочевников, с которыми они боролись за контроль над степной границей.
Дареные кони
Лошади, красивые и быстрые, всегда были желанным подарком для жителей степей. Поначалу их не столько покупали и продавали, сколько, продолжая традиции эпохи колесниц, предлагали в рамках сложного протокола обмена дарами. Степной обычай приносить лошадей в дар китайцам, сложившийся в ходе самых первых контактов между степными и оседлыми народами, сохранялся веками, маскируя практику, которая была не чем иным, как покупкой стратегического ресурса у врагов государства. Уже в III в. до н. э. растущая империя Цинь использовала свой отлаженный бюрократический аппарат для того, чтобы сделать этот обмен организованным и эффективным. Чиновники Цинь договаривались о регулярной доставке степных лошадей к таможенным постам, устроенным в воротах будущей Великой стены[241]. Спрос на лошадей в империи Цинь был так высок, что соседним народам, чтобы удовлетворить его, приходилось приобретать лошадей у других коневодов, живших глубже в степи. Когда циньские чиновники поняли, что имеют дело с посредниками, они аннексировали соседние территории, чтобы получать лошадей напрямую от более удаленных, но и более продуктивных поставщиков[242]. Следуя обычаю Цинь, двор империи Хань по-прежнему поощрял обмены на уровне государства, сопровождавшиеся сложными ритуалами дарения. Так, например, правитель Яркенда, одного из городов Таримского бассейна, привез в дар ханьскому двору лошадей, а взамен получил колесницу, золото, яркие шелка и вышивки. Китайцы покупали не только лошадей, но и лояльность. Ханьский двор пытался привязать вождей коневодческих племен к императорской семье, предлагая им высокородных невест[243]. Приезд степных посольств в Китай часто провоцировал насилие и беспорядки в пограничных районах[244] – еще одна причина, по которой китайцы стремились жестко контролировать своих поставщиков. Чуть ли не каждый степной коневод был не прочь присоединиться к официальной торговой миссии, и уже просто в силу размера такого представительства его присутствие на китайской территории угрожало безопасности государства. Ханьские императоры особенно педантично ограничивали доступ к официальным обменам на высоком уровне. Около 35 г. до н. э., после одного дипломатического инцидента, ханьский император Чэн-ди жаловался: «Кашмирцы сожалеют о своих прежних действиях и являются к нам как просители, но среди тех, кто приносит дары, нет ни членов царской семьи, ни знати. Это все странствующие купцы и люди низкого положения, которые хотят торговать на рынках под предлогом подношений»[245]. Гневный упрек императора по поводу того, что к посольствам примыкают люди низкого происхождения, отражает его опасения, что количество подарков может идти в ущерб их качеству. В поздних хрониках упоминаются торговые миссии численностью в 2000 человек – и это несмотря на неоднократные требования китайского правительства ограничиваться пятьюдесятью. Ханьских сановников преследовала мысль, что такие обмены со степными жителями обогащают их противников и даже разжигают в них военные амбиции. По сути дела, ханьцы зависели от своих же врагов, поставлявших им стратегическое оружие – лошадей. Если бы коневодам, как они того хотели, разрешили свободно торговать внутри страны, они могли бы составить точное представление о состоянии ханьской конницы и раздобыть ценную разведывательную информацию, которая помогла бы им планировать набеги. Неудивительно, что империя Хань не желала пускать степняков дальше Великой стены. Как ни ценили китайцы умение степных народов разводить лошадей, их самих они считали алчными и ненасытными: сколько ни дари серебряных зеркал, лакированных изделий и шелковых тканей, все им мало[246]. Китайцы надеялись, что соседи-коневоды, приучившись к роскоши, размякнут и перестанут быть грозной силой, и не понимали, для чего на самом деле нужны были степнякам все эти ценные вещи[247]. Китайцы не знали, что степные ханы моментально раздавали все их подарки. Они не стремились накапливать богатства, поскольку им просто негде было их хранить. Они передаривали золото и шелка соседям, жившим глубже в степи, покупая их политическую лояльность[248]. Чем больше подарков мог дать хан, тем дальше распространялось его влияние. Дары, которыми китайцы осыпали хана, нисколько не ослабляли его воинственности, но только делали его могущественнее. Хан использовал свое влияние, чтобы обеспечивать мирное сосуществование коневодческих кланов и их стад, разрешать споры из-за украденных невест и угнанного скота. В случае войны хан мог вызвать на подмогу союзников, получавших подарки. Поскольку способность ханов навязывать свои решения таким же, как он, коневодам, была ограничена, безграничная щедрость работала лучше насилия. Хан, умевший раздобыть в Китае предметы роскоши, мог сплести прочную сеть из верных сторонников; того, кто этого не умел, союзники быстро покидали или заменяли другим. Китайские артефакты находят далеко в степи – символы союзов, заключенных между отдаленными группами коневодов. Потому-то ханы и предъявляли китайцам все новые и новые требования, зарабатывая себе репутацию людей алчных и ненасытных. Была у коневодов и еще одна причина стремиться продавать китайцам больше лошадей. Активное разведение привело к увеличению поголовья. Численность лошадей росла куда быстрее численности людей, всех «лишних» животных коневоды съесть не могли, и лучшим решением было продавать их. А если китайцы отказывались покупать, то на этих же лошадях можно и нужно было идти на Китай войной[249]. Война, в свою очередь, заставляла китайцев приобретать еще больше лошадей, создавая благоприятные условия для разведения еще большего их количества. Эта мысль, по-видимому, ускользнула от проницательных и наблюдательных китайских историков эпохи Хань и даже от некоторых более поздних династий, поскольку динамика набегов и торговли через степную границу сохранялась на протяжении 2000 лет, в течение многих раундов конфликта в стиле «око за око». Если предложенных китайцами даров вдруг оказывалось недостаточно или объем закупок недотягивал до объемов предложения, коневоды устраивали набеги, чтобы вынудить соседей предложить им сделку повыгоднее. Вражда разгоралась и тогда, когда китайцы вводили эмбарго, чтобы наказать коневодов за плохое поведение. Бывало, что и степняки вводили эмбарго против Китая[250]. Справляться с неспокойными кочевниками было непростой задачей, и вопросы лошадей и даров, войны и мира постоянно занимали умы министров китайского двора. При этом зависимость Китая от лошадей из степи только усиливалась. Но нежелание китайцев разрешить свободный обмен со степью имело неожиданные и пагубные для них последствия. Оно способствовало рождению первой степной империи, империи хунну.Хунну монополизируют лошадей
В конце III в. до н. э. одного юношу из могущественного рода хунну с китайской границы отправили заложником к скифам, за много тысяч верст от родных мест[251]. Там, наблюдая за соперничеством между скифами и иранцами, он узнал много нового об управлении государством и об искусстве войны. Позже, сбежав из плена, он вернулся домой, где проявил неукротимое честолюбие. Сколотив боевой отряд, он, дабы испытать верность своих людей, приказал им выпускать стрелы в любую цель, которую он им укажет – под страхом смерти за проявленную нерешительность. Он пустил стрелу в своего любимого коня, и за нею полетела туча стрел его последователей. Затем молодой вождь со своим отрядом таким же образом расстрелял любимую жену и, наконец, отца[252]. Модэ, как звали юношу, стал вождем своего племени. Но его амбиции простирались гораздо дальше, и созданная китайцами система приобретения лошадей помогла ему реализовать свои честолюбивые замыслы. Эта система представляла собой, как говорят нынешние экономисты, монопсонию, или власть единственного покупателя. Китайское государство использовало свое положение основного покупателя лошадей, чтобы определять условия торговли между степью и империей, решая, какого именно качества шелк или золото будут предоставлены в обмен на конкретных лошадей. Коневоды были недовольны тем, что их не пускают на китайский рынок; они знали, что если бы только могли попасть в Китай и торговать напрямую с огромной массой покупателей, то могли бы договориться о гораздо более выгодных ценах. Поэтому коневодческие племена периодически шли на Китай войной, пытаясь «открыть» китайский рынок, но ханьцы вполне могли справиться с такими набегами и, как правило, откупались от степняков новыми подарками и невестами. Для Модэ, однако, существование этих жестко регламентируемых рынков было и препятствием, и возможностью. Он знал, что китайцы покупают лошадей только на нескольких пограничных пунктах, и это давало ему шанс без особых усилий монополизировать поставки степных лошадей. Если бы ему удалось создать такую монополию и стать единственным китайским контрагентом в степи, он обрел бы такое же могущество и внушал бы подданным такой же трепет, как и сам император[253]. Для этого требовалось всего лишь умело сочетать военные и дипломатические победы над Китаем и над такими же, как он сам, степными коневодами. Модэ провозгласил себя верховным правителем, или шаньюем (титул, эквивалентный более позднему каган)[254]. Не желая ни в чем уступать китайцам, он организовал себе двор со своим собственным церемониалом и иерархией, возможно отражающей опыт его жизни у скифов и полученные там знания о старой Персидской империи. Чередуя щедрость с насилием, новый лидер подчинил себе степные народы и объединил всех коневодов, выпасавших стада на территории современной Монголии[255]. Возглавив империю внушительного размера, Модэ обрел такую власть казнить и миловать, какая до него не снилась ни одному степному вождю. С численностью населения всего в миллион душ[256], но с более чем миллионом лошадей, хунну оказались серьезной угрозой для Китая с его населением в 54 млн человек. Дело было в том, что Китай не мог сравняться с хунну по способности быстро мобилизоваться и концентрировать силы[257]. В отличие от оседлых империй с их разветвленной бюрократией и медленным процессом принятия решений, военная и гражданская администрация Модэ представляли собой одно целое. Командиры левого и правого флангов армии и ее центра управляли приписанными к их флангам шатрами и лагерями, распределяли пастбища, выбирали маршруты движения, организовывали охоты и военные набеги. В каждом из подразделений армии лошади были одного цвета: белые на правом, западном фланге, серые на левом, восточном, и соловые в центре. Масти выбрали при помощи геомантии; она же предрекла этой армии мировое господство[258]. Если до этого коневоды совершали набеги только на Хань, то благодаря Модэ, собравшему 240-тысячную конницу, они стали вторгаться в Западный Китай. В начале II в. до н. э. началась эпоха степных империй, неустанно испытывавших китайскую империю на прочность. На границе разворачивались серьезные сражения. Великая стена оказалась скорее таможенным барьером, чем надежным укреплением. Ханьцы предприняли значительные усилия по пополнению конюшен, раздобыв от 20 000 до 30 000 лошадей, но после одной пирровой победы над хунну император вновь был вынужден «сократить расходы на собственный стол, отказаться от повозки, запряженной четверкой лошадей одной масти, и восполнять нехватку средств деньгами из личных накоплений»[259]. Отражать набеги хунну китайцам еще удавалось, но вот соваться на север, за Великую стену, они опасались. Как сказал один из ханьских министров,…от войска, вынужденного сражаться за тысячу верст от дома, нет никакого проку. У хунну резвые кони, а в груди у них сердца зверей. Они перелетают с места на место, словно стая птиц, так что их не поймать и не одолеть. Даже если нам удалось бы завладеть их землями, империи от того не было бы большой пользы[260].Действительно, сразу же за районами, прилегающими к Желтой реке, которая, словно драконья спина, выгибается в сторону нынешней Внутренней Монголии, начинается пустыня Гоби, лишенная деревьев и дорог местность, усеянная камнями и валунами, ходить по которой мучительно, а ездить верхом на лошадях, чьи копыта непривычны к такой твердой и колкой поверхности, опасно. Хотя весной здесь полно травы, в августе летняя жара поджаривает землю до цвета верблюжьей шерсти. Здесь есть несколько речушек, способных напоить горстку пастухов с их стадами, но этого недостаточно, чтобы утолить жажду большого войска[261]. Император У-ди («воинственный владыка Хань») смог, однако, угомонить хунну. Победы давались ему крайне дорогой ценой. В 124 г. до н. э. воины-победители получали в награду по две с лишним сотни катти[262] золота каждый, и даже вражеских пленников отправляли по домам с подарками, едой и одеждой. Потери китайцев, в том числе 140 000 лошадей, в четыре раза превышалипотери хунну[263]. Империя Хань, однако, превосходила хунну по численности населения в соотношении девять к одному, так что это была война на истощение и коневодам стоила недешево. Хунну запросили мира. Хунну и Хань заключили соглашение, которое позволило и даже помогло шаньюю сохранить свой императорский статус. Необходимость собрать огромное количество дорогих подарков[264], обещанных хунну, тяжким бременем легла на 54 млн жителей Хань, поэтому трудно даже вообразить, какое впечатление произвели эти дары на тот миллион человек, что находились под властью хунну. Китайские дары позволяли вождям покупать верность бесчисленных предводителей небольших кланов и усиливать свое могущество. Именно этот поток даров – источник всех тех великолепных изделий из золота, слоновой кости и нефрита, что находят в монгольской степи. Значительное место среди них занимают украшения для уздечек и седел с изображениями лошадей, единорогов и фантастических зверей, которые, по представлениям китайских художников, обитали на безлюдном севере. Рогатые и крылатые копытные, возможно, были отсылкой к предкам хунну, древним охотникам на оленей. Огромное количество этих артефактов свидетельствует о могуществе империи хунну и ее успехах в добыче богатств из ханьского Китая[265]. Даже после заключения мира шаньюй время от времени устраивал крупные набеги, равносильные вторжениям, на земли своего «старшего брата», ханьского императора. Такое случалось, если он хотел направить энергию своих сторонников против внешнего врага либо ему нужно было укрепить свой престиж победой на поле боя. Если шаньюй и мелкие вожди позволяли миру с Китаем длиться слишком долго, молодые и бедные хунну, которым нечего было терять, кроме надежды разжиться добычей или покрыть себя славой, продолжали набеги на китайцев, только уже без позволения шаньюя. Из-за этого китайцы перестали шаньюю доверять. Может, он и пытался положить конец набегам, когда это было ему на руку, но он не препятствовал грабежам, когда опасность от внутреннего недовольства была выше, чем от ответных действий Китая. Китайцев сбивало с толку лицемерие хунну: искренность, традиционно китайская добродетель, предполагала честность и предсказуемость. Однако поведение шаньюя и хунну было совершенно непредсказуемым. В основе могущества хунну лежала монополизация отношений с Китаем. Если бы империя Хань могла закупать лошадей у нескольких коневодческих государств, положение шаньюя оказалось бы под угрозой, и поэтому, в попытке поглотить как можно больше потенциальных конкурентов, империя хунну расширялась на запад. Восстания подавлялись с ужасающей жестокостью: недовольных в назидание остальным варили живьем или привязывали к диким жеребцам. Никакой естественной границы к западу от страны хунну нет; все коневодческие народы Центральной и Внутренней Азии были потенциальными поставщиками лошадей. Соответственно, хунну расширили свою империю почти на 3000 км к западу, до самого Аральского моря, включив в нее бóльшую часть нынешнего Казахстана. Они контролировали территорию в 9 млн кв. км, что делало их империю куда больше империи древних персов, до них – крупнейшей в истории. Гораздо более структурированная, чем царство скифов, империя хунну послужила образцом, на который ориентировались потом и другие степные народы, в том числе тюрки и монголы. Эффективная военная машина шаньюя, почивавшего в шатрах, полных золота, шелка и рабов, не давала императору Хань спокойно спать по ночам.
Потеющие кровью лошади из Ферганы
В 111 г. до н. э. император У-ди – тот самый «воинственный владыка Хань» – сидел на троне уже 40 лет, и 30 из них он воевал с коневодами хунну. Недовольный тем, что противник превосходит его по качеству и количеству лошадей, император стремился усовершенствовать ханьскую конницу. Обратившись к «И цзин» – «Книге перемен», которую часто использовали при его дворе для гадания, У-ди загорелся обнадеживающим пророчеством, гласившим, что «божественные кони должны появиться с северо-запада»[266]. Позже ханьские эмиссары донесли до императора весть о чудесных, потеющих кровью лошадях, которые водились в далеком царстве Фергана. У-ди решил любой ценой добыть этих «жеребят дракона» для императорской конюшни. Придворный поэт захлебывался от восторга[267]:Дар Великого Единения,
Нисходит Небесный конь:
Красные бусины пота на шее,
Сам в испарине пены охряной.
Легко и свободно он скачет,
О необузданный, странный конь.
Текучих облаков едва касаясь,
Взлетает ввысь галопом
И покрывает десять тысяч ли
Его мускулистое тело.
Это поле смерти. Однажды целая армия погибла там от измождения; не спасся никто. Тот, кто пересекает пустыню днем и в безоблачную погоду, умрет от усталости, и его лошадь тоже. Только если отправиться в путь вечером и ехать всю ночь, можно к полудню следующего дня добраться до воды и травы. Нам нужно пройти больше 200 ли [около 120 км], чтобы дойти до края песчаной пустыни, где мы найдем много воды и травы[276].Со времен Хань в пустыне Такла-Макан существовало несколько оазисов, угнездившихся у подножия окаймляющих ее гор. Их называли «шесть городов»: это нынешние Кашгар, Хотан, Йени Хисар, Аксу, Яркенд и Турфан[277]. Часть из них процветают благодаря подземным ирригационным системам, которые направляют талые воды к садам и дынным бахчам. Оазисы до сих пор славятся своими фруктами и овощами, особенно дынями и изюмом, которые считаются самыми сладкими в мире. Эти города-оазисы дали долгожданный отдых китайской экспедиции, преодолевшей мрачную пустыню. После передышки в оазисах экспедиция полководца Ли приступила к следующему этапу пути, где их ждал переход через высокие горы. Китайцам были знакомы относительно пологие Хинган, Саяны и Иньшань, возвышающиеся на 1800–3000 м в Монголии и Маньчжурии, но, двигаясь на запад, они наткнулись на Тянь-Шань («небесные горы»), чьи пики вздымаются на высоту более 7000 м, и Алтайские («золотые») горы. Чтобы перейти из западной степи в восточную, экспедиции У-ди пришлось подняться на перевал на высоте 3000 м, который был открыт всего три месяца в году. Еще в июне там шел снег, оставляя караванам узкое летнее окно. Горные цепи Центральной Азии не препятствовали путешествиям с востока на запад, но навязывали им свой ритм, подобно тому как пассаты определяли сезоны морских путешествий под парусом. После безводных песков и холодных снегов на западных склонах гор их встретила долгожданная зелень: альпийские луга, начинающиеся на высоте 1500 м, отличные пастбища и проточные ручьи для лошадей и вьючных животных. Талые воды с этих гор питают великие реки, в том числе Окс, Яксарт (который сегодня называют Сырдарьей) и Или. В отличие от Европы и Центрального Китая, где длинные судоходные реки соединяют внутренние районы континента с океаном, лишь немногие из рек Внутренней Азии судоходны или имеют выход к океану. Эти бессточные реки текут вглубь континента. Одни впадают в большие пресноводные озера и соленые моря, такие как Иссык-Куль или Балхаш, Каспийское или Аральское море (до того как последнее в ХХ в. почти полностью исчезло с карты мира). Другие, например Харируд, Гильменд или Мургаб, теряются в болотах. Из-за плоского рельефа эти реки петляют и часто меняют русло. Когда-то Окс впадал в Каспийское море, а потом изменил русло и теперь несет свои воды в Аральское. Эта часть степи неприветливо сухая, зато там не бывает осенней и весенней распутицы, из-за которой западный край степи, нынешняя Украина, дважды в год делается непроходимой. Азиатская степь более надежна в плане передвижения и играет ту же роль, какую в Европе играют великие реки вроде Рейна и Дуная. Именно это позволило ханьскому каравану достичь Ферганы. Фергану лучше всего описать словами самого знаменитого ее уроженца, Бабура, который в XVI в. станет первым императором Индии из династии Великих Моголов:
Фергана – небольшая область, хлеба и плодов там много. Вокруг Ферганы находятся горы; с западной окраины… гор нет; зимой ни с какой стороны, кроме этой, враг не может пройти. Хлеба там много и плоды изобильны, дыни и виноград хороши; во время созревания дынь [из-за обилия] не в обычае продавать их с бахчи, груш лучше андиджанских не бывает. Дичи там много, фазаны неимоверно жирны; рассказывали, будто четыре человека, приступив к фазану с приправой, не могут его прикончить[278][279].Лошадям в Ферганской долине раздолье: климат там сухой и умеренный, трава богата минералами, водные источники, питаемые реками Нарыном и Карадарьей, притоками Сырдарьи, многочисленны. Люцерна там росла (и растет до сих пор) в изобилии[280]. Еще до прихода китайцев персы, македонцы и скифы боролись за власть над этой территорией. Когда огромная китайская армия появилась у стен скифской крепости, китайцы потребовали выдать им потеющих кровью лошадей и получили отказ. Готовый к такому повороту, Ли осадил крепость. Его инженеры отвели реку, снабжавшую скифов водой, и через несколько недель добились их капитуляции. В знак покорности скифские старейшины предали смерти своего вождя и поднесли его голову осаждающим вместе с 30 потеющими кровью лошадьми и 3000 коней попроще[281]. Ли Гуанли с победой вернулся в Чанъань после двухлетнего отсутствия. И снова придворный поэт разразился по этому поводу хвалебными виршами[282]:
Небесные лошади идут
С далекого запада,
Пересекая песчаные дюны.
Варвары покоряются.
Небесные лошади идут,
Рожденные в бурных потоках.
Их спины полосаты, как у тигров,
Меняют направление, как духи.
Небесные лошади идут,
Пересекая пустоши без трав,
Через тысячи верст
По пути на восток.
Кто может совладать с их поворотами и прыжками?
Небесные лошади идут.
Великий момент настал,
Кто даст команду их принять?
Небесные лошади идут,
Открывайте ворота!
Я достигаю гор Куньлунь.
Небесные лошади идут,
Братья священного дракона.
Я достигаю Небесных врат.
Я вижу Нефритовые ступени[283].
5 Шелковый путь, или путь конный
Китай и Индия, 100 г. до н. э. – 500 г. н.э

Знатоки лошадей
Когда в 102 г. до н. э. полководец Ли Гуанли прорвался в Центральную Азию, он наткнулся на старых знакомцев Китая, коневодческий народ юэчжи. За 40 лет до этой встречи они выпасали свои стада на территории современной провинции Ганьсу, недалеко от ханьской столицы Чанъань. «Китай славится числом людей, Рим – своими сокровищами, а юэчжи – лошадьми», – гласила поговорка[286]. Наперекор хунну они осмелились поставлять лошадей напрямую в Хань, где ценилось качество скакунов, которых выращивали юэчжи. Такой шаг ослаблял паутину контроля, которой хунну опутали степь, и грозил подорвать их монополию на торговлю лошадьми. Хунну, которые тогда были на пике своего могущества, ополчились на юэчжей и наказали их со свойственной им жестокостью. Из письма шаньюя «старшему брату», императору Хань, мы узнаем:Благодаря благословению Небес, отличной подготовке воинов и командиров, а также силе наших лошадей наш темник уничтожил и истребил юэчжей. Он полностью обезглавил и убил, завоевал и уничтожил их[287].По старой доброй степной традиции военачальник хунну смастерил кубок из черепа вождя юэчжей. Юэчжам пришлось бежать со своих пастбищ. Около 150 000 человек повели стада в путь длиной в 1500 км к реке Или, которая протекает по территории современного Казахстана. Можно себе представить, каким непростым был этот поход и какое сопротивление оказывали им другие коневоды, чьи пастбища юэчжам пришлось пересечь. Добравшись до Или, юэчжи потерпели еще одно поражение и были вынуждены уйти за реку Окс, на территорию современного Афганистана, преодолев еще 1600 км. Эти миграции растянулись на два поколения и превратили юэчжей в грозную боевую силу, привычную к лишениям и отчаянно ищущую свое место под солнцем. В Северном Афганистане удача им улыбнулась. Они сражались и побеждали не только своих скифских родичей, но и греческие города-государства, оставленные двумя веками ранее Александром Македонским. Юэчжи пасли лошадей на щедрых пастбищах Балха, когда в погоне за потеющими кровью лошадьми туда явилась китайская экспедиция, развернувшая свои знамена под снежными пиками Памира. Юэчжи ухватились за возможность возобновить отношения с китайцами: они испросили и получили право отправлять лошадей в Хань. Признание со стороны Хань и последовавший за ним поток ценных подарков превратили бывших беженцев в силу, с которой приходилось считаться[288].
 Юэчжи в бою. Изображение на Орлатской пластине, I–IV вв. Узбекистан
Юэчжи в бою. Изображение на Орлатской пластине, I–IV вв. Узбекистан
Китайцы, совершившие героический поход длиной в три с лишним тысячи километров, жадно скупали лошадей на замену животным, которых они лишились во время путешествия. Кроме того, чтобы закрепить за собой только что завоеванный Таримский бассейн, Ли оставил там гарнизон, которому тоже регулярно требовались новые лошади. Элитных коней, однако, отправляли в Чанъань по следам потеющих кровью лошадей. И снова Чанъань с восторгом приветствовал их прибытие:
Небесные лошади приходят от [юэчжей]. Их спины полосаты, как у тигров, их кости словно крылья дракона[289].Получив от Китая заверения в поддержке на случай, если хунну захотят отомстить, юэчжи продолжали поставлять лошадей своим новым союзникам, становясь все богаче и могущественнее. На основе этого союза сложились в итоге афганский народ и его исконное занятие – международная торговля лошадьми. Индийские царства по ту сторону Памира скупали лошадей с неменьшей охотой, десятками тысяч ежегодно – столько же или даже больше, чем приобретала Хань. Более того, в отличие от империи Хань, которая однажды разгромила армию юэчжей в краткий период разногласий, в Индии не было государства-гегемона, что открывало перед предприимчивыми коневодами самые широкие возможности для набегов, захвата власти и для торговли[290]. Скифы давно уже мигрировали через Памир в Гилгит и Балтистан, а затем и дальше на юг, в Кашмир и Пенджаб. На петроглифах II и I вв. до н. э., обнаруженных вдоль Каракорумского пути, который соединяет Центральную Азию и Индийский субконтинент и проходит по территории современного Кашмира, изображены жители Центральной Азии, одетые в характерные кафтаны и сапоги и ведущие лошадей через перевал. В этих местах они основывали небольшие индо-скифские царства и постоянно конфликтовали со своими индийскими соседями с юга, о чем нам рассказывает эпос о Рагху. В мирные времена они продавали индийцам лошадей. Как и у китайских, у индийских правителей не было другого выбора, кроме как приобретать лошадей у тех самых пограничных племен, которые им угрожали. С 322 по 185 г. до н. э. Афганистан был под властью могущественных Маурьев, которые монополизировали закупки лошадей у скифов, но к началу I в. до н. э. этой династии и след простыл. Именно тогда один из вождей юэчжей, известный как кушанский ябгу, решил переправиться через Памир – ворота в Индию. На его территории существовали мелкие индо-скифские царства, и кушанский ябгу понял, что, если ему удастся объединить индо-скифов и другие народы Центральной Азии и Афганистана в единое государство, он сможет подмять под себя торговлю лошадьми в Индии – так же как его старые соперники хунну монополизировали торговлю с китайской империей Хань. Кушанские правители, действуя по методичке хунну, объединили коневодов от Таримского бассейна и китайской границы до Пенджаба и Кашмира. Они стали первыми в истории Индии, кто построил на торговле лошадьми огромную империю. Владея знаменитыми пастбищами Ферганы, Балха и Пенджаба, они держали под своим контролем торговлю с Индией, снабжали лошадьми Китай и воевали с иранцами, чтобы не пустить на рынок ни их, ни их превосходных коней[291]. Размах, с которым вели торговлю кушанцы, впечатляет. Со своего капитанского мостика в Гиндукуше они могли поворачивать этот корабль в любом направлении. Их владения лежали на пересечении трех великих цивилизаций – китайской, индийской и иранской – и двух крупнейших рынков лошадей. Зимние столицы кушанов располагались на равнинах Пешавара (современный Пакистан) и в Балхе (Афганистан), на противоположных склонах Гиндукуша. Летом они мигрировали в прохладную Бамианскую долину, где впоследствии были высечены в камне две гигантские статуи Будды: одна 55 м высотой, другая 37 м[292].
Конный путь

Суровые кушаны стали восторженными приверженцами буддизма. И даже религию они переняли в своей неповторимой степной манере. Однажды какие-то кушанские всадники похитили известного индийского поэта. Когда они везли его на север, пленник начал петь лошадям песню. Это была песня о том, как Будда, принц Гаутама, сбежал из своего дворца на коне по имени Кантака и ускакал в лес. Там он отрекся от своей прошлой жизни и попрощался с Кантакой. Конь не вынес разлуки с хозяином и умер от разрыва сердца, но потом возродился в человеческом обличье и стал учеником Будды. Когда поэт закончил декламировать, лошади кушанов прямо у них на глазах, достигнув просветления, превратились в Будд. Кушаны прозвали поэта Асвагхоша, то есть «заклинатель лошадей»[293]. Его стихи, написанные на санскрите, были найдены далеко на севере, в Турфане, в Таримском бассейне, и попали они туда, без всякого сомнения, в кушанских караванах. Правдива эта легенда или нет, но буддизм быстро распространился среди кушанов и их торговых партнеров. Буддизм, с его устоявшимся писанием и относительно несложными богослужебными обрядами, оказался мобильнее религии брахманов и по кушанским торговым путям легко проник в Центральную Азию и Китай. Храм Белой лошади в Лояне, столице поздней империи Хань, был возведен в честь кушанской лошади, которая привезла в Китай буддистские сутры[294]. При всем том влиянии, какое кушаны оказали на мировую религию, до начала ХХ в., когда археологи начали каталогизировать и изучать их изящную эллинистическую резьбу по серому сланцу – наследие их культурного смешения с потомками жителей восточных колоний Александра Великого, мы очень мало знали об этом народе. Будда на выполненных кушанами изображениях одет в искусно задрапированные ткани – то ли индийское дхоти, то ли греческий хитон, но если кушаны изображали самих себя, то только в одежде для верховой езды. Лишенная головы статуя их величайшего правителя, Канишки, предстает перед нами в кафтане, перепоясанном ремнем, и в высоких сапогах для верховой езды. Кажется, будто он вот-вот вскочит коню на спину. Другие правители этой династии гордо чеканили на монетах самих себя верхом на могучих конях: в левой руке поводья, а правая угрожающе опирается на колчан со стрелами – обязательную часть экипировки степного всадника. На фризе, в 1960-х гг. обнаруженном советскими археологами при раскопках Халчаяна в Узбекистане, изображены кушанские воины, очень похожие на казаков Нового времени в их мешковатых шароварах, широкополых черкесках и высоких сапогах[295]. Они то ли празднуют удачную охоту, то ли выпивают перед тем, как сесть в седло. Кушаны, хоть они и строили буддистские ступы и монастыри, никогда не отказывались от кочевого образа жизни; в течение года они мигрировали из долины Инда в Гиндукуш, а затем вниз к Оксу, все время перегоняя туда и обратно табуны лошадей для продажи на индийских и китайских рынках[296]. Заняв центральное место на азиатском конном рынке, кушаны внесли немалый вклад в эволюцию современной лошади. На богатых пастбищах с умеренным климатом, на родине потеющих кровью лошадей, кушаны могли выращивать животных более рослых, сильных и, соответственно, жадных до еды, чем те, на которых они ездили на родине предков, в Ганьсу. Спрос на крупных лошадей возник благодаря широкому использованию в бою конских доспехов[297]. Князья и цари гордились животными, которые могли высоко подымать ноги или опускаться на колени в тщательно продуманных хореографических постановках[298]. Разбойники и искатели приключений ценили стройных, поджарых коней, которые могли вмиг умчать их прочь от опасности. Другим покупателям, например буддийским монахам, отправляющимся в паломничество, требовались лошади, на которых было бы удобно сидеть, с крепкими копытами для поездок по горам и легко переносящие жажду во время путешествий по пустыням[299]. Каких-то из этих качеств можно добиться закаливанием: лошадь, приученная к горам или пустыням, приобретала необходимую выносливость. Но другие, такие как скорость и аллюр, казались загадочно врожденными, хотя и не всегда передавались от родителей потомству. Это наблюдение помогло коневодам эпохи кушанов вывести первые породы лошадей[300]. Одним из важнейших критериев для покупателей был окрас[301]; китайцам нравились серые в яблоках лошади, индийцы не хотели покупать пегих коней, считая эту масть несчастливой. Вырастив несколько поколений лошадей и не давая кровным линиям смешиваться, коневоды обнаружили, что нежелательные окрасы со временем исчезают. Желание получить предсказуемый окрас и подтолкнуло коневодов к выведению разных пород[302]. Высокопородные лошади, как правило, имели однородный окрас, за исключением белых отметин на морде и передних ногах. Для лошадей, которых разводили менее целенаправленно, как и для их диких сородичей, были характерны черные отметины[303]. Масть стала своего рода фирменным знаком и инструментом маркетинга: она позволяла надеяться, что жеребенок, похожий на своего известного отца или мать, унаследует и другие качества родителей. Вероятно, именно в этот период и сложилось представление о лошадиной красоте. Селекционный отбор закрепил педоморфизм – феномен, который наблюдается и у одомашненных собак, – сохранение милых младенческих черт у взрослого животного. Длинные ресницы, округлые щеки и вытянутые носы лошадей ахалтекинской, арабской и английской чистокровной породы – современные примеры этого физического типа, заметно контрастирующие с широкими и притупленными мордами монгольских низкорослых лошадок. Степные селекционеры, так же как производители автомобилей в наши дни, создавали стили, которые ассоциировались у покупателей с желательными чертами, даже если эти черты не служили никакой полезной цели. На самом деле благодаря плоской морде монгольской лошади удобнее щипать траву, чем ее длинноносому кузену-аристократу. Руководствуясь практическими соображениями, кушаны разводили лошадей и для комфортной езды. Иноходь, аллюр, двигаться которым умеют не все лошади, – привлекательная черта, которую коневоды той эпохи смогли сохранить, закрепив единичную случайную мутацию[304]. Смелость, полезная на охоте, на скачках (которые в те времена были скорее контактным видом спорта) и на войне, также требовала селекции. Повышенное внимание к желательным признакам заставило древних селекционеров пускать в разведение только лучших жеребцов, что снизило разнообразие мужских Y-хромосом по сравнению с той их изменчивостью, что была обнаружена при изучении лошадей из ранних захоронений скифов и хунну. Исследования ДНК показывают, что в кушанский период лошадь начала обретать свои современные черты[305]. Поскольку в то время кушаны разводили лошадей для всей Азии, современные гаплоидные группы лошадей восходят как раз к кушанским. Но до последнего времени, когда были открыты гены, отвечающие за конкретные черты, селекция оставалась искусством, а не наукой[306]. Само отсутствие предсказуемости вносило элемент неожиданности во внешний облик и рабочие характеристики незаурядных лошадей. Успех кушанского бизнеса по разведению лошадей вызывал зависть у иранцев. После долгих попыток иранцы все-таки разгромили суровых кушанов, последний правитель которых сгинул через 500 лет после их бегства из Китая. Однако о кушанах не забыли. Арабский историк Аль-Масуди, живший в Х в., называл кушанских царей «вторыми великими знатоками лошадей», а величайшими он считал тюркских каганов, которые правили степью через 100 лет после кушанов. Арабский географ конца XII – начала XIII в. Якут аль-Хамави отмечал, что кушаны были непревзойденными знатоками небесных лошадей драконьей породы. Слава этих коневодов была столь велика, что арабские ученые помнили о кушанах спустя столетия после их исчезновения[307]. Источники на санскрите называют коневодов, живших к северо-востоку от Индии, ашвакаш, что, собственно, и означает «знатоки лошадей». Это по крайней мере одна из возможных этимологий этнонима «афганец», и, по общему мнению, современные афганцы, тоже сыгравшие огромную роль в истории Индии и как продавцы лошадей, и как завоеватели, являются потомками кушанов[308], наследие которых веками сохранялось в караванах, пересекавших Азию.
Караваны
Начиная с эпохи кушанов и вплоть до Нового времени афганцы водили конные караваны из самого сердца Азии к далеким, но охочим до их товара покупателям по 3000-километровому пути, проложенному Ли Гуанли, – в Кашгар, а оттуда к Нефритовым воротам и далее в Китай. Во времена правления могущественных императоров этих путешественников принимали на постой в просторных караван-сараях с бесплатным ночлегом и питанием. В неспокойные времена караванам, чтобы избежать опасностей, связанных с восстаниями и вторжениями, приходилось оперативно реагировать на геополитическую обстановку. Когда в Х в. в Таримском бассейне вспыхнула гражданская война, большой конный караван выслал вперед разведчиков, которые должны были выяснить обстановку на местах; те обнаружили, что следующий по плану привал занят повстанцами, а на запасном пути у них бушует война. Караванщики развернулись и повели животных в обход, через продуваемое всеми ветрами Тибетское нагорье, удлинив свое путешествие в Китай на год[309]. Но эта задержка их не разорила. Товар по пути питался травой и не падал в цене; и более того, опасность войны позволяла рассчитывать на повышение цен. Караваны обладали своего рода политической и экологической устойчивостью – вот почему этот бизнес процветал на протяжении стольких веков. Находчивые продавцы лошадей – коневоды и торговцы одновременно – не упускали и других способов заработать на жизнь. Они могли доставлять не только лошадей и прочий скот, но и другие товары, однако сами караванщики профессиональными купцами не были и чаще приглашали таких купцов присоединиться к караванам, идущим в Индию и Китай[310]. Для перевозки товаров они сдавали им в аренду верблюдов; лошадей в качестве вьючных животных, как правило, не использовали, чтобы не повредить их товарным качествам. Дополнительно торговцы лошадьми взимали с купцов плату за защиту, которую обеспечивало путешествие в составе каравана. Караван мог дать такую защиту благодаря своим внушительным размерам: 5000 человек или даже больше, перегоняющих десяток тысяч лошадей, овец, коз и верблюдов. Вот как уже в ХХ в. описывал одну такую процессию журналист Джозеф Кессель:Их стада исчислялись десятками тысяч голов. Величественные, сильные, гордые, они ехали в полном вооружении… Караван без конца и края вытекал из одного конца долины и медленно, величаво приближался к нам. Стада заполонили дорогу и разлились от горных склонов с одной стороны до реки с другой. Свирепые псы и вооруженные всадники направляли движение этого живого потока[311].Торговцы лошадьми обладали несомненным талантом организовывать и координировать свои огромные процессии. Если сама численность каравана не останавливала вознамерившихся напасть на него, то у караванщиков, как намекает Кессель, были и другие средства защиты. Иногда непросто было отличить караван от военного похода, потому что караванщики были вооружены до зубов. Часовые оставались в седле всю ночь на случай, если грабители попытаются увести животных. В труднопроходимых лесных районах вооруженные местные жители частенько пытались вытрясти из караванщиков деньги за безопасный проход, или ограбить, или все сразу. Даже при кушанах в Гиндукуше орудовали разбойники, осложнявшие жизнь торговцам, идущим через перевалы[312]. В ответ на разбойные нападения караванщики, дабы запугать негостеприимных местных, собирали еще большие и лучше вооруженные караваны. Для торговцев лошадьми они служили школой войны: в ежегодных экспедициях те учились соблюдать военную дисциплину. В грядущих веках это будет иметь роковые последствия для двух стран, куда они водили свои караваны, – для Индии и Китая. Афганцы называли таких торговцев кочи или повинда, что означает «те, кто путешествует»[313]. В отличие от скотоводов-кочевников, которые перегоняли табуны лошадей и стада скота, перемещаясь в течение года между своими обычными пастбищами, эти караваны уходили гораздо дальше: из Центральной Азии они шли в далекие Индию и Китай через пустыню Гоби, Каракорумский перевал или Хайберский проход. В конце долгого путешествия их ждали большие конные ярмарки.
Конные ярмарки
Эти грандиозные ярмарки проходили и в Индии, и в Китае, но различия в политической ситуации придавали им свои особенности. Китайские ярмарки проходили в тени того, что позже станет Великой стеной. Громадные размеры конных караванов и неприятности, которыми они грозили, доставляли Китаю немало головной боли, и императоры один за другим приказывали укреплять северную границу змеящейся линией сооружений из обожженного кирпича, которые должны были служить таможенным барьером и обеспечивать жесткий контроль за прибытием и убытием конных караванов. На случай прямых военных действий ханьцы строили крепости и размещали там солдат. Связав между собой старые заставы, они возвели самую протяженную пограничную стену в мире, даже длиннее нынешней, построенной в XIV в. Стена тянулась от Нефритовых ворот в Ганьсу до корейской границы. Рядом с этой Великой стеной, в местах, где границу можно было пересечь, вырастали конюшни, загоны и постоялые дворы для размещения торговцев лошадьми и их товара. Такие пограничные пункты назывались лошадиными рынками, 馬 市, ma shi. Китайские мандарины проверяли качество лошадей и регулировали их численность, чтобы соблюсти требования различных министерств, в частности военного и транспортного. Из-за того что официальная торговля была крайне забюрократизирована, а по поводу цен и качества постоянно разгорались конфликты – китайцы жаловались, что лошади хилые, а коневоды были недовольны ценами, – император Хань стремился ограничить количество ярмарок[314]. Бывало, коневоды прибегали к угрозам или даже прямому насилию, вымогая у империи Хань дополнительные ярмарки. В отличие от мандаринов, простые жители Китая любили конные ярмарки. Они стекались из внутренних районов страны к границе, селились там и занимались мелкой торговлей: продавали караванщикам огородную зелень, которую высаживали в полустепном климате вместе с хилыми вишневыми и сливовыми деревцами, заставлявшими их с тоской вспоминать о плодородных землях юга. Одновременно сами они приобретали вкус к жареной баранине и даже конине – блюдам, которые и сегодня характерны для северной китайской кухни. Рынки, несмотря на попытки мандаринов навести там порядок, являли глазам пеструю картину: коневоды, купцы из Центральной Азии, буддистские монахи и проповедники других религий вперемешку с китайцами торговались друг с другом за чашкой чая или испускающим пар блюдом из овечьих потрохов. Со временем из этих конных ярмарок вырастали целые города, такие как Датун, где сегодня живет 1,8 млн человек. В Индии, как и в Китае, конные ярмарки в силу высокого спроса на лошадей были популярны на протяжении столетий[315]. Но, поскольку жестко установленной границы с землями коневодов у Индии не было, устраивались они по всему субконтиненту[316] и на общественную и экономическую жизньповлияли сильнее, чем в Китае. Трудно сказать, когда именно эти ярмарки появились в Индии. Но уже в эпоху кушанов встречаются упоминания о большой ярмарке в Хаджипуре в штате Бихар, где однажды проповедовал сам Будда. Самая большая и знаменитая проходила дважды в год в Хардваре, в современном штате Уттаракханд, в месте, где река Ганг стекает с Гималайских гор. Люди, посещавшие ее в раннее Новое время, оставили описания этой ярмарки, вероятно почти не изменившейся с тех пор, как сюда приезжали торговать первые коневоды. На территории площадью в 0,6 кв. км теснились с полмиллиона продавцов и покупателей и десяток тысяч лошадей, не считая верблюдов и другого скота. Афганцы приводили лошадей из Ферганы и с берегов Окса, удовлетворяя потребности покупателей от Бенареса до Бенгалии в транспортных средствах, военной мощи и роскоши. Шум, толпы людей, бодающийся, толкающийся, упирающийся скот, алчные взгляды продавцов и притворное равнодушие покупателей, запахи животных, смешанные с запахом пота клиентов, нервно пересчитывающих деньги, – на посетителя конной ярмарки обрушивалась масса ощущений. Покупая лошадь, приходилось быть начеку, уметь распознать признаки болезни, лошадь, накачанную водой или смазанную бараньим жиром, стараться избегать животных с дурным нравом или краденых. В зависимости от качества лошади цены могли различаться в два, а то и в десять раз. Что же касается элитных коней, если вы интересовались ценой, значит, скорее всего, такая покупка была вам не по карману[317]. Цены на товары на любой крупной торговой бирже представляют интерес, и цены на лошадей не исключение. В первой половине I тыс. обычная лошадь уходила за 70 унций серебра, что в нынешнем эквиваленте составляет примерно 1300 долларов США. Однако тогда за эти деньги можно было купить гораздо больше, чем сегодня. Типичному городскому хозяйству в Индии той эпохи требовалось на жизнь как минимум 42 унции серебра в год[318]. Поэтому можно считать, что лошадь стоила почти вдвое больше того, что большинство людей зарабатывало за год. Элитная лошадь продавалась за сумму, в 20 раз превышающую средний годовой заработок. Такие дорогостоящие покупки приводили в восторг посетителей рынка: они внимательно прислушивались к спорам об условиях на этапе заключения сделки, например о том, вся ли упряжь входит в цену. Объездчики лошадей, выступавшие в качестве агентов разных армий и дворов Индии, прохаживались вокруг, присматриваясь к животным. Каждый прикупал по четыре-пять лошадей или размещал заказ на поставку таких же лошадей следующей весной. Лучших и худших животных объездчики перепродавали, зарабатывая на этом неплохие деньги, а оставшихся передавали в конницу нанимателей. Особо беззастенчивые объездчики умудрялись красть лошадей и сбывать их скупщикам. Головы пойманных за руку воров насаживали на копья и выставляли для всеобщего обозрения, чтобы отбить охоту у других. Знатные ценители разъезжали по ярмарке на слонах, с высоты своего положения рассматривая товар, а за ними вели купленных лошадей или тех, которых они хотели продать. Как и на современных художественных ярмарках, самые ценные экспонаты, например персидских лошадей, покрытых роскошными, расшитыми шелком попонами, держали подальше от посторонних глаз, и чтобы увидеть их, требовалось особое приглашение. Монархи каждый год лично приезжали на ярмарку в Хардвар, чтобы первыми выбрать лучших коней, которых они потом раздаривали своим придворным и родственникам. Именно так королевские дома Индии получали в свое распоряжение великолепных скакунов из Центральной Азии, на которых они позируют на поздних монгольских и раджпутских миниатюрах. Индийцы, будь то простые объездчики или благородные махараджи, торговались редко. Предполагалось, что они сами знают истинную цену каждой лошади. Торг длился от силы несколько минут, прежде чем золотые или серебряные монеты скрепляли сделку. И все-таки элитные лошади не были основным товаром на этих ярмарках – просто потому, что их было не так много. Большинство торговцев зарабатывали себе на жизнь, приобретая тощих лошадок и откармливая их на перепродажу[319]. Они отпускали голодных животных, измученных трудным переходом через Гиндукуш, попастись на воле во время обильного травой весеннего сезона в предгорьях Гималаев, а затем вели их в Хардвар на рынок. Ярмарка привлекала не только продавцов и покупателей лошадей. Со временем проповедники и учителя различных сект начали вербовать в толпе адептов, которые потом совершали ритуальные омовения в священных водах великого Ганга, протекающего неподалеку. Со временем в Хардваре и окрестностях зародился крупный религиозный праздник под названием Кумбха Мела[320]. Влияние конных ярмарок было настолько сильно, что изменило даже духовную карту Индии[321]. Стоило торговцам лошадьми устроить ярмарку у озера Пушкар в пустынном Раджастхане – просто потому, что там хватало места для их бесчисленных стад, – и воды озера стали считаться священными, что дало начало еще одному крупному религиозному празднику. В наши дни Пушкар больше известен как рынок верблюдов, но долгое время он был любимым рынком для помешанных на лошадях раджпутских кланов, которые приобретали там коней, прославивших их как разбойников, воинов и основателей царских домов по всей Центральной Индии. На востоке страны торговцы лошадьми стекались в Хаджипур, в нынешнем штате Бихар, и он, как и Хардвар и Пушкар, тоже стал важным центром паломничества. На большие конные ярмарки приезжали люди со всей Индии; они общались на рынках и совершали омовения в священных водах, пока торговцы лошадьми с севера терпеливо ждали клиентов. Но торговля лошадьми повлияла не только на социальную жизнь Индии – она также кардинально изменила экономику страны, превратив ее из в основном самодостаточной и аграрной в экономику с интенсивным производством, торговлей и экспортом. Объемы торговли лошадьми постоянно росли, и это привело к тому, что около 1000 г. в Индии закончились металлические деньги – золота и серебра в стране добывалось недостаточно[322]. Субконтитент славился драгоценными камнями – сапфирами, рубинами и алмазами, но их было сложно использовать в качестве денежного эквивалента, поскольку для точной оценки стоимости камня требовались специальные знания. В поисках экспортного товара, который позволил бы финансировать импорт лошадей, индийские государства занялись производством тканей в грандиозных для того времени масштабах. Таким образом, торговля лошадьми стала катализатором ранней, но масштабной индустриальной революции в Индии, начавшейся в XI и XII вв. Кроме того, торговля лошадьми стимулировала не только промышленность Индии, но и торговые связи. Индийцы не могли сбывать свою тонкую муслиновую ткань торговцам лошадьми – почти прозрачные платья, которые шились из этой ткани, были без надобности женщинам в холодной степи. Решением стала трехсторонняя торговля: ткани продавали кхмерам в Камбоджу и раджам Явы и Бали, а они платили за них серебром, необходимым индийцам для импорта лошадей. В Индии, как и в Китае, конные ярмарки на протяжении веков оставались важнейшими экономическими и социальными институтами. Они оставили свой след в ландшафте в виде городов и мест поклонения, которые сохранились до наших дней. Они изменили источники заработка и образ жизни людей. И в этом нет ничего удивительного, ведь торговля лошадьми была крупнейшим бизнесом той эпохи. Но сегодня об этом забывают – или, скорее, неверно это интерпретируют.Шелковый путь
Афганцев, перегонявших через Памирские горы в Чанъань превосходных коней, предназначенных Сыну Неба – китайскому монарху, в конце путешествия ожидало щедрое вознаграждение. С особым удовольствием они брали у китайцев шелковые ткани. Официальные шелковые облачения, которые на многих азиатских языках (и на русском тоже) называются халатами, переходили из рук в руки в рамках любого дипломатического или торгового обмена[323]. Существует несколько объяснений любви степных народов к одежде из тонкого шелка. Во-первых, они верили, что шелк отпугивает кровососущих насекомых, в первую очередь блох[324]. Тому, кто проводит дни и ночи в тесном контакте с животными, нелишне иметь шелковое исподнее и спать на шелке. Коневоды также считали, что шелк не дает инфицироваться ранам, полученным в бою, и поэтому его носили воины. Принято считать, что вся торговля в Азии крутилась вокруг шелка[325] с того самого момента, когда Ли Гуанли прибыл в Фергану. Помимо заключения союза с кушанами, он тогда установил дипломатические отношения с иранцами и греками, и теперь, впервые в истории, курьер, преодолев путь длиной в 8000 км, мог попасть из ханьской столицы Чанъань в Антиохию (Антакью, город в современной Турции) на берегу Средиземного моря. Согласно общепринятой интерпретации, китайцы искали выход через Внутреннюю Азию к Средиземноморью, чтобы отправлять на эти далекие рынки караваны с предметами роскоши – прежде всего шелком[326]. Однако то количество шелка, которое Китай мог продать народам Запада, никогда не оправдало бы титанических усилий ханьцев по содержанию огромного гарнизона в Таримском бассейне, за три с лишним тысячи километров от столицы Чанъани[327]. Разряженные в шелка проводники караванов очень удивились бы, узнав, что они следуют по Шелковому пути. Эти люди, каждую весну пересекавшие Азию по пути в Хардвар и к Великой стене, перегонявшие по тысяче лошадей за раз и десятками тысяч в год, скорее назвали бы эту дорогу не Шелковым путем, а Конным[328]. И в самом деле, стратегическим товаром той эпохи и основной причиной китайской экспансии в Таримский бассейн были лошади. Мы знаем, что в I в. до н. э. Китай отчаянно нуждался в лошадях. Втянувшись в 130-летнее противостояние с хунну, которые недостатка в лошадях не испытывали, китайцы искали альтернативных источников ремонтных[329] лошадей в далеких краях, на щедрых пастбищах современных Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Ирана. И хотя многие считают, что Шелковый путь проторил Ли Гуанли, когда вел свою экспедицию в Центральную Азию, стоит помнить, что полководец отправился в поход за лошадьми, а не для того, чтобы продавать шелк. Несомненно, через Центральную Азию пролегали дороги торговцев шелком, фарфором и множеством других товаров, а также маршруты буддистских миссионеров и паломников, создававших потрясающие пещерные храмы, украшающие путь от Западного Китая до Восточной Индии. Центральная Азия превратилась в огромный базар, где купцы торговались, сговариваясь о ценах на перебродившее кобылье молоко, мед, музыкальные и плотницкие инструменты, шерстяные ковры, материал для строительства юрт, меха, которыми подбивали шелковые халаты, и клей, сделанный из копыт, однако большая часть этих товаров предназначалась для местного потребления[330]. Лошадей же регулярно перегоняли на дальние расстояния. Несомненно, в любом караване в седельных сумках торговцев лошадьми лежала всякая всячина, которая стоила много, а весила мало, а между горбами верблюдов-бактрианов, которые следовали за лошадьми, перевозились товары потяжелее. И хотя китайцы охотно покупали на западе янтарь и ладан, императоры часто не одобряли импорта предметов роскоши и приказывали торговцам привозить больше лошадей и меньше нестратегических товаров. Предметы роскоши перемещались по миру прицепом к этой жизненно важной торговле[331]. Самую значительную долю товарооборота Шелкового пути составляли лошади: как по стоимости – из-за высоких цен, которые за них давали, – так и по объему продаж, особенно в военные времена. Ученые подсчитали, что династия, правившая Китаем в эпоху Тан с 618 по 907 г., тратила на импорт лошадей 10% государственного бюджета[332]. Индийские князья ввозили с севера не менее 70 000 лошадей в год, что согласуется с размером индийской конницы, который в источниках того времени оценивается в 200 000–300 000 всадников. Хотя в этих источниках не приводится каких-то суммарных цифр бюджета, если принять среднюю цену лошади в ту эпоху равной 70 унциям серебра, то ежегодный импорт, даже с учетом поправки на большую покупательную способность серебряных денег в прошлом, составит сумму, эквивалентную 4–5 млрд современных долларов США. Ни один другой товар не занимал такой большой доли рынка. При этом торговля лошадьми не ограничивалась одними только караванами дальнего следования, идущими по сухопутному Шелковому пути, – лошадей перевозили и морем. В этом случае китайские суда выходили из портов не с шелком, но с другим эксклюзивным и везде востребованным китайским товаром – фарфором. Муссонные ветры несли китайские и южноазиатские джонки, нагруженные дорогими и тщательно упакованными керамическими изделиями, из Ханчжоу и Кантона навстречу восторженным покупателям Индии, Ирана и даже Европы. В обратный путь в Кантон или Ханчжоу эти бесстрашные торговцы, сновавшие со своим ценным грузом по всему Индийскому океану, отправлялись груженные лошадьми. Морская торговля давала возможность продавать своих лошадей на восток иранцам и арабам: сухопутные торговые пути им преграждали народы, населявшие Афганистан. Афганцы, кстати, и морской торговлей не пренебрегали. Китайские тексты сообщают, что «кушаны переправляли лошадей из Бенгалии в Камбоджу, а оттуда в Китай»[333]. Рассказы средневековых путешественников, ходивших по Шелковому пути, питают нашу иллюзию о процветавшей международной торговле предметами роскоши, но только потому, что большинство из тех, кто оставил описания своих странствий, были дипломатами, а не купцами[334]. Их действительно отправляли из Константинополя в Монголию или из Чанъани в Индию с дорогими подарками для местных правителей. На такие путешествия уходило по два с лишним года. К караванам присоединялись купцы, привлеченные защитой, которую давали верительные грамоты дипломатов. Они занимались мелочной или розничной торговлей, то есть покупали на местных рынках и продавали дальше по пути. Дипломаты тоже приторговывали на стороне, и только официальные подарки проходили весь путь от места отправления до своих далеких царственных получателей – при этом даже дипломатические миссии почти всегда брали с собой дорогих лошадей. Очень немногие купцы ездили на большие расстояния самостоятельно, вне официальных делегаций. Это подтверждается отсутствием нумизматических свидетельств; археологи, например, не находят иранских монет дальше таких рубежных стран, как современный Афганистан или Таджикистан[335]. Китайские монеты в Центральной Азии тоже редки – и вот тут-то на сцену выходит шелк. Вплоть до XVI в., когда серебро хлынуло из испанских рудников Нового Света, китайцам не хватало серебра для чеканки монет[336]. Вместо денежной стоимости товарам присваивали цену в шелке, который поставлялся отрезами размером 50 × 20 см[337]. Согласно некоторым уцелевшим записям, за девушку-рабыню на пограничных рынках IX в. давали шесть отрезов шелка; лошадь стоила восемнадцать. То, что стоимость лошади была выше стоимости рабыни, говорит само за себя, но цена, возможно, зависела от спроса и предложения. Во время войн в рабах недостатка не было, и цена на них падала, а лошадей становилось меньше, и они, соответственно, дорожали. Известен случай, когда продавец выторговал за одну лошадь 40 шелковых отрезов[338]. Китайцы поддерживали впечатление, будто обмениваются со степняками лошадьми и шелком как взаимными дарами, но соотношение даров определяли мандарины. Жалованье китайским солдатам и степным наемникам на границе тоже выплачивали отрезами шелка, перевозить который было проще прочих товаров. Шелк, служивший валютой, был не особо высокого качества, но, как и любое законное платежное средство, он позволял коневодам покупать на пограничных рынках необходимые им товары. По оценкам, соотношение шелка, используемого в качестве денег, и шелка, из которого шили одежду, составляло десять к одному[339]. В общем, купцы, доставлявшие морем шелк из Китая в Рим, отнюдь не были центром этой экономической системы. Более того, если торговля шелком и велась, то ее направление часто было обратным тому, каким его представляет популярная история Шелкового пути. Конечно, шелк открыли в Китае и шелкоткачество придумали там же. Но уже к VI в. секрет шелкоткачества перестал быть монополией Китая[340]. После этого и в Риме, и в Иране стали производить отличный шелк, и более того, иранская парча – узорчатый шелк тонкой работы, важная часть торговли предметами роскоши, – поставлялась из Ирана в Китай[341]. Когда эмиссары из степи предлагали римлянам VI в. шелк на продажу, те демонстрировали им свои цветущие тутовые сады – шелкопряды питаются исключительно листьями тутового дерева, – чтобы показать, что они в их товаре не нуждаются[342]. Я не предлагаю избавиться от удивительно выразительного названия «Шелковый путь». Оно напоминает нам об открытиях археологов начала ХХ в., которые возродили к жизни историю древних караванов, пересекавших Азию. Они первыми обнаружили тюки шелка, спрятанные в давно заброшенных монастырях и трактирах или зарытые в песок. Теперь мы понимаем, что шелк служил валютой и что и сама дорога, и эта валюта обслуживали торговлю лошадьми. Эта торговля приобрела такие масштабы, что поддерживать ее было непросто даже такому богатому государству, как Китай. Ему, как и индийским царствам, приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы накопить достаточно ходового товара, которым можно было бы оплачивать покупку десятков тысяч лошадей ежегодно. Постоянно растущая потребность в шелке заставляла производителей выпускать на рынок ткань худшего качества. Естественно, торговцы лошадьми воспротивились и стали требовать за каждую лошадь больше дешевой ткани, и дело дошло до того, что к IX и X вв. Китай уже с трудом справлялся с производством такого количества шелка[343]. В попытках найти ему альтернативу китайцы переключились на чай, преимущество которого, с точки зрения продавца, заключалось в том, что расходовался он быстрее, чем изнашивался шелк, и позволял быстрее нарастить предложение, чем тутовые деревья и тутовый шелкопряд[344]. Чайными кустами вскоре засадили все холмы в провинциях Фуцзянь и Юньнань. Торговцы лошадьми, коротавшие зимы в холодных палатках, по достоинству оценили этот согревающий и бодрящий напиток. Китайцы научились прессовать чай в виде лепешек, на которые, в подтверждение качества, можно было ставить клеймо[345]. Чаем расплачивались за лошадей вплоть до середины ХХ в., когда караваны с этим товаром все еще ходили из Юньнани в Тибет, где чай обменивали на выносливых гималайских лошадок[346]. Как и в Индии, торговля лошадьми в Китае продолжалась очень долго, на века изменив политическую карту страны и ее рынки. У лошадей и шелка больше общего, чем может показаться, и притязаниями на название торгового пути дело не ограничивается. В зависимости от качества и то и другое может быть как товаром, так и предметом роскоши. Десятки тысяч лошадей, ежегодно преодолевавших Хайберский перевал, и тюки дешевых китайских шелковых денег – примеры лошадей и шелка как товара. Дорогими лошадьми афганцы торговали, как другие купцы – дорогими шелковыми тканями. Однако богатые дворы оседлых государств ценили элитных лошадей не только за практическую пользу, но и за даруемое ими эстетическое удовольствие. Лошадь, преобразившая политику и экономику, преобразила и культуру, воплотив в себе не только грубую, но и «мягкую» силу.6 Лошадиная мания
Китай, тюрки и весь мир, 500–1100 гг

Танский император учит лошадь танцевать
Элитные лошади из Афганистана и Центральной Азии поступали в китайские императорские конюшни не только для того, чтобы крепить боевую мощь государства. Седьмой правитель империи Тан Сюань-цзун, правивший с 713 по 756 г., прославился тем, что учил коней танцевать[347]. Он часами наблюдал за их упражнениями. Лошади, в свою очередь, так его любили, что бросали на него ревнивые взгляды из стойла, когда он проезжал мимо на другом коне. В лошадином кордебалете выступало больше сотни четвероногих, а в постановке спектаклей принимали участие не только конюхи и тренеры, но и музыканты: представления, которые проходили в парадном дворе императорского дворца по таким поводам, как день рождения монарха, сопровождались музыкальными композициями, написанными специально по случаю[348]. Лошади выходили, сверкая шитыми золотом и серебром попонами, в гривы их были вплетены жемчуга и нефрит; конюхи давали им кубки с вином: лошади держали их во рту, а затем ставили на землю перед зрителями[349]. Нельзя было даже припомнить ничего столь же великолепного, как эти конные представления, которые к тому же были гораздо большим, чем просто шоу. Лошадь из обычного животноводческого или военного ресурса, средства завоевания богатства и власти, превратилась в мощный символ этой самой власти. Сохранив свою древнюю роль связующего звена с духовным миром, она вдохновляла теперь и светских художников и поэтов. Эта динамика достигла пика в эпоху Тан, когда увлечение лошадьми не имело себе равных в истории Китая и, может быть, всего мира. Вместе со своими степными соперниками, а иногда и союзниками небесными тюрками (гёк-тюрками) китайцы подняли лошадь, искусство верховой езды и связанную с ними символику на новый уровень, причем в масштабах всего континента. Пока воины, дипломаты и купцы боролись за обладание лошадьми, стремясь обеспечить себе силу, которую мы сегодня называем «жесткой», аристократы и художники использовали лошадь как силу «мягкую», формируя устойчивые культурные нормы. Оба этих занятия аккомпанировали взлету и падению империй Тан и небесных тюрков, подготовив почву для того, чтобы в следующую тысячу лет в Азии как в политическом, так и в культурном плане господствовали лошади и их всадники. Ни одна императорская династия в Азии не уделяла столько внимания коннице, которая к тому времени стала важнейшим родом войск, сколько уделяли ей танские правители[350]. Официальная история династии зафиксировала общее мнение в словах старого вояки эпохи Хань Ма Юаня: «Лошади – оружие государства. Если Небо отнимет это оружие, государство окажется под угрозой гибели»[351]. На пике могущества Тан китайская конница превышала размерами все, что были до нее. В императорских племенных хозяйствах и конюшнях содержались 700 000 лошадей: военное, логистическое и бюрократическое достижение масштаба, сравнимого разве что с космической гонкой или кораблестроением в Америке в годы Второй мировой войны. Преследуя свою амбициозную цель, империя Тан подчинила себе степь, о чем ни одна из предыдущих китайских династий не смела и мечтать. Поначалу Тан соперничали за степь и нехотя делили власть над ней со своими соседями, небесными тюрками. Этот коневодческий народ в V в. сменил хунну в качестве основного поставщика лошадей в Китай. Он стал называть себя в честь огромного неба, под которым пас свои стада и которому поклонялся[352]. Как и хунну, гёк-тюрки правили большой степной империей, простиравшейся на запад до самого Аральского моря. Их огромная конница помогла первому императору Тан прийти к власти в 618 г., в один из тех неспокойных периодов, что время от времени прерывали преемственность китайских династий. Сам танский клан по материнской линии происходил из тюрков. Сначала, в обмен на военную поддержку, тюрки потребовали, чтобы новый император присягнул на верность их кагану, или хану ханов. Второй правитель империи Тан, Тай-цзун, пришедший к власти в 626 г., объединил Китай и использовал свои новые возможности, чтобы взять реванш над тюрками, которые теперь были вынуждены признать его каганом степи. В первый, но не в последний раз император Китая присоединил к своим владениям значительную часть бескрайних степных просторов. Тай-цзун наслаждался ролью кагана и тем образом жизни, который он предполагал. Она давала ему повод вырваться из дворца и отправиться на встречу с союзниками-тюрками. Он страстно любил охотиться верхом; мандарины на такое занятие смотрели с сомнением, но император оправдывал его необходимостью поддерживать себя и своих всадников в состоянии боевой готовности. «Времена, – говорил он, – сейчас и вправду мирные, но о подготовке к войне забывать нельзя»[353]. Гражданские придворные его развлечений не одобряли. Они засыпали императора докладными записками, где напоминали о времени, потраченном на охоту, осторожно укоряли его за подражание тюркам и утверждали, что охота вредит крестьянам, чьи посевы топчут верховые. Тай-цзун возражал: «Я охочусь со своими приближенными в наших собственных владениях, так что мы не причиняем вреда крестьянам. В чем проблема?» На самом деле проблема заключалась в том, что конная охота мешала императору заниматься государственными делами, ведь его министры и придворные евнухи не готовы были рисковать головой, участвуя в императорских забавах. Занедужившая главная жена императора на смертном одре умоляла его бросить охоту, и он без всякого желания согласился[354]. Однако внимание Тай-цзуна к конной мощи государства никогда не ослабевало.Китай выходит в степь

Тай-цзун завоевал и умиротворил обширные пространства за Великой стеной, принадлежавшие его бывшим союзникам тюркам. Лошадей можно было разводить и в Китае, но экономически это было менее выгодно; к тому же крестьяне, которым вечно не хватало земли, постоянно покушались на пастбища. Огромная конница нужна была Тан для того, чтобы захватывать степные пространства по ту сторону Великой стены. Земля эта, в свою очередь, нужна была для того, чтобы прокормить конницу. Чтобы компенсировать боевые и естественные потери, войску требовалось ежегодно обновлять 15% поголовья лошадей, а это 90 000 новых животных в год. Поэтому император основал в северо-западных областях, в сегодняшних провинциях Шэньси, Хэбэй и Ганьсу, 58 племенных хозяйств. В каждом племенном хозяйстве на 1200 га пастбищ содержалось до 3000 лошадей. Вместе эти конные заводы, вероятно, обеспечивали от 40 000 до 50 000 ремонтных лошадей в год[355]. Торговля с тюрками удовлетворяла оставшиеся потребности: животных выращивали 34 разных тюркских племени, причем каждая лошадь помечалась тамгой, или тавром клана, которому принадлежала[356]. Степные лошади регистрировались на границе, и тех, кто препятствовал их передаче государству, сурово наказывали. Помимо земли, империя Тан нуждалась в умелых конюхах. Китайцы так и не узнали о лошадях достаточно, чтобы разводить их в нужном количестве, приучать к седлу и тренировать. Из хроник поздних династий, прибегавших к услугам китайских конюхов, мы знаем, что племенные хозяйства, полагавшиеся на местных, никогда не выполняли разнарядок на поставку подходящих лошадей. По этой причине в империи Тан брали на работу конюхов-тюрков. В императорских конюшнях трудилось более 5000 человек, а штат каждого племенного хозяйства составлял от 500 до 700 человек. Считается, что в этот период в Китай иммигрировало более миллиона тюрков – либо в качестве конюхов, либо в качестве наемных солдат[357]. Китайцы, как и индийцы, в стойлах особенно нервных жеребцов держали обезьян. Но, в отличие от Индии, они делали это не для того, чтобы у лошади был компаньон. Китайцам казалось, что бородатые выходцы из Центральной Азии сами похожи на обезьян и что в окружении волосатых приматов лошади будут чувствовать себя как дома. На бесчисленных керамических статуэтках эпохи Тан изображены конюхи с кустистыми бровями, длинными усами и бородами; выглядят они и мрачно, и комично. Но, как мы еще увидим, именно они будут смеяться последними. Конюхи играли важную роль в сохранении конной силы Тан. Эти мужчины росли в седле, и им можно было доверить самых ценных лошадей. Некоторые из них изначально были военнопленными или рабами, но, привлеченные их знаниями о лошадях и умением держаться в седле, китайские вельможи нанимали их в качестве эскорта для своих процессий, а иногда и продвигали на важные должности при своих дворах. В императорских племенных хозяйствах эти конюхи выполняли работы, требовавшие особых знаний, в том числе оценивали лошадей и помечали их специальными клеймами в соответствии с потенциалом. В возрасте двух лет самые перспективные жеребята получали клеймо fei, 飛, «летающий конь». После приучения к седлу конюхи обучали их и наносили дополнительные клейма на различные части тела животных, подтверждающие, что лошади готовы отправиться в войска[358]. Конюхи Тан запасали корма на зиму и держали лошадей в стойлах, что предотвращало чудовищные зимние потери молодняка, обычные для степных коневодов. Неограниченные ресурсы Тан и тюркские знания и опыт позволяли выращивать превосходных коней в беспрецедентных масштабах. После того как конюхи производили оценку, племенные хозяйства распределяли лошадей согласно государственным нуждам. Лучшие лошади, помеченные знаком дракона, отправлялись прямиком в императорские конюшни. Следующие по качеству шли в конницу на замену выбывшим. Лошади средней категории поступали на почтовую службу, а на обычных лошадях ездили гражданские служащие. Самые ценные лошади, полученные в подарок от тюркских ханов, и «летающие кони» из племенных хозяйств содержались в конюшнях лошадей-драконов в императорском дворце Тан в Чанъани. Конюшни лошадей-драконов делились на шесть загонов, и у каждого было свое название, например: «Летающие кони правого крыла», «Летающие кони левого крыла», «Левые десять тысяч» и «Правые десять тысяч» – номенклатура, которая со времен Хань стала только вычурнее. Несмотря на эти многообещающие названия, общее число животных во дворце никогда не превышало 10 000, и тем не менее количество превосходных лошадей, собранных в одном месте и находящихся в распоряжении императора, впечатляет[359]. Такая разветвленная система со множеством исполнителей требовала жесткой дисциплины и фанатичного внимания к деталям. Простые рабочие племенных хозяйств испытывали большой соблазн продавать на сторону фураж или закрывать глаза на кражу животных соседями-тюрками. Чтобы противостоять конокрадству, было введено следующее правило: сообщая о гибели лошади, работники конюшен должны были показать проверяющим ее тушу. Наказания были суровыми – император Тай-цзун держал свои конные заводы в крепкой узде. Узнав, что призовой жеребец, привезенный из Ферганы при его предшественнике, пропал, он приказал прочесать всю страну и найти его. Говорят, что коня отыскали на мельнице, где он с завязанными глазами ходил по кругу и приводил в движение жернова. Император приказал вернуть жеребца в императорские конюшни, где от него родилось пять жеребят «тысячи ли»[360]. Внимание Тай-цзуна к мельчайшим деталям позволяло ему содержать 700 000 лошадей – сравните с сотней тысяч при его предшественниках и с тремя сотнями тысяч при его не таких выдающихся преемниках. Эта конная мощь, в свою очередь, обеспечивала Тан господство над степными народами и позволяла Китаю жить в мире.
 Любимый боевой конь императора Тай-цзуна. Мавзолей Чжао Лин, VII в. Шэньси
Любимый боевой конь императора Тай-цзуна. Мавзолей Чжао Лин, VII в. Шэньси
Тай-цзун приказал построить великолепный мавзолей, в который, когда придет время, должны были положить его бренные останки, и украсил его шестью барельефами с изображениями реальных лошадей[361] в натуральную величину[362]. Такие барельефы необычны для Китая, но напоминают резные изображения лошадей в древней иранской столице Персеполе. (Возможно, что оформлять мавзолей помогали резчики из Ирана, ведь в нем были похоронены и иранские князья, состоявшие на службе у Тай-цзуна.) Завещание императора гласило: «Поскольку эти боевые кони несли меня в каждом сражении против вражеских линий и спасали от опасности, их истинные обличья должны быть вырезаны в камне и помещены слева и справа от моей могилы». Три лошади изображены летящими в галопе, их копыта не касаются земли. Четыре лошади пронзены стрелами в тех местах, куда были ранены в бою их живые прототипы. Масть у всех отличается: гнедая, соловая, чубарая, пегая, вороная, кирпично-красная – и каждая лошадь носит гордое имя, часто степного происхождения, например: Текин, Ишвар (и то и другое означает «князь»), Шад («владыка»). Изображения были настолько реалистичными, что посетителям казалось, будто лошади вот-вот чудесным образом оживут[363]. Гривы этих лошадей выстрижены зубцами, а хвосты подвязаны, как это было принято у степняков. Интересно, что здесь перед нами ранний пример использования стремян – это простые металлические кольца, подвешенные к седлу. Во времена Тай-цзуна лошадь уже была вполне достойна того, чтобы на ней сидел император; в ту эпоху всадники экспериментировали с новыми способами посадки и совершенствовали навыки верховой езды.
Искусство верховой езды
Эпоха конфликтов между китайцами, тюрками, скифами и хунну, предшествовавшая долгому миру эпохи Тан, стала временем значительного усовершенствования техники ведения конного боя. Объездчики лошадей и командиры конницы внимательно присматривались к новшествам в сфере верховой езды, независимо от того, приходили они с востока или с запада, от врагов или от друзей. Странствующие витязи перемещались между дворцом императора Тан и шатрами ханов, двором иранского шаха и хоромами императора Византии, совершенствуя свое мастерство, щеголяя нарядной амуницией и участвуя в конных состязаниях[364]. Чтобы облегчить длительные путешествия верхом и обеспечить себе удобство ведения боя, всадники усовершенствовали седло. Считается, что каркасное седло изобрели тюрки[365]. Оно состояло из деревянной рамы, опирающейся на спину лошади по обе стороны от позвоночника и призванной распределять вес всадника не вертикально, а по бокам коня и на большее количество его позвонков. Каркасное седло обеспечивало всаднику больший комфорт и надежность посадки и заменило скифское седло – по сути, простую подушку. Седельщики дополнили переднюю часть жесткого седла передней лукой, а заднюю – задней, и на свет появилось тюркско-монгольское седло характерной ковшеобразной формы[366][367]. Жесткое седло позволяло сидящему в нем человеку свободнее двигать корпусом, потому что обеспечивало надежную опору для бедер спереди и для копчика сзади. С этого времени кавалеристы постепенно начали вооружаться характерными кривыми саблями, которыми сподручнее рубить врага в ближнем бою: это оружие заменило короткий колющий меч древности. Заодно они отказались от метательного копья, которое редко можно было использовать больше одного раза, в пользу пики, позволявшей перенести на нее вес тела так, чтобы тебя при этом не выбило из седла. Позолоченное седло в тюркском стиле, возможно, киданьское, XII–XIII вв.
Позолоченное седло в тюркском стиле, возможно, киданьское, XII–XIII вв.
Жесткое каркасное седло способствовало распространению стремян, которые появились, вероятно, в V в. Ученые спорят, когда всадники впервые стали использовать этот предмет снаряжения и где его изобрели. Сегодня без стремян в седло не садятся, но в древности всадники просто хватались за гриву лошади и вскакивали ей на спину. В полном боевом доспехе сделать это затруднительно, не говоря уже о том, чтобы взгромоздиться на коня с обязательным мечом, неудобной пикой, увесистой булавой, луком и колчаном со стрелами. Поначалу забраться в седло тяжеловооруженному воину помогали конюхи. Затем в моду вошли одинарные стремена, облегчавшие посадку, а со временем всадники поняли, что два стремени позволяют им с комфортом преодолевать большие расстояния. Как и с любым изобретением, некоторые всадники не горели охотой приделывать к седлу стремена. (Невезучие ездоки знают, что свалиться с лошади, застряв одной ногой в стремени, может быть очень опасно.) Надежных свидетельств, которые позволили бы установить, когда появились и с какой скоростью распространялись стремена, у нас немного, поскольку первые из них, вероятно, были вырезаны из недолговечного дерева, а не выкованы из железа. Таким образом, этот переход мог растянуться надолго, начавшись в конце эпохи скифов и хунну в III в. и закончившись с возвышением тюрков в V в. В Европу стремена попали в VIII в. с вторжением степняков в западную степь и на Венгерские равнины. Тогда-то константинопольские императоры и восточноевропейские князья и познакомились со степными народами – скифами, аварами, тюрками, которых они часто использовали в качестве наемников или наемных войск[368]. Характерные для степи захоронения с жертвенными лошадьми и сбруей были обнаружены на территории России, Украины, Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Степной стиль верховой езды и ведения войны пользовался популярностью не только в Китае, но и во всей Восточной Европе[369]. Однако в некоторых других отношениях верховая езда в тот период не была похожа на современную. Тюрки, как правило, не подковывали своих лошадей, поскольку в естественной среде обитания их копыта не нуждались в защите. Подковы стали использовать позже, во время войн, чтобы защитить лошадей от шипованных препятствий, разбросанных противником[370]. Шпоры у азиатских наездников тоже не пользовались популярностью: чтобы подать лошади сигнал к совершению маневра, всадники использовали плеть. Боевые кони в то время часто носили защитные доспехи, иногда из твердой кожи, реже – из металлических пластин, а чаще всего это были простые войлочные фартуки. Но даже они обеспечивали некоторую защиту от стрел, для которых лошадь всегда была легкой мишенью. Некоторые из любимых коней императора Тай-цзуна получили по шесть-семь ранений стрелами. После боя такую защиту можно было свернуть и положить впереди седла. Конская амуниция сама по себе была произведением искусства: чепраки шились из парчи; стремена и шанфроны (защита для головы) изготавливались из гильошированного или черненого металла; седла украшали лазуритом и бирюзой. Танская, тюркская и иранская тяжелая кавалерия представляла собой великолепное зрелище. Похожих конных воинов можно увидеть на стенах расположенного в пригороде Самарканда археологического памятника VII в. – дворца Афрасиаба, названного так по имени легендарного правителя тюрков. Там изображены тюрки, которые в то время находились на пике могущества и принимали посольства из Китая, Индии и Ирана. Наемники, дипломаты, заложники[371] и торговцы лошадьми и впрямь нередко перемещались из одного конца степи в другой и повсюду могли рассчитывать на стандартный протокол приема гостей, участвовать в ритуальном обмене подарками и в спортивных играх – что неудивительно, конных: скачках, охоте, поло и стрельбе из лука. Пирующие всадники со стен дворца Афрасиаба заставляют вспомнить литературных героев своей эпохи: Люй Бу из «Записей о трех царствах», Тариэла из «Витязя в тигровой шкуре», Давида Сасунского из одноименного армянского эпоса, Дигениса Акрита из византийской эпической поэмы и Сиявуша из «Шахнаме». Все эти витязи ездили на славных лошадях, наделенных магическими способностями: Люй Бу на Красном Зайце, Давид на коне по имени Куркик Джалали, Сиявуш на Шабранге[372]. И все они были лихими наездниками и странствовали от двора ко двору в поисках подвигов и приключений[373]. В реальной жизни, как и в эпосах, герои демонстрировали свое умение ездить верхом и учтивые манеры, играя в поло[374]. В «Жизнеописании святого Кардага», созданном в IV в., иранский шах приглашает многообещающего молодого игрока сразиться с ним в поло. Его прекрасное телосложение и умение держаться в седле вызывают одобрение шаха и придворных. После того как Кардаг выигрывает один чаккер (период или тайм), шах назначает его наместником провинции[375][376]. Сиявуш из «Шахнаме», скитаясь в изгнании, получает приглашение от тюркского кагана Афрасиаба показать свое умение играть в поло. Сиявуш тактично предлагает сыграть на стороне тюрков, а не против них, но Афрасиаб на эту уловку не ведется: «Я слыхал, что клюшке в твоих руках нет равных». Герои собирают команды и выезжают на поле. Афрасиаб посылает мяч в воздух; Сиявуш перехватывает его на лету и отбивает еще выше. Страсть к игре раззадоривает иранцев, и Сиявушу приходится призвать свою команду к порядку, закричав на персидском: «Эта игра, а не поле боя. Пусть тюрки владеют мячом»[377]. Он понимает, как опасно было бы обыграть хозяев. После игры иранские скитальцы еще несколько месяцев наслаждаются гостеприимством тюрков. Игра в поло – самый яркий пример общей конной культуры эпохи странствующих витязей. Никто не может точно сказать, где зародилась эта игра, поскольку она, скорее всего, уходит корнями в традиционные конноспортивные игры, в которые испокон веку играли степные народы, вроде сегодняшних бузкаши, кокпар или кок-бору. Считается, что царским развлечением – а заодно исвоего рода боевой подготовкой – игру в поло сделали иранцы. Вплоть до Нового времени участники соревнований не ездили на специально выведенных для поло пони, но играли на тех же самых мощных животных, на которых сражались. Эти лошади были не менее – если не более – грозными соперниками, чем сами игроки. Игра распространилась по всей Азии, когда витязи странствовали по миру в поисках удачи. О повсеместной популярности поло свидетельствует количество игровых полей, сведения о которых дошли до наших дней. Один из тюркских каганов построил поле в Кашгаре и проводил там публичные игры. Константинопольский император разместил поле для игры в поло прямо перед своим дворцом, в том месте, где сегодня «Восточный экспресс» въезжает на железнодорожную станцию Сиркеджи в Стамбуле[378]. Багдадский халиф аль-Махди оборудовал поле для игры у городских Белых ворот: его гулямы (тюркские солдаты-рабы) совершенствовались в игре, а восторженная безлошадная публика с энтузиазмом за ними наблюдала. Одно из легендарных царских полей для поло мы можем посетить и сегодня: это площадь Шаха в Исфахане[379], одна из прекраснейших городских площадей в мире, по обеим сторонам которой до сих пор стоят мраморные штанги ворот. Но самое впечатляющее поле для игры в поло построили, естественно, в империи Тан – оно располагалось прямо внутри дворцового комплекса. Стены, говорится в одном из его описаний, были затянуты атласом, а само поле, покрытое песком с яичной смесью и отполированное, было ровным, гладким и блестящим, как зеркало. Игру поощряли и Тай-цзун, и Сюань-цзун. На стенах гробницы танского принца Чжанхуая мы до сих пор можем рассмотреть танских игроков в поло: лошади, легкие и проворные, изображены словно бы в полете[380]. Игроки, числом двадцать, одеты в униформу и шапочки; в руках у них клюшки, похожие на клюшки для лякросса с ударной частью в форме полумесяца. Ворота на этом поле находились на расстоянии 100 шагов [76 м] друг от друга. Как и сегодняшних элитных спортсменов, всадников отбирали для игры богатые спонсоры. Считается, что в Китай игру принесли странствующие иранские игроки вроде легендарного Сиявуша. Придворные дамы – при помощи предупредительных тюркских конюхов – тоже научились играть в поло, но власти рекомендовали женщинам выезжать на поле на осликах, а не на лошадях, чтобы снизить риск серьезных травм[381]. И в самом деле, в этом виде спорта ни травмы, ни даже смерти не были редкостью. Когда в 844 г. в результате несчастного случая на поле погиб любимый игрок императора У-цзуна, тот приказал обезглавить всех остальных игроков – опасности подстерегали спортсменов буквально со всех сторон. Позже император Тай-цзун из династии Цзинь[382] использовал жестокие игры в поло, чтобы маскировать убийства своих политических противников[383]. Неудивительно, что гражданские члены правительства критиковали игру, как раньше критиковали охоту. Такая игра, как поло, требует от лошади тщательной подготовки. Для начала коневодам нужно отобрать самых перспективных молодых жеребчиков и кобылок – животных, которые проявляют интеллект и эмпатию. Такая лошадь не уклоняется от опасностей, с которыми сталкивается всадник, предвидит угрозы, которые тот может не заметить, и везет седока куда ему нужно – и в гущу боя, и прочь из него. Натренированная лошадь запросто меняет ногу (переключаясь с левой передней ноги на правую или наоборот) и может мгновенно изменить направление, не теряя равновесия и не сбрасывая седока. На манеже, закрытой тренировочной площадке, лошадей заставляют отрабатывать движение по кругу или восьмерку. Лошади должны научиться ходить строем, где каждое животное шагает с одной и той же ноги и поддерживает нужный уровень концентрации, чтобы вся группа могла одновременно повернуть в одном направлении. Игру в поло без тренировки не выиграть, а в сражении конница без необходимой дисциплины быстро становится опасной не столько для врага, сколько для самой себя. Несмотря на то что витязи из разных стран охотно обменивались знаниями, разные школы верховой езды отражали уникальный характер каждой из коневодческих культур. Степные народы – тюрки, а позже монголы – давали своим лошадям некоторую свободу и позволяли им зимой и летом привольно пастись в открытой степи. Тюрки поощряли жеребят к дисциплине, а не принуждали их. Монголы, напротив, объезжали двухлетних жеребят жестко, но эффективно: они выдергивали ошарашенных животных из табуна при помощи аркана, вскакивали им на спину, не оседлывая, и загоняли до изнеможения. Объездив лошадь, и тюркские, и монгольские всадники управляли ею при помощи голоса и рук, подавая сигналы через поводья или плетку, которой монголы пользовались свободно. Они, как и современные жокеи, опирались на короткие стремена и ездили, согнув ноги в коленях – так, чтобы не касаться ногами боков лошади и не подавать ей ложных сигналов[384]. Целью была скорость и только скорость. Их лошади не бегали ни рысью, ни иноходью, поэтому переходы в 50 или даже 80 км в день совершались галопом, по два часа за раз, а всадники приподнимались в седле, чтобы их не кидало во все стороны, словно мячик на веревочке[385]. Степные лошади поддерживали форму, постоянно участвуя в скачках и охотах – такой подход к верховой езде подходил народам, буквально жившим в седле, где каждый мужчина был воином и где нельзя было позволить себе вкладывать слишком много средств в коня, который мог и не пережить суровую зиму. Оседлые народы, например иранцы, всю зиму досыта кормили лошадей сеном. В результате иранские лошади были сильнее и норовистее. Иранские жеребцы требовали более длительного периода обучения, чем степные мерины, и большего мастерства от всадника. Чтобы подчинить себе животное, иранским всадникам приходилось проявлять недюжинную силу и ловкость. Они низко сидели в седле и управляли лошадью всем своим телом, не исключая ног. Это обеспечивало им пространство для маневра в ближнем бою, когда враги нападали со всех сторон. Иранцы, гордившиеся своей продвинутой техникой, как правило, свысока смотрели на небрежный степной стиль езды. Китайцы следовали тюркскому стилю, индийцы – иранскому. Еще одна коневодческая школа сложилась в Аравии, где лошадь играла в повседневной жизни человека совсем другую роль. Аравийский полуостров – естественная среда обитания верблюда. Именно это животное служило бедуинам в массированных атаках и схватках один на один. Лошадь, напротив, была редким и очень желанным приобретением. Бедуины не стали бы рисковать своими драгоценными лошадьми в открытом бою: на кобылах, которые ценились за скорость и бесшумность, они ходили в ночные рейды. Как писал в Х в. арабский поэт и искатель приключений аль-Мутанабби о набегах, в которых участвовал, «спутники мои – ночь, конь и копье»[386]. Арабских лошадей холили, словно избалованных детей, кормили деликатесами со стола хозяина и часто устраивали на ночь прямо в шатре всадника, чтобы уберечь от опасностей и холода. Так у арабских лошадей выработалась сильная потребность в общении, которая прочно привязывает нынешних представителей породы к владельцам. Арабская лошадь, которую использовали только для коротких рывков во время набегов, и сегодня славится своими спринтерскими способностями[387]. Когда лошадь не нападает, а спасается бегством, в ней пробуждаются естественные инстинкты, что делает ее непобедимой на коротких дистанциях. Именно эта черта спустя столетия заинтересовала европейских любителей скачек. Но в ту эпоху на любовь помешанных на лошадях аристократов претендовали не только арабские кобылы. Как-то раз в XI в. многонациональная компания любителей лошадей со знанием дела обсуждала в Дамаске достоинства и недостатки различных пород[388]. Одни хвалили степных тюркских меринов. Другие превозносили выдрессированных иранских жеребцов. Третьи восхищались избалованными арабскими кобылами. Победили в споре тюрки – об этом нам рассказывает история, записанная аристократом и любителем лошадей Мубараком Касимом Занги[389]. Однажды какой-то тюркский бек привез в подарок багдадскому халифу лошадь из-за Памира[390]. Придворные сочли ее до невозможности уродливой, но витязь рассказал, что это горная лошадь, чью мать оставили стреноженной у горячего источника. Из этого источника вышел свирепый жеребец, который покрыл кобылу и зачал это полудикое животное с серой шерстью, черной полосой на спине и черно-белыми полосками на голенях. Способом появления на свет это животное напоминало лошадей-драконов из древних легенд. Несмотря на такую чудесную родословную, халиф принял подарок с плохо скрытой снисходительностью. Желая продемонстрировать истинную ценность коня, неугомонный бек предложил устроить скачки. Халиф милостиво согласился. Тюрк понимал мудрость, заключенную в поговорке букмекеров horses for courses[391], поэтому он ловко выбрал такую дистанцию, которая позволила бы его лошади показать себя во всей красе. В ночь перед состязанием четвероногих участников увезли на расстояние 15 лиг, или 70 км, от Багдада. Такая длинная дистанция давала значительное преимущество лошади, выросшей в степи. Гонка началась с рассветом, и еще до того, как были прочитаны утренние молитвы, тюркская лошадь пересекла финишную черту. Затем она снова стартовала и преодолела еще 15 лиг. Арабские лошади халифа пришли к финишу только после полудня, а иранские лошади, как пошутил один остряк, завершали гонку словно лошади шахматные: наездникам приходилось толкать их перед собой. Халиф был настолько впечатлен степной лошадью, что приказал тюркскому беку вернуться на Памир и раздобыть для него побольше таких животных. Позже халиф попросил Хизама ал-Хуттали, сына главного тюркского конюшего, собрать в один трактат все, что известно о тюркских, персидских и арабских лошадях; тот так и сделал, написав книгу под названием «О лошадях и ветеринарной науке», которая сохранила большую часть знаний своей эпохи для многих поколений любителей лошадей в арабоязычном мире[392]. При багдадском дворе искусство верховой езды ценилось высоко. Даже само слово, обозначающее его в классическом арабском языке, siyasat,
 со временем стало значить «политика», поскольку езда на лошади – как метафорически, так и буквально – имела прямое отношение к государственным делам[393].
Однако сколь умело и искусно ни овладевали бы турки, китайцы, иранцы и арабы верховой ездой, древнее ощущение, что лошади не полностью принадлежат нашему миру, никуда не девалось.
со временем стало значить «политика», поскольку езда на лошади – как метафорически, так и буквально – имела прямое отношение к государственным делам[393].
Однако сколь умело и искусно ни овладевали бы турки, китайцы, иранцы и арабы верховой ездой, древнее ощущение, что лошади не полностью принадлежат нашему миру, никуда не девалось.
Мир невидимого
Как мы уже убедились, отношения человека и лошади не похожи на его отношения с другими животными. Собаки слишком послушны, чтобы вызывать у нас столь же сложные эмоции, какие вызывает лошадь; к собакам мы привыкли. Они живут с нами вместе и становятся просто членами семьи. Лошадь же одновременно и некто близкий, и некто «другой». Лошадь непредсказуема. Лошадь нуждается в пространстве. Выбрать хорошую лошадь гораздо труднее, чем хорошую собаку. Сила лошади, ее стойкость, выносливость, ум, послушание и красота – все это тайны, которые нам хочется разгадать. Выбор лошади и ее объездка связывают всадника и коня особыми отношениями. В культурных традициях как степных, так и оседлых народов запечатлены многочисленные свидетельства нашей глубокой взаимной привязанности. Это путешествие начинается на глубоком эмоциональном уровне и ведет нас в царство духовного и непознанного. Путешествие началось, как только люди, взобравшись лошади на спину, на себе испытали ее скорость. Скачка на быстроногом коне – самое близкое к полету ощущение, доступное нашим предкам. Хорошая лошадь мчится со скоростью 40 км/ч. Отличная лошадь может за час покрыть расстояние в 70 км. Турецкий бард Дадалоглу воспевает этот культ скорости[394]:Конь навострил уши и смотрит долгим взглядом,
Словно селезень, что скользит по озерной глади;
Он встряхивает гривой, и пряди разбегаются, как антилопы.
Он быстр, как горный поток, – конь, достойный героя[395].
В храме груди моей
Мой разум, конь летит как ветер.
Галопом скачет по равнинам высшего блаженства.
Коли будет он усерден, достигнет состояния Победоносного Будды.
Оседлав эту лошадь, человек обретает высшее просветление[398].
В конце концов лошадь стала олицетворять время и природу не только для ханов и султанов, но и для простых людей. Лошадь, как и вся природа, подчиняется круговороту времен года и течению лет. Кобылы жеребятся весной или летом, когда в изобилии растет трава. Затем, сухой зимой, лошади выживают, питаясь кореньями и кустарником[404]. Китайцы, афганцы и степные народы придерживаются 12-летнего зодиакального календаря, согласно законам которого год Лошади оказывает сильное влияние на климат и на людей. Из-за того что лошадям нравится холодная погода, год Лошади предвещает суровую зиму, а так как лошадь тесно связана с войной, ее год предвещает конфликты. Дети, рожденные в год Лошади, всю жизнь проведут в движении – на войне, на охоте или в путешествиях. Рожденные в первые шесть месяцев года станут, подобно лошади, спутниками царей, красивыми, смелыми и умными. Рожденные во вторую половину года вырастут упрямыми и вспыльчивыми[405]. Бесчисленные поколения рождались и жили под знаком лошади.
Эти эмоциональные, часто бессознательные ассоциации между всадником и лошадью породили веру в то, что лошадь – существо сверхъестественное, что она – посредник в общении с богами. Самой важной и постоянной ролью лошади было перенесение героя в мир иной. Древние тюрки возводили лошадей на погребальные костры усопших; так же поступали и скифы, и Ахилл в «Илиаде». Путешественник XIV в. Ибн Баттута писал о погребальных обычаях тюрков, принявших ислам за 500 лет до этого:
Затем принесли убитого хана, вырыли для него под землей большую могилу, где расстелили красивейшую циновку и положили на нее хана с его оружием. Туда же поместили все золотые и серебряные сосуды, которые были у него в доме, четырех рабынь и шестерых его любимых мамлюков, а еще несколько сосудов с напитками. Затем их там закрыли и насыпали сверху земли высотой с большой холм. Потом привели четырех лошадей, которых закололи прямо на холме, пока в них не прекратилось всякое движение; после этого в заднюю часть животного вогнали деревянный кол, так, чтобы он вышел у шеи, и воткнули кол в землю, оставив насаженных на колья лошадей на вершине холма[406].Тюрки в Анатолии продолжали хоронить героев вместе с их лошадьми вплоть до XIV в. Позднее, когда строгие исламские догмы уже не поощряли подобных обрядов, за похоронной процессией монарха вели его коня с седлом, обращенным назад, – традиция, которую переняли и народы Запада, о чем свидетельствуют похоронные кортежи американских президентов Линкольна и Кеннеди[407]. В степи еще более вычурные обряды жертвоприношений сохранялись до середины XIX в. До недавнего времени тюрки Центральной Азии прикрепляли хвост принесенной в жертву лошади к столбу, установленному на могиле покойного; эти столбы можно увидеть и сегодня[408]. Лошадь занимала огромное место в воображении жителей империи Тан и их современников. От неба над головой до вод подземного мира, от отдельного человека до государства, от возведения на престол до погребения – лошадь символизировала путешествие по жизни. Поэтому люди, почитавшие лошадь, прилагали все усилия, чтобы уловить саму ее суть.
Уловить суть
Степному народу было особенно важно понимать лошадей. Лошадь давала степнякам средства к существованию, была фамильной гордостью и залогом политического выживания. Они не сомневались, что знают об этих животных больше оседлых людей. Но даже в степи встречались те, которые разбирались в лошадях лучше прочих. Так появилась профессия сынчи: эти знатоки обладали почти сверхъестественным чутьем на лошадей. Взглянув на жеребенка, они могли определить его возраст, происхождение и то, вырастет ли он иноходцем или победителем в скачках; они могли предсказать качества жеребенка, когда он был еще в утробе матери. Один знаменитый сынчи сколотил состояние, за бесценок скупая лошадей со скрытыми талантами и превращая их в чемпионов[409]. Другой сынчи купил жеребенка, которого вели на убой, и сделал из него призового скакуна. Еще одна сынчи шесть лет готовила боевого коня для своего супруга. Однажды товарищи позвали его на войну. Они спросили жену, готова ли лошадь батыра; та отвечала: «Передайте моему султану [мужу], лошадь будет готова только через сорок три дня», и они отложили свой поход ровно на это время[410]. Степные эксперты знали о лошадях все. Китайцы по-своему пытались уловить суть лошади. Они следовали традиции Бо Ле, согласно которой внешний облик лошади нужно было понимать как баланс сил инь и ян: «На худой лошади должна быть видна плоть, на толстой – кости». В том, как они оценивали форму тела животного, есть что-то от платоновского эссенциализма: «У лучшей лошади кости квадратные, словно выструганные плотником, – там, где они должны быть квадратными; а там, где они должны быть круглыми, – они круглые, словно сделанные на гончарном круге»[411]. Вслед за Бо Ле художники эпохи Тан стремились изобразить эту динамику тушью на бумаге или шелке[412]. Портрет боевого коня Сюань-цзуна по имени «Сияние Ночи», выполненный придворным художником Хань Ганем, странно искажен – так автор пытался запечатлеть на двухмерной поверхности те качества, которые ценились в лошади. Хань подчеркивает округлость плеч и бедер коня, и вокруг этих идеализированных форм выстраивается весь силуэт. Детали тоже не отступают от идеала, каким его представлял себе Бо Ле: уши торчком, глаза сияют, глазницы круглые сверху и плавно изогнутые снизу, морда сверху квадратная, снизу округлая. Шедевр Ханя копировался несчетное количество раз и послужил образцом для множества художников, что рисовали лошадей после него[413]. В отличие от европейских портретистов более поздних веков, художники эпохи Тан изображали в основном лошадей, а не всадников на лошадях. Они стремились не прославить седока, но проникнуть в суть самого животного. «Те, кто хорошо разбираются в изображениях лошадей, обращают внимание на внутреннюю суть и мышечную силу изображенного, – писал Лю Даочунь, живший в XI в. знаток лошадей и признанный художественный критик. – Если внутренняя суть совершенна, то появляется чувство, а если мышечная сила крепка, то появляется мощь, и начинаться все должно со рта, глаз, носа, ушей, копыт и суставов». Целью художника, так же как и автора барельефов лошадей, украшавших мавзолей Тай-цзуна, было создать нечто, что – будь магия достаточно сильной – могло бы ожить. Знаменитый портрет «Сияния Ночи» кисти Хань Ганя, около 750 г.
Знаменитый портрет «Сияния Ночи» кисти Хань Ганя, около 750 г.
Вообще, что необычно для этого периода, художники рисовали с натуры. Только быстросохнущие мазки кисти китайского художника могли передать на шелке и бумаге живость движений лошади. Ду Фу, величайший из поэтов эпохи Тан, в стихотворной форме поведал, как рисовал ее некий полководец Цао:
У покойного императора был небесный конь,
Пегий Цветок Нефрита.
Перед императорским троном,
Перед дворцом,
Возвышаясь до небес, он позировал вам.
Присутствующий император, улыбаясь,
Наполнил ваши ладони золотом.
Главный конюх и стража дворца уныло на это взирали.
Ваш ученик, Хань Гань,
Отточил свой талант
В рисовании лошадей
Замечательной внешности.
Но Хань рисовал только мышцы,
А вы рисовали суть.
Разве можно позволить такому прекрасному коню
Сгинуть без следа?
Полководец, вы прекрасно рисуете,
Поводья выпадают из рук
Правители эпохи Тан убаюкали себя мыслью, что все угрозы, исходившие от неспокойной степи, остались в прошлом и что Китай, держа в узде степных коневодов, будет отныне жить спокойно. Но на самом деле жили они на вулкане, поскольку китайский двор был под завязку набит тюрками, чья лояльность вызывала сомнения. Тюркские ханы тоже наслаждались долгими десятилетиями мирного сосуществования. Они вели роскошную жизнь, занятые выездкой лошадей и придворными состязаниями, и постепенно отдалялись от своевольных пастухов, своих соплеменников. Но осторожные голоса из степи предупреждали, что не стоит бездумно предаваться удовольствиям, которыми манил Китай[417]. Они подозревали, что империя Тан превратила гламур в оружие, средство ослабить степных вождей и отвлечь их от набегов на Китай или заговоров против него. И вместо того, чтобы угрожать Китаю извне, тюрки принялись интриговать изнутри. В 755 г., когда Сюань-цзун, правивший дольше всех прочих императоров Тан, полагал, что жизнь его так прекрасна, что лучше уже и быть не может, и наслаждался амурными утехами в своем Дворце долголетия, его собственный главный конюший, Ань Лушань, поднял мятеж[418]. По происхождению Ань Лушань был наполовину тюрком, наполовину иранцем, одним из тех чужеземных конюхов, что продвинулись по службе до высокого военного чина. После долгих ожесточенных боев Тан удалось подавить восстание. Поговаривали, что шесть лошадей давно покойного императора Тай-цзуна чудесным образом появились на поле боя и разгромили мятежников – стражи мавзолея Тай-цзуна даже рассказывали, что видели, как статуи шести лошадей потели и с трудом переводили дух. Но к этому моменту даже чудо не могло спасти династию Тан. Подавив восстание, Тан вынуждены были уйти из степи, бросив там чуть ли не все свои 58 племенных хозяйств. Отчаявшись раздобыть ремонтных лошадей в нужном количестве, они принялись покупать их в кредит у далеких коневодческих племен[419]. Последовавшее за этим банкротство окончательно подкосило и китайскую династию, и их степных союзников, а соперничающие конные державы погрузили Северный Китай в анархию. Повернувшись к степи спиной, преемники Тан бросили все силы на то, чтобы восстановить империю. Танцующих лошадей распределили по пограничным военным частям, на подмогу обычным боевым коням. Узнать их, однако, можно было – при звуках военной музыки они так и норовили пуститься в пляс[420]. Потрясения, вызванные падением Тан, прокатились по всей Азии. Тибетцы спустились со своих морозных плато и заняли в Центральной Азии место, оставленное отступившими китайцами. Другие племена степных коневодов, потеряв огромный танский рынок, на котором они предлагали свои услуги, либо устремились вглубь Китая в поисках покупателей и добычи, либо, спасаясь от тибетцев, подались на запад пытать счастья в Индии, Иране, Анатолии и Восточной Европе. Они искали новые земли, чтобы грабить, новые царства, чтобы править, и новые рынки, чтобы торговать.7 В погоне за властью
Евразия, 900–1200 гг

Нешуточное развлечение
В результате потрясений, последовавших за крушением империи Тан, коневодческие народы лишились и прибыльных рынков, и протекции. Хуже того, пастбища предков пришлось уступить конкурентам. И тогда в поисках лучшей доли одни отправились вглубь Китая, другие подались на запад. Куда бы они ни шли, они охотились. Даже если в вынужденном изгнании коневоды лишались своих стад, лошади, сколько бы их ни оставалось, позволяли им продержаться еще несколько месяцев, охотясь на быстроногих антилоп и онагров, которые десятками тысяч паслись в степи. Решая, куда двигаться дальше, всадники принимали во внимание не только наличие травы, но и обилие дичи. И даже когда их странствия заканчивались, охотиться они не переставали. Охотиться опаснее, чем пасти скот. Крупные животные – лоси и медведи – могли броситься на преследователей. Кошачьи хищники – тигры и львы, прячущиеся в высокой траве, прыгали на спины неосторожных лошадей. Опасности конной охоты укрепляли связь лошади и седока. Не менее прочные связи возникали и между охотниками, и охота становилась их страстью. Герои «Книги деда Коркута», тюркского степного эпоса, датируемого Х в., ни о чем другом и не думали. «Выслушайте мое слово, беки! – говорит один из них. – От долгого лежания заболел наш бок; от долгого стояния иссох наш стан. Пойдемте, беки, устроим охоту, станем поднимать птиц, станем поражать ланей и диких коз»[421][422]. Чем дольше охота, тем она лучше. Поэтому те джигиты отправились на семидневную охоту. В другом месте говорится, что, когда 360 храбрых мужей отправлялись на охоту, они уходили на долгие месяцы[423]. Они могли себе это позволить, потому что жизнью лагеря заправляли женщины и дети, которые присматривали за стадами, шесть раз в день доили кобыл, принимали жеребят и холостили жеребцов[424]. Мужчинам заняться было нечем – это отметил и Марко Поло, посетивший степь в XIII в.[425] Собираясь на большую охоту, местный хан посылал вперед людей, чтобы те подготовили место для лагеря на берегу реки или в лесу, где пряталась дичь. Охотничьи угодья могли находиться в нескольких днях пути от дома, поэтому с собой мужчины брали шатры, где могли укрыться. Добравшись до места, одни ставили их на высоких шестах, другие готовили котлы и вертела в расчете на будущую добычу. Перебродившее кобылье молоко и красное вино, а также чистую холодную воду для питья охотники привозили с собой в кувшинах. Чем тщательней готовились к охоте и чем больше охотников откликалось на приглашение, тем большей славой покрывал себя организовавший охоту хан. Вставали охотники с рассветом, и впереди их ждал целый день в седле. «Книга деда Коркута» описывает невероятной красоты пейзаж, раскидывавшийся перед ними, с горами «темными, с прекрасными склонами». Всадникам и лошадям кружили головы запахи диких цветов, распускающихся под первыми лучами солнца. Когда солнце поднималось высоко, охотники принимались выслеживать дичь, и мирная тишина взрывалась лавиной звуков. Собаки, почуяв запах добычи, заходились бешеным лаем. Всадники, ослепленные пылью, поднятой лошадиными копытами, во всю мочь скакали вслед за псами. Чтобы сберечь стрелы и похвалиться скоростью своих коней, охотники часто ловили добычу при помощи аркана. Герой «Книги деда Коркута» Бекиль ловил козлов, набрасывая им на шею свой лук. Если животное оказывалось слишком тощим, он довольствовался тем, что проделывал ему отверстие в ухе, чтобы товарищи знали, что это Бекиль его поймал. Если же козел был жирным, он перерезал ему горло, перекидывал через седло и вез в лагерь[426]. Бывало, что богатые ханы охотились с прирученными гепардами, которые послушно сидели на крупе лошади позади всадника. Большие кошки и лошади – извечные враги, но охотничьи кони научились не бояться кошачьих. Заметив добычу, гепард соскакивал с чепрака и мчался по степи за антилопой или онагром. Лошадь, несущая охотника, следовала за ним, впечатывая копыта в землю. Поэт Асади Туси сравнивал гепардов, атакующих антилоп, с разбойниками, нападающими на караван[427]. Охота с гепардами сочетала в себе азарт погони за добычей и бешеной скачки с препятствиями. Кроме гончих псов и больших кошек, всадники брали с собой на охоту великолепных соколов, которые гордо восседали у них на предплечьях, защищенных толстыми рукавами от жесткого хвата хищной птицы. С соколами охотились на перелетных гусей – непростую цель даже для самых зорких лучников[428]. Но крупные хищные птицы могли добыть для своего хозяина даже антилопу. Охота на крупную и опасную дичь была делом рискованным, однако всадников это не останавливало. «Не всегда на шакала охотник, поверь, набредет, а иной угодит прямо к хищному тигру в живот», – писал Саади Ширази[429][430]. Особенно опасным, но желанным трофеем был лось-самец. В брачный период это могучее животное обзаводится целым гаремом самок, а жуткий рев, который он издает, разносится на многие километры вокруг. Охотник подъезжал поближе к лосю, прикрываясь лосиной головой, и имитировал брачный призыв самца, приводя того в ярость. Быстрый и мощный, с огромными рогами, лось бросался в атаку и мог убить охотника, если тот не успевал быстро и точно нацелить свой лук. Охотники научились уходить от нападения и, развернувшись назад в седле, выпускать стрелы в преследующее их животное. Сохраняя дистанцию между собой и целью, всадник получал шанс завалить зверя. Этот же прием, применяемый в бою, назывался «парфянским выстрелом». Выражение заставляет вспомнить о древнем иранском царстве и его войнах с Римом, но выстрел назад практиковался всеми степными народами и был смертельно опасен для тех, в кого они целились, – будь то зверь или человек. На закате охотничий отряд чистил лошадей и укрывал их попонами, чтобы защитить от вечерней прохлады. У костров, откинувшись на разноцветные подушки, охотники освежались кумысом или красным вином и угощались тушеным или жареным мясом и птицей. Певец развлекал компанию балладами о славных охотах прошлого. Согласно традиционному степному эпосу, охота – это место, где начинаются приключения и злоключения, в том числе из-за вспыхнувших там же ссор. В истории из «Книги деда Коркута» завистливый хан восстанавливает против себя Бекиля, задаваясь вслух вопросом: «Эта доблесть от коня ли, от воина ли?» Присутствующие отвечают: «От воина, хан мой». Но хан настаивает на обратном: «Нет, если бы конь не трудился, воин бы не гордился; доблесть от коня»[431]. Оскорбленный Бекиль отказался служить хану. Ссоры перерастали в кровную месть, и соперники, прикрываясь охотой, убивали друг друга, списывая смерти на нападение диких зверей[432]. Немало охотников лишились жизни таким образом. Неверные жены строили козни против своих супругов, пока те были на охоте; враги клана, воспользовавшись затянувшимся отсутствием мужчин, воровали скот и похищали женщин, оставшихся его охранять. Эти истории, рассказанные певцами, служили предупреждением для ханов и беков – советом держать свою зависть в узде. Устраивая охоты, местный хан мог обзавестись целой армией сторонников[433]. Он оказывал гостеприимство приглашенным, заботился о том, чтобы на охоте им достались лучшие места, откуда они могли бы сделать удачный выстрел и записать на свой счет самую желанную добычу. Со временем такой амбициозный лидер начинал соперничать с другими. Его охоты становились все масштабнее, в них участвовало до 3000 и даже 5000 всадников[434]. Важному хану, от которого зависели тысячи разбросанных по степи домохозяйств, большая охота давала возможность побрататься со своими сторонниками. Ханы регулярно устраивали охоты в разных концах своих владений, чтобы укрепить личные связи с подданными[435]. Подобно тому как охота помогала сблизить всадника и лошадь, так и дальновидный вождь посредством охоты мог привязать всадников к своему знамени. Будучи одновременно внешним символом власти и полезным механизмом скрепления союзов, охота представляла собой нечто большее, чем простая возможность покрасоваться или обычное спортивное состязание. Охота помогала великим вождям строить огромные степные империи.Империя охотников
Шелковые свитки, фрески и картины художников северной школы, живописующих пасторальный уклад жизни, сохранили для нас и сцены охот, которым предавались кидани – степной народ Х в., обитавший на территории современной Монголии. Официальная история киданей не противоречит этим наглядным свидетельствам многолюдных охот, на которых славные ханы бравировали умением держаться в седле и стрелять из лука. Танские придворные, как мы помним, к охоте относились с неприязнью, но у киданьских ханов свита состояла исключительно из таких же страстных охотников, как они сами[436]. И хотя до нас не дошло ни одного киданьского эпоса, похожего на тюркскую «Книгу деда Коркута», исторические записи киданей полны сведений об охоте и ее правилах. Киданьские сказители тоже, должно быть, воспевали героику охоты. Их народ сформировался на основе охоты и сохранял себя благодаря ей. Китайские императоры эпохи Тан знали киданей как народ охотников и коневодов, который десятками тысяч в год поставлял лошадей этой помешанной на них династии, пребывавшей в VIII в. на пике своего могущества[437]. Великолепные киданьские кони так нравились танским покровителям киданей, что они озолотились на торговле лошадьми. В знак признания своих заслуг киданьские ханы получали от китайцев подарки и звучные титулы. Кроме того, они стали понимать, как работает танское государство и где у него слабые места. Когда, подкошенная мятежом и банкротством, империя Тан развалилась, торговле лошадьми пришел конец. Связи между Сынами Неба и ханами распались, власть ханов над простыми коневодами ослабла, и киданьские кланы принялись искать свое собственное место под солнцем[438]. Киданьский охотник, преследующий добычу. Автор (предположительно) Хуан Цзундао, около 1120 г.
Киданьский охотник, преследующий добычу. Автор (предположительно) Хуан Цзундао, около 1120 г.
В 907 г. мелкий киданьский вождь по имени Абаоцзи, воспользовавшись воцарившимся хаосом, добился своего избрания верховным ханом, или каганом. Он прославился тем, что якобы убил настоящего дракона, чей диковинный скелет некоторое время украшал ханский шатер, а затем был утерян[439]. Наконец Абаоцзи дождался своего часа. Следуя давнему обычаю киданей, он пригласил остальных ханов отпраздновать его возвышение прекрасно организованной охотой. Можно представить, о чем Абаоцзи беседовал с другими ханами на вечерних посиделках у костра. Как теперь вождям, лишившимся танских щедрот, обеспечивать себе верность простых коневодов? Китай захлестнула анархия, и кто, если не кидани, погреет теперь руки на набегах и завоеваниях? Абаоцзи взял быка за рога. Он объявил себя императором, чего не осмеливались сделать ни хуннский шаньюй, ни тюркский каган. Сначала он привлек на свою сторону 300 000 всадников, потом 500 000 и, наконец, миллион. Число сторонников нового императора росло как снежный ком вместе с его военным успехом: под его знаменастекались коневоды, жаждавшие богатой добычи. В степях Внутренней Монголии он возвел обнесенный стеной город и дал ему громкое имя Хуанду, или Императорская столица. Сразу за городской стеной он разбил обширный сад, где водрузил пять флагов пяти основных цветов геомантии: черный, соответствующий элементу «вода» и стороне света «север», белый, обозначающий «запад» и «металл», желтый – «земля» и «центр», красный – «огонь» и «юг», и синий – «восток» и «трава»[440]. В этом саду император охотился. Но амбиции Абаоцзи простирались далеко за пределы его охотничьих угодий. Охоты, которые устраивал Абаоцзи, позволяли всадникам оттачивать боевые навыки и готовиться к завоеваниям, ведь тактики, которые применялись на охоте и в бою, были очень похожи. На войне, как и на охоте, просто мчаться во весь опор за добычей – или за врагом – не самая лучшая затея. Животные – олени, онагры или дикие лошади – бегают так же быстро, как и охотничья лошадь, и могут ее обогнать, поскольку так же хорошо приспособлены к выживанию в степи. Степным охотникам приходилось прибегать к безжалостной хитрости, чтобы поймать свою быстроногую добычу.
 Знамена киданьского хана, символизирующие силы геомантии. Из поэмы «18 песен флейты кочевника». Неизвестный художник, начало XV в.
Знамена киданьского хана, символизирующие силы геомантии. Из поэмы «18 песен флейты кочевника». Неизвестный художник, начало XV в.
Всадники образовывали вокруг намеченной добычи широкую, неглубокую дугу. Потом они медленно ехали вперед, по возможности заставляя пасущуюся дичь смещаться в сторону препятствия – оврага или обрыва. Приближаясь к жертве, они углубляли дугу и осторожно, чтобы не спугнуть добычу, продвигались вперед. И только когда они оказывались совсем близко, так близко, что животные начинали беспокоиться, учуяв лошадей, собак и людей, охотники замыкали круг. Жертва со всех ног бросалась прочь, но убежать было уже невозможно. Ловушка захлопывалась[441]. Обычно охотники давали парочке четвероногих из нее выбраться – для того, чтобы обмануть остальных и внушить им чувство ложной безопасности, а также в качестве акта символического милосердия. Этот маневр иногда называют монгольским словом «нерге», но западные авторы в таких случаях чаще говорят о загонной охоте, или облаве. Название может ввести в заблуждение, поскольку в Европе загонщики передвигаются пешком. В степных загонных охотах, напротив, участвуют тысячи быстрых конных охотников, что, соответственно, требует гораздо большей степени организации, чем простая пешая облава[442]. Загонная охота – это не просто хитроумный маневр, это еще и упражнение в самодисциплине, требующее как контроля над лошадью, так и психологического доминирования над жертвой. Чтобы фланги действовали организованно и скоординировано, каждый охотник должен идти в ногу с товарищами и сдерживать порыв вырваться вперед, несмотря на азарт погони. Лошади тоже возбуждаются, почуяв добычу, и, если их не сдерживать, могут запросто сорваться в галоп. Психологический элемент загонной охоты объясняет, почему степные армии использовали эту тактику не только для того, чтобы окружить врага, но и для того, чтобы лишить его присутствия духа и перестрелять всех по одному. Степные армии окружали противника, осыпая его с расстояния роем стрел и оставляя ему все меньше пространства для маневра. Окруженный неприятель, чьи ряды уже были расстроены, вдруг видел, как позади размыкается круг. Всадники на самых быстрых конях бросались в сторону выхода в надежде ускользнуть из захлопывающейся ловушки. Их боевые товарищи немедленно теряли волю к сопротивлению: в попытках спастись они, избавляясь от груза, бросали оружие и доспехи. Степняки безжалостно их преследовали и добивали выстрелами в спину[443]. Поражение было сокрушительным. Маврикий, византийский император, живший в VI в., предполагаемый автор военного трактата «Стратегикон», считал, что, раз уж скифы используют свои охотничьи приемы на войне, римлянам тоже нужно упражняться в загонных охотах. Император предупреждал, однако, что, если всадники неопытны, им такой вид охоты покажется непрактичным. Лучшим его советом относительно войн со скифами было нападать на них в марте, до того, как скифские лошади нагуляют жирок[444]. Использование Маврикием термина «скиф» – это анахронизм; в его время византийцы сражались уже не со скифами, а с тюрками. Зато его видение трудностей загонной охоты и опасности, какую этот маневр представлял для византийцев, оказалось прозорливым. Сегодня мы назвали бы загонную охоту технологией двойного назначения. Один из современных исследователей Внутренней Азии, Дэн Мурешан, пошутил, что для всадников «война – это продолжение охоты теми же средствами», перефразируя изречение прусского генерала Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами[445]. Тай-цзун, сын и преемник Абаоцзи, правивший в Х в. киданьской империей Ляо, заметил: «Наша охота – это не просто погоня за удовольствием. Это способ отработать навыки ведения войны»[446]. Столетие спустя на другом краю Азии персидский поэт Фаррохи Систани выразил ту же мысль, когда пел дифирамбы своему покровителю: «Вы – охотник на царей, и, когда царей не остается, вам приходится охотиться на львов… Поскольку охота похожа на войну, вы, отдыхая от войны, из страсти к битве обращаете свои мысли к охоте»[447]. И порою хан действительно переключался с преследования дичи на охоту на людей. Большие охоты часто непосредственно предшествовали военным походам и служили своеобразной разминкой для войска[448]. А кидани уж точно охотились не только за дичью, но и за царствами. Сын Абаоцзи Тай-цзун, взявший себе то же тронное имя, что носил великий император Тан, возглавив миллионную конницу, отбил Северный Китай у новой китайской династии Сун и перенес свой императорский двор из Внутренней Монголии в Пекин[449], который тогда назывался Юйчжоу – «мирное место». Потом Тай-цзун вытеснил Сун еще дальше на юг. Сун, которые не могли больше рассчитывать на поставки лошадей из степи, уже находились в невыгодном положении и на поле боя не могли сопротивляться киданьской тактике облав. Китайцы попрятались за стенами своих городов и мрачно наблюдали за тем, как кидани опустошали сельскую местность. Однако вскоре киданьские всадники обнаружили, что земли к югу от Желтой реки не подходят для кавалерийских военных кампаний. В какой-то момент, недовольные жарким и влажным климатом, они сообщили своему кагану-императору, что возвращаются домой. Даже Пекин казался Тай-цзуну слишком жарким, и лето он обычно проводил в прохладе Яньшаня – Ласточкиных гор – в 160 км к востоку от столицы[450]. Вместе с новыми территориями киданям досталось и их население, численностью превосходившее весь их народ. Киданьские императоры исповедовали буддизм и возводили на принадлежавших им землях великолепные ступы, а государство киданей заменило империи Хань и Тан в представлениях многих народов Запада, ничего не знавших о существовании далекого государства Сун. В Европе и Азии киданей стали отождествлять с Китаем[451]. Другая форма их имени – хитай – перешла в русский язык, где эту страну и по сей день называют Китаем; в нескольких западных языках закрепилось название Катай[452]. Кидани не давали спуску южной империи Сун и принуждали к покорности своих тюркских, тибетских и монгольских соседей. Охота каганов увенчалась успехом. Теперь им предстояло пасти свое новое стадо – городское и сельское население Китая, оказавшееся под их властью.
Править, сидя на коне
Несмотря на завоевания в самом Китае, киданьские ханы поначалу не отказывались от степного образа жизни. Они жили в величественных шатровых городах, где вздымающиеся к небу опорные шесты, окрашенные киноварью и позолоченные, удерживали над головами обитателей столько шелковой ткани, расшитой свернувшимися в кольца драконами, тиграми и легкими облачками, что ее хватило бы, чтобы оснастить не одно парусное судно. В мирные времена шатры выравнивали по солнцу: шатер главной жены возвышался на восточном конце города, а к западу тянулись шатры всех остальных жен в порядке убывания важности. Во время войны шатры ставились по кругу, как фургоны американских пионеров, с главным в центре. Животные паслись вдали от жилищ; только верховые и дойные лошади оставались внутри кольца[453]. У приближенных великого хана были такие же шатры, но меньшего размера, и каждый последующий чин в иерархии жил скромнее предыдущего – и так до самого простого коневода, который пас свои стада рядом с шатром великого хана. Этот город больше напоминал рынок, чем китайскую императорскую столицу вроде Чанъани. Эти обширные, уставленные шатрами общественные пространства и впрямь были полны торговцев и товара, прежде всего скота[454]. Когда великий хан снимался с места, весь город паковал пожитки и исчезал в клубах пыли, поднятой уходящим караваном. Такая готовность к перемене мест говорит о том, что кидани прекрасно понимали: их сила – в седле. Только сохраняя конное войско численностью в миллион человек, они могли отбиваться от соперников из степи и держать в узде государство Сун по ту сторону речной границы. Всегда готовые к войне и обладающие сокрушительными стратегическими и тактическими преимуществами, кидани не боялись прямых военных вызовов. Однако в политическом плане их положение оставалось довольно шатким. С одной стороны, киданьский император был каганом степи. Простое лошадиное клеймо, тамга, стало императорской печатью. Чтобы не лишиться власти над коневодами, император объезжал свои владения, организуя большие охоты, которые были приурочены к лучшему сезону для каждой территории. Поскольку лидерство в степи никогда нельзя было назвать неоспоримым, коневодам, по природе своей эгалитаристам, нужно было лицезреть лидера во плоти – в отличие от подданных китайской империи, для которых император исторически был фигурой далекой и неосязаемой. К тому же кагану приходилось делиться с народом накопленными богатствами и прибылью от больших рынков, которые возникали везде, где он разбивал свой лагерь. С другой стороны, киданьские правители все больше ощущали ответственность за благополучие своих китайских подданных, а степные всадники этой их озабоченности не разделяли. Сама охота стала источником трений между коневодами и китайцами. Подобно танскому императору, который отрицал, что его охоты губят посевы, киданьские императоры пытались держать своих охотников подальше от китайских крестьянских хозяйств. Они издавали законы, защищающие сельское хозяйство, полностью запрещали охоту в период сбора урожая и лично приезжали с проверками, чтобы удостовериться, что эти законы должным образом соблюдаются[455]. Кроме того, посещая Китай, киданьский император должен был исполнять обязанности Сына Неба и выполнять все придворные ритуалы. Первые императоры считали эту двойную роль слишком для себя трудной; Тай-цзун, завоевав Северный Китай, признавался: «Я нахожу радость в охоте и пирах. С того момента, как я ступил на землю Срединного Царства, я никогда не чувствовал себя счастливым»[456]. Однако со временем предпочтения киданьских правителей изменились. Они все больше времени проводили в Пекине. Они перестали воевать с Сун. Они начали терять любовь к степи. Манеры, запахи и разговоры коневодов казались им теперь грубыми и некультурными, ведь всадники, например, не видели ничего особенного в том, чтобы сойти с коня и облегчиться на землю, не прерывая беседы с товарищами. Последний киданьский император Тяньцзо-ди, живший всего через 150 лет после великого Тай-цзуна, уже не желал иметь ничего общего с этим грубым народом и, по слухам, даже плохо ездил верхом. Окитаившихся киданьских императоров постепенно покидали политически оторванные от них всадники, которые больше не отождествляли свое благополучие с каганом – к тому времени уже настоящим китайским императором. В долгий период мира с государством Сун и, как следствие, запрета на набеги всадники задались вопросом, что они получают в обмен на свою верность кагану. В 1125 г. коневодческий народ из Маньчжурии, чжурчжэни, укрепившиеся за счет того, что поставляли киданям хороших лошадей[457], взбунтовались против своих господ и изгнали их из Пекина, добившись того же успеха, что и кидани за 200 лет до них. Еще через 109 лет и самих чжурчжэней постигнет та же участь: они не устоят перед Чингисханом. Крах государства киданей не стал сигналом к возрождению китайской империи Сун, он просто привел к смене одной степной династии на другую. Киданьские завоевания возвестили начало новой эры: в этот период всадники будут править обширными оседлыми землями не только в Китае, но и по всей Евразии. В период своего расцвета государство Тан стояло в одном ряду с самыми большими и могущественными империями, какие когда-либо знал мир: Аббасидским халифатом со столицей в Багдаде, государством Пратихаров в Северной Индии[458] и Византийской империей (Восточной Римской империей). Между 907 и 1071 гг. все эти империи рухнули или отступили под ударами сравнительно небольших групп коневодов. Степные армии перехватывали инициативу на севере Китая и Индии, а также на всем Ближнем Востоке, в том числе в византийской Анатолии. Сыновья Неба, махараджи, халифы и византийские басилевсы один за другим сначала постепенно, а потом внезапно и окончательно теряли власть. Династия Тан была только первой ласточкой.Степь проникает в оседлые земли

За столетия сосуществования коневодческих народов и оседлых государств первые основательно проникли во вторые. Элиты оседлых империй одевались, как коневоды, сражались, как коневоды, охотились вместе с ними, а во многих случаях из них и состояли. Более того, благодаря своим знаниям и умениям в сфере разведения лошадей и контролю над стратегически важной торговлей ими коневоды неизбежно становились первыми кандидатами на высокие должности в сфере закупок, управления конюшнями и командования конницей оседлых государств. Когда они перестанут довольствоваться властью только над степью, которой хватало их предшественникам хунну, кушанам и небесным тюркам, было всего лишь вопросом времени. Века визитов к императорским дворам Чанъани, Багдада и Константинополя лишили кочевников пиетета перед правителями оседлых государств. Степняки, занимавшие высокие посты, изрядно подточили гражданскую власть не только в танском Китае, но и во многих евразийских государствах. Создавалось впечатление, что оседлые народы буквально ждали прихода варваров[459].
Прорыв из степи
Западная степь ощутила отсроченные ударные волны, вызванные падением Тан, когда огромные массы снявшихся с места степных народов докатились до Ирана, Индии, Рима и Киева. Наибольшее влияние эта миграция оказала на Иран, которым в то время правили арабские халифы Багдада, и на византийскую Анатолию. Эти земли невольно стали домом для миллионов лошадей, со всеми вытекающими отсюда культурными и экономическими последствиями. Ситуация здесь резко отличалась от положения дел в Китае, где под властью киданей и чжурчжэней почти ничего не изменилось. Разные судьбы восточных и западных оседлых народов наглядно отразились в двух величайших цивилизационных рубежах: Великой стене и Горганской стене. Подобно тому, как Великая Китайская стена нависала над холмами провинции Шаньси, внушая трепет коневодческим народам, Горганская стена высилась над открытыми пространствами западных степей, протянувшись на 195 км от Каспийского моря до Аладагского хребта, или «пестрых гор», и демонстрировала решимость шахов Древнего Ирана не пускать степняков в сердце своей страны. Стена из обожженного кирпича, с проходами для дозорных на высоте 2 м, на 5 м возвышалась над сухим рвом, а ширина ее в некоторых местах достигала 10 м. Через определенные промежутки к стене примыкали крепостные сооружения; всего их было 36. Они служили сторожевыми башнями и казармами, где могла разместиться 30-тысячная армия, в том числе конница. Сложная гидравлическая система, частью которой была дамба в 1,2 км шириной, обеспечивала крепости проточной водой. Это было удивительное сооружение – такое же внушительное, как Великая Китайская стена, способное затмить собой и Адрианов вал, и римский лимес в Германии[460]. Считается, что Горганская стена, руины которой сохранились до наших дней, была построена в V в. иранским шахом Перозом для защиты от набегов хунну. Возможно, за 1000 лет до него Кир Великий тоже строил стену для защиты от скифов. Стена служила границей, разделяющей две экосистемы. К югу от нее плакучие ивы купали ветви в быстрых водах реки Горган. На южном берегу на орошаемых дождями землях росли пшеница, хлопок и даже дубовые рощицы. К северу от стены простиралась степь, поросшая солеросом – сочной травой, богатой селеном. Основной формой землепользования в степи было скотоводство[461][462]. Позднее исламская историческая традиция восхищалась величественными руинами Горганской стены, приписывая ее строительство Александру Македонскому, одному из пророков Божьих, который якобы этой стеной преградил путь полчищам Гога и Магога. Те мусульманские историки позабыли, кто строил Горганскую стену и, что еще важнее, зачем ее строили. В VIII и IX вв. багдадские халифы, опираясь на могущественных пограничных эмиров, раздвигали пределы своей империи все дальше в степь, что на некоторое время избавило их от необходимости возводить на границе с нею прочный заградительный барьер. В Китае, напротив, сменяющие друг друга династии достраивали и укрепляли Великую стену. Даже кидани и чжурчжэни сохраняли ее, чтобы отделить степь от оседлых земель. Великая стена стала символом способности китайцев отгородиться от степных народов, хотя удавалось им это, скорее, в виде исключения. Когда на границах халифата замаячила угроза новых нашествий из степи, халифам жестоко аукнулось отсутствие заградительного барьера. Незавидное отличие Ирана и Западной Азии в целом от других великих колыбелей азиатской цивилизации, Китая и Индии, заключалось в том, что степные, засушливые, благоприятные для лошадей зоны встречались в Западном Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии и Ираке повсеместно[463]. Здешние щедрые пастбища и даже малопригодные для выпаса пустынные зоны привлекали скотоводов еще во времена скифов. Теперь же степные всадники, оставив китайское пограничье, открыли для себя эти пастбища и потянулись в Иран – сначала тонкой струйкой, а затем широким потоком. Одна из таких миграций началась, когда кидани прогнали тюрков из Монголии и, собрав 300-тысячную армию, заставили их уйти даже из Кашгара, который отстоит от Пекина на 4000 км. В Центральной Азии, на территории современного Кыргызстана, одному тюркскому племени удалось основать новую империю, столицей которой стал город Баласагун. Другим группам тюркских коневодов пришлось бежать дальше, в Иран. Шли они почти всегда с севера на юг и с востока на запад, поскольку самые большие пастбища располагались на севере и на востоке (обеспечивая тамошние народы конной мощью), а беженцев манили богатства Ирана[464]. Новые оседлые соседи тюрков испытывали ту же потребность в степных лошадях, что и Китай, чем обеспечивали коневодам такие же возможности, какими они пользовались при Тан. Тюрки попадали в Иран как элитными рабами, так и свободными людьми. Багдадские халифы и их пограничные эмиры брали молодых коневодов на службу в качестве солдат-рабов[465]. В дополнение к навыкам верховой езды, приобретенным еще в пастушеском детстве, их обучали стрельбе из лука и владению мечом. Способные претенденты получали дополнительное образование в области литературы и искусств, что со временем позволяло им занимать высокие посты в армии и при дворе. Но название их социального класса – мамлюки, что означает «принадлежащие», – напоминало, что происходят они из рабов. Мамлюки не теряли связей со степью и часто набирали в свои полки родичей. Мамлюк, служивший могущественному покровителю, мог обеспечить родне его благосклонность, торговые привилегии, хорошие пастбища и помощь в случае голода. Обладая нужными связями, мамлюк мог поселить свой клан на землях, дарованных ему в обмен на службу. И, как это уже было в танском Китае, в военную элиту проникала степная политика, а лояльность мамлюков багдадскому халифу и пограничным эмирам постепенно размывалась. Новая возможность попасть в Иран открылась степнякам, когда пограничные эмиры стали брать их на службу целыми кланами. В обмен на защиту того или иного участка границы от еще более враждебных коневодов кланы получали в свое распоряжение пастбища. Этим путем в страну стали стекаться массы тюркоязычных, а не только немногочисленные элитные воины-мамлюки. Многих переселенцев, по сути беженцев, толкала в путь жестокая нужда. Племя лишалось стада из-за засухи или холода и пускалось искать спасения в более плодородной местности. Одновременно с расселением шел процесс аккультурации. Мамлюков воспитывали в исламе, и свободные степные всадники тоже постепенно отказывались от своих буддистских, манихейских или христианских традиций, принимая новую религию. Становясь частью большой мусульманской общины, они вдруг понимали, что, как только перейдут через осыпающуюся Горганскую стену и попадут в Иран, дальше их уже до самого Средиземного моря ничто не остановит. Новообращенных всадников стали называть туркменами; этот этноним отличал их от оседлых тюркоязычных мусульман[466]. В 1035 г. туркменский вождь из клана сельджуков по имени Арслан Исраил обратился к Масуду, правителю Восточного Ирана, или Хорасана, с просьбой разрешить ему пасти свои стада к югу от Горганской стены:Нас четыре тысячи семей. Если будет повеление, пусть государь позволит нам перейти реку [Джейхун] и устроить свою родину в Хорасане. Ему от нас будет покойно, и области его от нас будет изобилие, так как мы люди степные и имеем много баранов. Да и войска его от нас прибавится[467][468].Масуд быстро пожалел, что принял этих гостей. Туркмены, десятилетиями кочевавшие по безлюдной северной степи, никогда не жили в тесном соседстве с оседлыми народами[469]. Они немедленно принялись разорять предместья обнесенных стенами городов, позволяя своим стадам вытаптывать посевы и мешая ремонту ирригационных сооружений, от которых зависела сама жизнь оседлых людей. Летописец сетовал: «Разорился тот край, как растрепанные локоны прекрасных и заплаканные глаза любимых, когда опустел от выпаса стад [туркмен]»[470]. После того как многочисленные карательные экспедиции против сельджуков так и не смогли призвать их к порядку, Масуд, дабы сокрушить непокорных всадников, сам выступил в поход во главе армии в 100 000 мамлюков, усилив ее индийскими слонами. Сельджукские лучники на своих резвых конях громили неповоротливых тяжеловооруженных хорасанских всадников, которые не могли даже приблизиться к противнику. Местность здесь особенно засушлива, бои шли несколько дней подряд, и выносливые степные лошади страдали от жажды меньше, чем кони противника. Когда вокруг его армии сомкнулось степное кольцо-ловушка, Масуд чудом избежал пленения, ускакав вместе с сотней всадников личной стражи. Вождь сельджуков не мог поверить своей удаче, когда уселся на опустевший трон Масуда. Ни он сам, ни его клан совершенно не понимали, что им делать дальше. Со временем сельджуки, подобно киданям в Китае, научились играть роль традиционных правителей оседлых земель, старались установить в своих владениях закон и порядок и защищать сельское хозяйство и поселения земледельцев. Им постоянно приходилось сдерживать своих же всадников, которые использовали любой повод, чтобы вернуться к набегам[471]. Туркмены основали сельджукское государство, но так и не перестали быть для него экзистенциальной угрозой. В отличие от государства киданей, которое было удобно разделено на две зоны и две администрации – одна половина подчинялась кодексам коневодов, а другая жила согласно нормам сельскохозяйственного Китая – сельджуки, учитывая географию Ирана, оказались в ситуации, когда буйные туркмены, готовые грабить или поддерживать восстания местных эмиров против своих владык, были равномерно рассеяны по всей территории страны. Последний из Великих Сельджуков, султан Санджар, взошел на престол в 1097 г. и стал героем народного предания, иллюстрирующего трудности, с которыми столкнулся этот клан, управляя Ираном. Как и кидани, сельджуки были заядлыми охотниками. Предаваясь своему излюбленному развлечению в частично степных, частично сельскохозяйственных районах Ирана, охотники нередко вступали в конфликты с земледельцами. Во время одной такой охоты свита султана разорила хозяйство старой женщины. Заметив султана поблизости, старуха ухватилась за сверкающую уздечку его коня и принялась осыпать монарха проклятиями. Стражники ринулись вперед, чтобы зарубить ее саблями, но султан прикрыл старуху своей рукой в перчатке. И пока стража султана с каменными лицами наблюдала за происходящим, старуха от души выбранила его за неспособность защитить своих подданных. Султан Санджар выслушал ее и приказал казнить провинившихся охотников. Иранцы и по сей день пересказывают эту историю как напоминание, что залог выживания государства – в его справедливости. Эта байка и ее счастливый финал к реальности, однако, имели мало отношения. Хотя Санджар подчинил себе конную мощь туркмен и использовал ее для войн с соседями, толком он своих всадников контролировать не мог. В 1153 г., во время похода, предпринятого для подавления одного из многочисленных туркменских восстаний, Санджар попал в плен и был брошен в заточение. За время, что он провел в плену (до 1156 г.), царство его распалось на части. Сельджуков постигла судьба киданей: Хорасан завоевала очередная, свежая волна степных всадников. Это были тюрки-кипчаки, родня туркменам, под предводительством хорезмшаха, еще одного военачальника-мамлюка. Хорезмшах изнурил Иран своими военными походами и уничтожил несколько старых центров власти, которые могли бы стать буфером между Ираном и зарождающейся империей монголов. Миграция туркмен затронула не только Иран. Сельджуки поощряли своих всадников совершать набеги на византийцев, армян и грузин; другое вероисповедание служило удобным оправданием прибыльной работорговли. Кроме того, эти походы работали как спускной клапан, отводя от Ирана агрессию туркменов[472]. Именно в это время туркмены обосновались в Азербайджане, Северном Ираке и Сирии, где их потомки живут и по сей день. Оттуда они начали продвигаться дальше, в Анатолию, которая принадлежала тогда Византии. В 1071 г. охотничий отряд во главе с сельджукским султаном Алп Арсланом наткнулся на окраинах Анатолии на византийскую засаду. Султан, с которым было не более сотни приближенных, не смог оказать сопротивления и был взят в плен. Византийцы его не узнали, и вскоре ему удалось бежать[473]. Через несколько дней султан и византийский император Роман IV во главе своих армий встретились в битве при Манцикерте. Сельджуки применили свою излюбленную тактику загонной охоты, выстроившись в широкую дугу, которая постепенно окружила византийцев. Византийские наемники-тюрки, распознав знакомую тактику боя и поняв, что происходит, сочли за лучшее переметнуться на другую сторону. Византийская армия оказалась в ловушке, и Роман, раненный стрелой, упал с коня. Тюрки притащили его пред очи Алп Арслана, который сидел в седле, держа на одной руке охотничьего сокола, а в другой – украшенный драгоценными каменьями поводок охотничьего пса, чтобы напомнить византийцу, кто здесь сегодня добыча. Победа Алп Арслана над Романом IV навсегда положила конец византийскому владычеству в Анатолии. Туркмены хлынули на новые территории. Отряд из 20 000 воинов вел с собой 80 000 членов семей и 100 000 животных: лошадей, верблюдов, овец и коз[474]. С эпохи неолита мелкое животноводство – разведение коз и овец – соседствовало в Анатолии с земледелием; туркменский обычай выпаса четырех поголовий был тут неизвестен. Поначалу туркмены грабили города и крестьянские хозяйства, заставляя рынки закрываться, а крестьян бежать, чтобы не попасть в рабство. Это катастрофически сказалось на сельском хозяйстве, и даже когда волна насилия утихла, новый стиль пастбищного животноводства только усугубил ситуацию. Лошади наносили земледелию больше ущерба, чем овцы и козы. Заброшенные и вытоптанные, сельскохозяйственные угодья Анатолии стремительно сокращались. Как и в Иране, номинальные сельджукские правители пытались обуздать туркмен, но к тому времени, когда им удалось установить хоть какой-то государственный контроль, сельскохозяйственная византийская Анатолия уже была на пути к превращению в Турцию с многочисленным тюркоязычным населением, занимавшимся разведением лошадей. Столетие спустя эти туркменские налетчики дадут начало Османской династии. Император Роман оказался не единственным европейским правителем, пострадавшим от тюркских всадников. К северу от Черного моря Киеву и союзным ему княжествам тоже пришлось защищать свои земли от набегов тюрков-кипчаков[475]. Эти всадники устремились на запад после распада союза небесных тюрков с Тан и начали торговать с Киевом и совершать набеги на него. Ранее этот огромный богатый рынок находился под властью хазар, а около 880 г. был завоеван скандинавско-славянской Русью. Киевская Русь стала пусть не столь же процветающим, как Тан, но уж точно одним из величайших государств Европы и правила обширными территориями, граничащими со степью. В 1185 г. князь Новгород-Северский Игорь предпринял безрассудный ответный рейд в степь, где кипчаки поймали его войска в ловушку. Они перебили его дружину, но князя взяли в плен живым. Чтобы Игорь не заскучал, они пригласили его принять участие в их любимом развлечении, охоте, и даже дали князю прекрасного коня, соответствующего его статусу. На этом-то быстроногом животном Игорь и ускакал домой[476]. Кипчаки совершали набеги на русские княжества, а также на Болгарское и Венгерское королевства, торговали с ними, нанимались к ним на службу и поставляли им лошадей для конницы[477]. Но, в отличие от туркмен Ирана и Анатолии, массово кипчаки в Восточной Европе не селились, поскольку для разведения лошадей эти места не слишком подходят[478]. Однако в последующие века степные народы оставили здесь гораздо более значимое наследие – прежде всего в русских княжествах. Между тем Турции не суждено было оставаться под властью туркмен. В XIV в. Балканы завоевала Османская династия, обеспечившая себе тем самым прочную сельскохозяйственную и морскую базу для строительства империи – империи, которую будет приводить в движение уже не лошадиная сила. В XVI в. османские султаны подавляли восстания туркмен в Малой Азии с жестокостью, немыслимой для сельджуков. Однако в Иране туркмены и другие коневодческие народы доминировали вплоть до ХХ в. Миграции степных коневодов в X и XI вв. по-разному сказались на земледельческом населении Китая, Ближнего Востока и Европы. Но все евразийские державы, опиравшиеся на силу степных лошадей, проходили один и тот же жизненный цикл. Спустя четыре или пять поколений, когда степные правители овладевали искусством балансировать между скотоводами и земледельцами, мирное сосуществование остужало пыл бывших завоевателей, а простые пастухи все больше отдалялись от своих разряженных в шелка вождей. Затем степные царства рушились под натиском новой волны амбициозных степных завоевателей. В Индии же коневодческие народы не притесняли оседлое население, как в Западной Азии, а то, в свою очередь, не пыталось отгородиться от кочевников, как в Китае и Восточной Европе. Основанное степными воинами государство, процветавшее благодаря синтезу культур, продержалось там на удивление долго – целых три столетия.
Торговцы лошадьми, или воины Аллаха
Около 1020 г. китайский посол в Афганистане описывал могущественного тюркского военачальника, к которому был отправлен:Руки царя длиною ниже колен. У него сотня боевых коней, каждый больше 18 ладоней ростом. Когда он выступает в поход, то ездит на них по очереди; он стреляет из лука, который весит несколько даней, и даже пяти или семи людям невозможно его согнуть. В конном бою он разит врага железной булавой. Весь Афганистан и Индия его боятся[479].Таков был эмир Махмуд Газневи, правивший три с лишним десятка лет, с 998 по 1030 г. Он происходил из рода мамлюкских военачальников, которым халиф поручил защищать Хорасан и Афганистан от набегов туркмен и киданей. Но Махмуд решил, что проще будет привлечь этих всадников на свою сторону и усилить ими свою армию[480]. Подобно тому как сельджуки поощряли туркмен вторгаться в границы своего западного соседа, византийской Анатолии, Махмуд нацелился на своего восточного соседа, Индию. Индия представляла собой легкую добычу для завоевателей с севера. Тот, кто правил Афганистаном, мог перекрыть поставки боевых лошадей на субконтинент, страдавший от их нехватки. Кроме того, Индия, где в позолоченных храмах хранились огромные богатства, сама по себе была ценным призом. В те времена храмы служили своего рода банками и предоставляли финансовые услуги купцам и раджам. По обычаям войны это делало их законной целью грабежа и разбоя; то же было и во времена локальных конфликтов между индийскими раджами. Такой шанс нельзя было упускать. Эмир Махмуд подготовил свою армию к вторжению. На его стороне было сокрушительное преимущество в конной силе: у него имелись и тренированная мамлюкская конница, и отряды тюркских и афганских степных коневодов. Первые представляли собой тяжелую ударную кавалерию, а вторые, вооруженные и экипированные легче, показали себя грозными лучниками. Сам эмир был гениальным военачальником, который не только умел вести людей в бой, но и досконально разбирался в вопросах снабжения. Ему удавалось углубляться на территорию Индии на 2200 км и совершать набеги на местности, отделенные от его родных краев крупнейшей в Индии пустыней Тар. Неудивительно, что эмир заставал врага врасплох: никто и подумать не мог, что конница способна выжить в столь длительном переходе по почти безводному пространству. Но Махмуд провел почти 30 таких кампаний, и каждая была тщательно спланирована так, чтобы обеспечить лошадей достаточным количеством воды и корма. В одном таком походе 30 000 верблюдов везли воду для 30 000 кавалеристов и 54 000 степных всадников. Лишь единожды планы Махмуда сорвались, и его армии пришлось бежать из пустыни Тар. Чтобы финансировать эти дорогостоящие кампании, потрафить крупному сословию мамлюков и не лишиться верности командиров и степных воинов, Махмуд обещал им богатую добычу. Набеги и грабежи не оставляли его воинам времени для заговоров и мятежей. В первую очередь всадники заботились о благополучии своих животных, поэтому вместо того, чтобы занимать захваченные территории, эмир Махмуд каждое лето возвращался в прохладный Афганистан, оставляя Индию приходить в себя после очередного набега. Когда Махмуд не воевал в Центральной Индии, он устраивал для своих приближенных охоты, воспетые персидским поэтом Фаррохи. В одной поэме рассказывается, как эмир охотился на львов в джунглях Лакхи в Пенджабе, где поджидающие в засаде хищники легко могли вскочить на спину его коню раньше, чем он успел бы саблей взмахнуть. В другой истории Махмуд, преследовавший косулю, проявив нехарактерное милосердие, отпустил добычу, когда косуля заговорила с ним на персидском языке и стала укорять его за то, что он убивает слишком много животных[481]. Вегетарианцем это его, конечно, не сделало, но от охоты Махмуд решил немного отдохнуть. Вообще же эмир ездил на охоту каждые три-четыре дня[482]. И точно так же он никогда не отказывался от набегов на Индию. Льстецы превозносили Махмуда как воина Аллаха, сражающегося с индийским идолопоклонством, но рассматривать войны, которые вел эмир, как религиозный конфликт – анахронизм. Его индийские противники никогда не ссылались на религиозную вражду, а врагов своих называли «турушка», что значит «тюрки», или «ашвака», что означает «знатоки лошадей»[483]. В их глазах угроза, которую представлял Махмуд, не отличалась от той, что несли кушаны полтысячелетия тому назад. Более того, даже если эмиру льстило звание воина Аллаха, на службе у него состояли не только тюрки и афганцы, но и индийцы тоже[484]. Многие из индийских союзников Махмуда были выходцами из скотоводческих районов Пенджаба, где когда-то пасли свои стада кушаны. Некоторые из этих народов приняли ислам, в частности коневоды джунглей Лакхи, но многие сохраняли веру предков. Махмуд провел всю жизнь в седле, а вот его наследники не смогли вести столь же последовательные кампании, и их владения стали сокращаться. Через 150 лет Газневиды пали под ударами своих бывших афганских союзников. Афганцы и тюрки образовали непрочный союз под началом мамлюков, которые правили как султаны, приходя к власти либо через выборы, либо через убийства. Мамлюкские султаны устроили себе великолепную столицу в Дели. Как и киданьский Пекин, новый город находился довольно близко к границе со степью, что позволяло без труда пополнять конницу лошадьми, составлявшими основу власти мамлюков[485]. Укрепившись на новом месте, мамлюкские султаны начали заботиться о своих индийских подданных как традиционные оседлые правители. И надо сказать, что с этой задачей они справлялись лучше, чем кидани, чжурчжэни или сельджуки. Дело в том, что мамлюкские султаны не стали, подобно другим династиям, приводить на завоеванные оседлые земли коневодов: Индия была слишком жаркой и негостеприимной землей для их табунов. Тем не менее войны Махмуда и мамлюкских султанов изменили экологию субконтинента и индийское общество. Скотоводы из далеких земель, например тюрки, сюда не приходили, но здешние холмистые или пустынные земли веками давали приют местным пастухам, выпасающим овец, коз и коров. Некоторые из этих племен обзавелись выносливыми низкорослыми лошадками, которым подходил местный климат и которых было проще прокормить, чем крупных лошадей из Центральной Азии. Возможно, процесс начался еще при кушанах, хотя об этом раннем периоде индийской истории мы знаем гораздо меньше. Теперь же в засушливых зонах, вдали от традиционных центров власти, брахманских храмов и старых дворов махарадж возникали новые силы, опирающиеся на кавалерию. Конные ярмарки, подобные тем, что проходили в Хардваре и Пушкаре, становились, как уже отмечалось, новыми местами религиозного паломничества, переманивая верующих из древних храмов[486]. Новые военные столицы строились везде, где обнаруживались пастбища. Раджи старых оседлых государств часто понуждали местные коневодческие народы – афганцев на севере, раджпутов в Центральной Индии и наяков на юге – патрулировать уязвимые засушливые окраины своих царств и защищать их от вторжений[487]. Эти народы то торговали лошадьми и служили наемниками, то занимались воровством скота и разбоем на дорогах; привлекать их в армию и давать выход их разбойничьим наклонностям стало важной функцией индийского государства. Конечно, многие искатели приключений только и ждали часа, когда сами смогут стать раджами и султанами[488]. Классический пример такого рода государственного переворота можно отыскать в истории Бенгалии. Бенгальские махараджи с давних пор приглашали афганцев к себе на ярмарки: те приводили им ремонтных лошадей для пополнения «непобедимой и бесчисленной» конницы, как называли ее придворные поэты. В один из рыночных дней в 1202 г. в центр бенгальского города Надия, резиденции важного махараджи, спокойно въехал афганец с 18 товарищами. Толпа не заметила ничего необычного в этой кавалькаде, потому что торговцы лошадьми из Афганистана регулярно приезжали на бенгальские рынки. Всадники подъехали ко дворцу махараджи, который стоял рядом с рынком, и обнажили оружие. Воспользовавшись общим замешательством, они захватили дворец, махараджа бежал, и удачливый торговец лошадьми стал править вместо него. И это было только начало: Мухаммад бин Бахтияр Хильджи, странствующий искатель приключений из Афганистана, со временем завоевал всю Бенгалию. Он даже вторгся в Ассам, чтобы обеспечить себе доступ к тибетским лошадям, поскольку опасался, что сидящие в Дели мамлюки помешают ему ввозить лошадей из Центральной Азии[489]. Многие другие подобным же образом использовали торговлю лошадьми и те возможности, что она давала, для основания собственных династий. Туглак, самый выдающийся из мамлюкских султанов Дели, начал свое восхождение к вершинам власти с должности главного конюха на службе предшествующей династии. Он сумел распространить свою власть на бóльшую часть Индии и был похоронен в мавзолее, построенном из красного песчаника и белого мрамора, что намекает на синтез исламского и индийского искусства, характерный для периода его правления. Политическим наследием этих удалых торговцев лошадьми стало превращение Индии в шахматную доску конкурирующих государств, среди которых самыми сильными (и лучше всех обеспеченными лошадьми) были мамлюкские правители Делийскогосултаната. Для сохранения этого преимущества им нужны были импортные лошади, прежде всего крупные, мощные животные из Центральной и Западной Азии, которых высоко ценили тюрки и афганцы. Когда война на северо-западной границе отрезала Индию от сухопутной торговли, предприимчивые купцы стали снабжать ее по морю. В XIII в. путешественник Марко Поло упоминал об этой торговле, ставшей очень активной, когда мамлюки Дели и впрямь столкнулись с враждебным соседом с севера:
Кони здесь не водятся, и весь годовой доход или большая его часть расходуется на покупку лошадей, и вот как это делается: купцы из Курмоза, Киша, Дуфара, Соера, Адена и из всех тех областей, где много коней, ратных и всяких других, закупают там хороших лошадей, ставят их на суда и привозят их этому царю и его четырем братьям-царям; продают они их по пятьсот золотых за каждого, что составляет более ста серебряных марок. Ежегодно царь покупает тысячи две коней и побольше; столько же покупают братья; а к концу года и ста коней у них не остается[490][491].Позднее наблюдатели увеличили эту цифру до 13 000 лошадей в год[492]. Историк XIV в. Вассаф утверждал, что на доставку лошадей в гуджаратский порт Камбей было потрачено 2 млн золотых динаров (почти 500 млн долларов в современных деньгах, колоссальная сумма для доиндустриальных времен); лошадей оплачивали за счет хранившихся в храмах сокровищ и налога на девадаси, храмовых танцовщиц. Лошади, поставляемые морем, стоили дороже лошадей из Центральной Азии; нередко покупатели отдавали за заморского коня 1000 рупий, в то время как хорошую лошадь из Центральной Азии можно было купить за 500 рупий, а обычную – за сотню[493]. Однако, несмотря на высокую цену, престижность арабских и персидских лошадей и трудности с закупками в Центральной Азии веками обеспечивали работой торговцев лошадьми из Аравии и государств Персидского залива[494]. Пока мамлюкские султаны могли обеспечивать себя лошадьми по суше или, что было гораздо дороже, по морю, их власть над Северной Индией не встречала серьезного вооруженного сопротивления, а время от времени им удавалось одерживать победы и в Центральной Индии. Индийский субконтинент интегрировал этих бывших степных всадников так, как не смог ни проницаемый Иран, ни герметичный Китай. Мамлюки импортировали лошадей, но не буйных всадников, и поэтому им удалось избежать столкновений между скотоводами и земледельцами, которые не давали покоя сельджукам. Полностью переняв индийскую культуру, мамлюки сохраняли свои военные традиции и, в отличие от поздних киданей, не разучились ездить верхом. В результате этого своеобразного синтеза династия мамлюкских султанов оказалась одной из немногих в Азии, сумевших пережить надвигающуюся монгольскую бурю. Иллюстрированные книги, настенные росписи и шелковые свитки той эпохи изображают королевские охоты киданьских каганов и сельджукских и газневидских султанов. Разодетые всадники на богато убранных лошадях рассыпаются по лугам, усеянным цветами. Художники подчеркивают доблесть монархов, красоту и мощь их лошадей, изящество сбруи. На фоне этих идеализированных и приукрашенных образов из ран львов, тигров и онагров льется кровь. Этот контраст между красотой и насилием – одна из двойственностей охоты; другая – ее роль как спорта и как упражнения в искусстве войны. Охота окончательно оформила глубокий культурный раскол между всадниками и крестьянами. Охота – одна из причин, по которой степные жители стали ездить верхом, превратив инстинктивное желание лошади спасаться бегством в любовь к преследованию. Крестьяне, напротив, старательно одомашнивали животных, которые когда-то были дичью, в том числе уток и гусей. Они боялись всадников, которые топтали их землю в погоне за крупной добычей группами по 500 или даже по 5000 человек. В известной китайской поэме эпохи Хань приводится классическое наставление, которое, возможно, с удовольствием цитировали мандарины, охоту не одобрявшие:
И вот,
Весь день напролет в седле,
Изнуряя душу и тело,
Загоняя лошадей, приводя в негодность повозки,
Растрачивая силы солдат,
Опустошая казну —
И отнюдь не щедрыми дарами!
Предаваясь своим развлечениям,
Не думая о простолюдинах,
Позабыв о государственных делах,
Помешавшись на пернатой дичи и зайцах;
Добродетельные правители так не поступают![495]
8 Куда доскачут копыта наших лошадей
Империя Чингисхана, 1206–1368 гг

Легенды о Шаньюе (1155–1215)
В иллюстрированной истории монголов, созданной намного позже описываемых событий, имеется рисунок, изображающий Чингисхана и его всадников у стен Пекина – в те времена город назывался Чжунду – «центральная столица». Чингисхан властно потрясает булавой перед главными городскими воротами[496]. На стенах, длина которых по периметру составляла почти 15 км, обороняющихся не видно. Конные лучники Чингисхана не смогли взять укрепления, но осадили город, рассчитывая, что голод вынудит его защитников сдаться, и громили колонны, посланные на подмогу осажденному гарнизону чжурчжэньским ханом. Чингисхан в нетерпении кружил вокруг стен, ожидая неизбежной капитуляции противника. И вот в один прекрасный день в июле 1215 г. оставшиеся в живых измученные голодом чжурчжэньские защитники города открыли главные ворота и вынесли победителям сокровища хана, чтобы те смогли осмотреть и пересчитать их. Как только Чингисхан убедился, что золото, серебро, парча и атлас достались ему в целости и сохранности, он развернул коня и ускакал на свое родное пастбище в долине Орхон, за 1600 км к северу[497]. Взяв Пекин и немедленно вернувшись в долину Орхона, Чингисхан следовал методике своих предшественников, совершавших набеги на Северный Китай: хунну, тюрков, киданей и чжурчжэней. Современники, вероятно, рассматривали это событие как очередной эпизод в цепи подобных вторжений. Вряд ли кто-то мог тогда предвидеть, какой переворот произведет Чингисхан в жизни степных и оседлых народов, как и то, что к моменту своей смерти он построит самую большую сухопутную империю из всех, что видел мир. От уже ставших к тому времени легендарными шаньюев хунну, великих ханов небесных тюрков, киданей и чжурчжэней Чингисхана отличало то, насколько тщательно он изучал их победы и поражения, а также дисциплинированность, с которой он применял полученные уроки. Чингисхан использовал конную силу степи так, как никому до него не удавалось. За 25 лет до осады Пекина кровные враги и соперники будущего Чингисхана, который тогда носил имя Темучин, превратили его в изгоя, который, чтобы выжить, охотился в степи на сурков. У него не было даже коня. Род Темучина, видный монгольский клан, стал слишком могущественным, и это не понравилось чжурчжэньскому хану в Пекине, который поддерживал мир на своей северной границе посредством политики «разделяй и властвуй». Чжурчжэньский хан Улу подстрекал соседний народ татар[498] ослабить клан Темучина. Татары отравили отца Темучина, а его матери с малыми детьми пришлось бежать в единственной запряженной волами телеге. Первым воинским подвигом Темучина – как и многих степных вождей до и после него – стала кража лошади. Бóльшую часть юности он занимался угоном скота, заработав себе репутацию человека толкового и бесстрашного[499]. Стыд, гордость, жажда мести и ум побудили Темучина разобраться в том, кто стоял за унижением его семьи. В те времена у монголов еще не было письменности, но по степи бродили певцы и сказители: скотоводы привечали их в своих шатрах, кормили и давали постель в обмен на вечернее развлечение. Степные сказители аккомпанировали себе не на арфе, как певцы Гомера, а на морин хууре, смычковом музыкальном инструменте, головка грифа которого традиционно изготавливалась в виде конской головы, а две струны сплетались из тщательно отобранных конских волос: одна из волос из хвоста жеребца, другая – из хвоста кобылы. Звук «мужской» струны напоминал басовые ноты галопа, а звук струны «женской» был похож на ржание коня. На основе этих песен у Темучина, вероятно, и складывалось понимание истории и политики степи. Во времена дедов Темучина верховный хан киданей, живший в блеске и роскоши далеких китайских дворцов, не делился своими богатствами с подданными-коневодами и игнорировал просьбы своей киданьской родни поехать на охоту в степь. Армия всадников покинула его; чжурчжэни, один из подвластных ему народов, напали на него и взяли в плен. Чжурчжэни пришли из Восточной Маньчжурии, и, в отличие от киданей и других народов Монголии, им не приходилось кочевать в поисках воды и травы. Их родные места покрывали густые леса. Чжурчжэни вырубали деревья, чтобы разводить животных для прибыльной торговли лошадьми[500]. Честолюбивый хан Агуда поначалу продавал чжурчжэньских лошадей киданям, но в 1117 г. он вступил в тайные переговоры о поставках лошадей с династией, правившей китайской империей Сун к югу от Желтой реки. Чжурчжэни отправляли лошадей в Ханчжоу морем, чтобы не привлекать внимания киданей, империя которых отделяла их от государства Сун[501]. Согласившись иметь дело напрямую с Агудой, Сун укрепила власть чжурчжэньского хана и помогла ему сплотить под своими знаменами коневодческие кланы. Затем Агуда потребовал от слабого, но гордого киданьского императора Тяньцзо-ди, чтобы тот признал независимость чжурчжэней. Получив отказ, Агуда вторгся в империю киданей, которая рухнула, будто шатер, под которым обломился опорный шест. Киданьские коневоды без сомнений и колебаний перешли на сторону более удачливого и дерзкого Агуды. К 1142 г. чжурчжэни добились успеха, превосходившего их самые смелые мечты. Мало того что их соперники, кидани, внезапно спасовали, так еще и их бывшие покровители, Сун, проявили слабость, позволив чжурчжэням занять обширные территории южнее Желтой реки. Теперь чжурчжэньские коневоды правили третьей частью бывшей империи Тан. Пекин стал всего лишь одной из трех столиц странствующих чжурчжэньских ханов. Чжурчжэни взяли себе китайское династическое имя Цзинь, что означает «золото». Степные народы стали звать их «золотыми ханами». Дабы избежать участи, постигшей киданей, чжурчжэни регулярно приезжали в степь и уделяли большое внимание степной политике. Они стремились любой ценой не допустить появления нового Абаоцзи или Агуды, и для этого разжигали конфликты между степными кланами – что и привело к гибели отца Темучина. Такую историю мог услышать Темучин от странствующих певцов, и уроки для него были очевидны. Полуоседлые кидани уступили чжурчжэням. Теперь и чжурчжэни, в свою очередь, частично осели в Китае. «Золотые ханы» укрепляли Великую стену, вознаграждали вождей коневодческих племен за верность и наказывали за амбициозность. Но Темучин знал, что в какой-то момент чжурчжэни уступят следующему помазанному Небом правителю, который поставит себе на службу всю силу степи. Вопрос был только в том, когда и кому.«Наши мерины толстые»
Силу и власть по-монгольски называют хии-морин – выражение составлено из слов «лошадь» и «ветер». Со времен хунну обитатели Монголии пересекали продуваемую всеми ветрами степь на своих быстроногих конях. Хии-морин – меткое выражение, которое вызывает в воображении вездесущую силу лошадей, рожденную этой огромной страной. Современная Монголия примерно соотносится с территорией, где Темучин начал свой путь завоевателя. Здесь, на площади в 1 564 000 кв. км, расположены три различные экосистемы, в каждой из которых сложился свой тип скотоводства. Алтайские горы в Западной Монголии и лесистые горы Хангай и Хэнтэй на востоке и севере подходят для отгонного животноводства, которое практикуется и в Иране: здесь пастухи дважды в год совершают трудные переходы, летом перегоняя скот в горы, а зимой спуская его в долины[502]. В Центральной Монголии, где преобладает степь, пастухи в поисках свежей травы со сменой сезона перемещаются из северных широт в южные, часто на расстояние до 1600 км. Снег здесь не препятствие, а скорее место назначения. В негостеприимной пустыне Гоби на юго-востоке Монголии[503] стада летом пасутся на возвышенностях, а зимой ищут укрытия от ветра в лощинах и оврагах[504]. Чтобы эффективно осваивать растительные ресурсы здешних природных зон, монгольские скотоводы держали все пять поголовий: лошадей, верблюдов, коров, овец и коз, перечисленных здесь в традиционном порядке приоритетности (к древним четырем поголовьям присоединился верблюд). Все эти животные могут выжить и в горных, и в пустынных экосистемах степи, но с понижением численности. 100 га земли в степи прокормят 75 овец, в горах – 50, и только 25 – в пустыне Гоби. А вот верблюды лучше всего чувствуют себя в Гоби, их естественной среде обитания, поскольку для обмена веществ им нужна трава с высоким содержанием натрия[505]. Пасти лошадей было работой, не требовавшей особых усилий, потому что эти животные способны сами о себе позаботиться, мало отличаясь в этом отношении от своих диких сородичей. Они постоянно передвигались, по пути пощипывая траву и раздувая ноздри, чтобы уловить ее запах. Стадом управляли жеребцы; как писал в Средние века китаец, посещавший степь, «жеребец кусает [главную кобылу] и заставляет ее вернуться. Если жеребец из другого табуна придет и нарушит границы, жеребец этого табуна будет кусать и лягать его и заставит уйти. Каждый знает свое»[506]. Жеребец и кобыла водили табун на водопой и отгоняли хищных диких кошек и волков. Наши современники часто отмечают, что монгольские лошади похожи на лошадь Пржевальского. Это не потому, что первые произошли от вторых, но потому, что и те и другие жили в одной и той же среде обитания и вынуждены были приспособиться к климату. И пока дикие лошади наблюдали издалека, домашние покорно несли своих седоков во время долгих перекочевок стада. Размер монгольских стад XIII в. сыграл огромную роль в возвышении Темучина. Есть основания полагать, что в те времена лошади составляли 30% домашнего скота монголов[507]. Еще один средневековый китайский путешественник отмечал:Когда я путешествовал по степям, я не видел, чтобы кто-то ходил пешком. Что касается командиров войска, каждый из них едет верхом на лошади, а за ним на случай необходимости следует еще пять или шесть или три или четыре лошади. Даже бедняки должны иметь одну или две[508].Монголы в те времена держали гораздо больше лошадей, чем им требовалось для выпаса стад, пропитания или передвижения, поскольку лошадей они разводили на продажу, которая была делом весьма прибыльным. Все предшественники монголов в Монголии – хунну, тюрки и кидани – зависели от этой торговли, поднимавшей их уровень жизни выше уровня пропитания. В Монголии, в отличие от Маньчжурии, Ганьсу или Центральной Азии, не было ни городов, ни земледелия, поэтому лошади были для монголов единственным источником благосостояния. Долина Орхона, в частности, была важным центром торговли лошадьми и скотом[509]. В годы юности Темучина война между «золотыми ханами» и китайской империей Сун взвинтила спрос на лошадей. «Золотым ханам» приходилось ежегодно ввозить не менее 80 000 лошадей, которые обходились им в сумму, эквивалентную 500 млн долларов в современных деньгах, и все эти деньги распределялись между 200 000 семей. Получается, что средний коневод был примерно в два раза богаче среднего трудяги из Пекина. Если хорошая погода стояла несколько лет подряд, как это было в первые десятилетия XIII в., стада становились очень многочисленными[510]. Исторические оценки поголовья лошадей в Монголии того времени сильно разнятся, но мы можем принять за основу оценку в три миллиона. Из них треть, или один миллион, должны были составлять взрослые мерины, на которых монголы по обыкновению ездили на войну, поскольку кобылы им нужны были для разведения, а жеребцы, как уже говорилось выше, – для выпаса табунов. Мерины были выносливее, надежнее и меньше страдали от жажды, чем жеребцы; даже Темучин не ездил на жеребцах. Однако наличие такого количества хорошо откормленных меринов ставило монголов перед проблемой. Они не могли продать излишки «золотым ханам»[511]. «Наши мерины толстые», – заметил один из товарищей Темучина по оружию, подразумевая: «Что нам с ними делать?»[512] Дожди, трава и мерины Монголии не создали Чингисхана, но без них невозможно понять успеха его завоеваний[513].
Завоевания Чингисхана (1206–1227)
Когда чжурчжэни решили, что пришло время подрезать крылья теперь уже татарам, Темучин оказался в числе тех местных вождей, которых они привлекли к делу. Темучин с энтузиазмом истреблял кровных врагов, прекрасно понимая, что к убийству его отца причастен и Пекин. Успешная кампания против татар позволила Темучину собрать вокруг себя самых умелых воинов своего времени, включая бывших противников. Как-то раз один вражеский всадник, преследуемый отрядом Темучина, выпустил парфянскую стрелу (поверх лошадиного крупа) в любимого коня Темучина, темно-рыжего, с белой мордой. Конь упал и больше не встал, а лучник скрылся. Позже дозорные схватили его и привели к Темучину на суд. «Это я застрелил твоего темно-рыжего коня с белой мордой, – признался воин, – но, если ты сохранишь мне жизнь, я приведу тебе много таких лошадей». Темучин ответил: «Такого человека стоит иметь на нашей стороне. Я буду звать его Стрелой». И Стрела стал одним из самых успешных монгольских полководцев[514]. В одном из сражений он захватил несколько темно-рыжих лошадей с белыми мордами и подарил их Темучину во исполнение обещания[515]. Завоевания Чингисхана позволили монголам не только привлечь под свои знамена новых всадников, но и разжиться более крупными лошадьми, выращенными в конюшнях богатых киданьских и чжурчжэньских вождей. С такими лошадьми Темучин мог превратить свою личную гвардию в тяжелую кавалерию. Полководец Чингисхана Боорчу был неопытен в езде на столь резвых конях, и покорителю мира пришлось научить его: «Не используй кнут, просто погладь его гриву рукояткой»[516]. Темучину, находившему союзников прямо на поле боя, потребовалось десять лет военных кампаний, чтобы разгромить всех прочих претендентов на власть в Монголии. В 1206 г. Темучин убедил подвластные народы провозгласить его Чингисханом, то есть «владыкой мира», и предрек: «У нас будет империя, подобная империи хуннского шаньюя, какой не видывали уже тысячи лет»[517]. Автор составленной позже истории династии описывал восхождение Чингисхана к вершинам власти такой метафорой: «Мир, этот необъезженный [пегий] жеребец, будет укрощен шпорами его строгости и доблести»[518], которая напоминает нам, что в степной традиции всадник на черно-белом коне символизирует власть над ночью и днем, а также над самим временем[519]. Чингисхан и впрямь использовал космический символизм лошадей и их мастей, чтобы обозначить свои намерения. Следуя примеру хунну и киданей, он приказал, чтобы слева от него ехали гнедые кони, символизирующие юг, а справа – черные, символизирующие север. Серые кони представляли восток, а белые – запад. В центре войска ехал сам Чингисхан на одном из восьми своих соловых меринов. Его укомплектованная согласно небесным законам конница символически выражала господство над миром, а позже и установила его[520]. Самым опасным из оставшихся врагов новой Монгольской империи был золотой хан Ваньянь Юнцзи, который сговаривался с соперниками Чингисхана, стремясь оспорить его гегемонию. Настало время вспомнить о кровной вражде между Чингисханом и чжурчжэньским кланом, повинным в смерти его отца. Поначалу Чингисхан хотел превратить эти вражеские земли в зависимое государство, которое платило бы ему дань, но под непрекращающимися ударами монгольской армии многие чжурчжэни и кидани покинули «золотого хана», а сам он бежал на юг, бросив Пекин на произвол судьбы. Монголы присоединили земли киданей, чжурчжэней и северных китайцев к своей растущей империи. Накануне феноменальной экспансии Чингисхана большая часть Европы и Азии уже давно находилась под властью коневодческих народов. На территории современной Западной России, Украины, Молдовы и Румынии пасли свои стада тюрки-кипчаки. Аланы, потомки древних скифов, жили в степи между Черным и Каспийским морями[521]. В Анатолии и Иране царили туркмены. Афганцы и тюрки делили власть в Индии. Лоскутное одеяло тюркских, тибетских и монгольских народов укрывало всю Внутреннюю Азию. Однообразие скотоводческого образа жизни в этом обширном регионе помогло Чингисхану установить здесь свое господство. Раздробленность региона на мелкие воюющие между собой государства – наследие прошедших веков – облегчила ему завоевания. На западе Чингисхан вел кампании против монгольских и киданьских племен, которые отказывались признать его власть. Тюрки Баласагуна мудро согласились покориться монголам без сопротивления, и империя Чингисхана дотянулась до границы с Трансоксианой, которой правили мамлюки кипчакского происхождения. Они приходились близкой родней кипчакам, враждовавшим в это самое время с Киевской Русью, но на Ближнем Востоке, где лошадям приволье, этому народу досталась роль поважнее. Кипчаки, которые в качестве наемников-мамлюков пользовались спросом у правителей даже таких дальних стран, как Египет, быстро обзавелись собственными династическими амбициями. Они захватили город-оазис Хорезм (сегодня это Хива в Узбекистане), а их правители по древней иранской традиции стали звать себя хорезмшахами. Они создали мощную армию, основу которой составили мамлюкские части, опытные в искусстве войны, и отряды степных кипчакских всадников. За два поколения хорезмшахи сменили сельджуков на троне Ирана и уже угрожали багдадскому халифу. Два таких быстро растущих, опирающихся на силу степных лошадей государства, как кипчакское и монгольское, с трудом могли бы ужиться даже в самых благоприятных обстоятельствах; слишком многое могло столкнуть их между собой: ограбленные караваны, кланы-отступники и конные набеги. Тот факт, что эти кипчаки приняли ислам[522] и поэтому считали шаманистов-монголов отсталыми, стал еще одним источником вражды. Хорезмшах Ала ад-Дин вызвал гнев Чингисхана, дав приют бежавшим от монголов тюркам и киданям. Последней каплей, переполнившей чашу терпения владыки мира, стал приказ шаха убить послов Чингисхана в центральноазиатском городе Отрар: в 1218 г. вспыхнула война. В самом начале этого конфликта трудно было предсказать, кто станет победителем. Монголы и кипчаки располагали равными по силе конными армиями, состоявшими из хорошо вооруженных, в доспехах, всадников на мощных боевых конях, а также легковооруженных лучников на маленьких степных лошадках. Обе стороны потратили четверть века на создание своих огромных империй: Чингисхан в Монголии и Северном Китае, хорезмшах в Трансоксиане и Иране. Ала ад-Дин уже отражал нападения окитаившихся киданей и поэтому не сомневался, что и с монголами сумеет разделаться. Однако Чингисхан в военном отношении оказался сильнее кипчаков. Возможно, из-за того, что монгольская армия действовала вдали от родных пастбищ, ее солдаты в буквальном смысле бились за свою жизнь, а кипчакские кланы вполне могли себе позволить переметнуться на сторону врага, если понимали, что сражение разворачивается не в их пользу. К несчастью для великих городов Трансоксианы, их наместники сочли монголов очередным отрядом грабителей из восточных степей и решили переждать набег за крепостными стенами. Они и не догадывались, что в составе монгольской конницы есть и специалисты по осадному делу, набранные в Китае. Верные хорезмшаху города – Хива, Мерв и Нишапур – пали один за другим. Чингисхан, следуя современным ему законам войны, предавал мечу жителей любого оказавшего сопротивление города. Даже капитуляция не спасала от расправы. Когда Бухара открыла свои ворота, монголы въехали на лошадях в соборную мечеть, спутав ее с королевским дворцом. «Наши лошади голодны, – сказали они служителям, – накормите их»[523]. Книжные шкафы в библиотеке мечети перевернули и наполнили сеном, превратив их в кормушки. И когда священные книги попадали в грязь, учителя ислама узрели гнев Господень в действии. Потом монголы сровняли с землей соседний Самарканд; желая сдаться Чингисхану, из разрушенного города выбрались погонщики слонов на своих животных. «Слонов нужно накормить», – взмолились погонщики, рассчитывая, что Чингисхану понравится идея присоединить их к своей армии. Но Чингисхан не питал к слонам никаких особых чувств. «Чем вы их кормите?» – спросил он. Когда ему сообщили, что слоны едят траву, он приказал выпустить животных на окраинах Самарканда, где те, за неимением подходящего корма, погибли от голода. Возможно, хан просто не мог поверить, что животные не способны сами себя прокормить. Хорезмшах, теряющий всадников и города, упрямо отказывался покориться, цепляясь за надежду, что в какой-то момент монголам придется вернуться на свою далекую родину. Он не учел, что Чингисхан не собирался думать о возвращении, пока не подавит сопротивление. Хорезмшах с верными ему мамлюками втянул монголов в напрасную погоню по Центральной Азии, Хорасану, Афганистану и далее в Индию. Такой марш – даже сегодня, когда у нас есть автомобили и асфальтированные дороги, – трудно себе представить. От Монголии до верховьев Окса – почти 5000 км, от Окса до Инда, где Чингисхан остановился, еще почти 2500 км. Даже в конце этого похода в распоряжении монголов имелась минимум сотня тысяч лошадей. Двигались они не так, как это делала бы современная армия: они путешествовали как кочующее племя – с семьями, юртами и стадами животных. Каждый солдат отправлялся в поход с десятком лошадей: пятью для сражений, тремя для еды и двумя для пастушества. Если считать мелких животных, монголы гнали с собой миллион голов скота. В день армия преодолевала от 20 до 25 км, позволяя стадам пастись по пути. Чтобы травы хватило всем, армия растягивалась по степи фронтом шириной в 16 км. Заодно это позволяло ей сохранить строй, необходимый для применения тактики загонной охоты и окружить врага, который попытался бы оказать сопротивление. Отъем у местного населения зерна и фуража, необходимого для прокорма этих огромных табунов лошадей, неизбежно приводил к резне и разрушениям, память о которых монгольская орда оставила в веках. В 1221 г., преследуя Джалал ад-Дина, сына и преемника старого хорезмшаха, – теперь уже на берегах Инда на территории нынешнего Пакистана, – Чингисхан узнал, что в Монголии зреет бунт. Войско двинулось назад через Афганистан и Трансоксиану. Одна только весть о возвращении великого хана в Центральную Азию подавила всякие мятежные настроения в Монголии. Тем временем Джалал ад-Дин бежал обратно в Иран, где продолжил досаждать монгольским армиям, пока его самого не убили разбойники с большой дороги. Личные завоевания Чингисхана близились к завершению, но его дети и внуки продолжат вести военные кампании в далеких степях.Революция Чингисхана
Современники звали Чингисхана «покорителем мира». И в самом деле, ни одному вождю или даже народу до него не удавалось одолеть могущественных соперников в Китае, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. И хотя сам он считал себя наследником шаньюя древних хунну, на деле ему удалось произвести радикальный переворот в государственном управлении степью. Веками степные коневоды пользовались некоторым военным преимуществом над оседлыми государствами благодаря тому, что постоянно упражнялись в охоте и войне. Это преимущество позволяло им совершать набеги на соседей и под шумок захватывать чужие территории, как это делали сельджуки, кидани, чжурчжэни и кипчаки. Но достижения Чингисхана были иного масштаба. Армии покорителя мира были больше войск шаньюя или тюркского кагана. Некоторые историки считают предполагаемые размеры монгольских армий преувеличением, которым мы обязаны восторженному летописцу, но нет веских причин не доверять оценкам современников, которые называли цифру в 600 000 воинов. Коневоды были, по сути, «вооруженным народом». Один миллион монголов мог снарядить на войну от 250 000 до 300 000 здоровых взрослых мужчин; эти люди вели кочевую жизнь и в любой момент готовы были выступить в военный поход. А если учесть, что все народы Внутренней и Центральной Азии были в то время объединены в огромную империю, армия в 600 000 воинов уже не покажется чем-то небывалым[524]. Небывалым – и беспрецедентным – представляется тот факт, что Чингисхан превратил степных коневодов в слаженную политическую и военную силу. Но на пути к своей цели он столкнулся с серьезными препятствиями. Кто бы ни возглавлял коневодов, ему нужно было как-то справляться с их территориальной разобщенностью. Горстка семей, совместно выпасающих свои стада, занимала площадь, которую занимал бы среднего размера город, и Монголия Чингисхана была огромной. Передача информации по степи требовала времени. Чтобы слухи о таком важном событии, как смерть вождя, достигли ушей его союзников, нужен был месяц, а официальное подтверждение подоспевало еще через 45 дней. Даже после того, как клич был брошен, требовалось время, чтобы собрать союзников и войско. Необходимо было выделить места для размещения лагерей, а также пастбища для лошадей. Это означало, что место сбора должно было быть огромным, размером с целую провинцию, способным вместить десятки тысяч лошадей и еще большее количество животных из обоза. Свидетели часто удивлялись скорости, с какой передвигались эти армии, хотя удивляться им, наверное, не стоило: такие армии, подобно акулам, должны были двигаться, чтобы жить[525]. Если бы они слишком задерживались на одном месте, то быстро истощили бы пастбища. Военные походы коневодческих армий должны были укладываться в узкое сезонное окно, открывавшееся поздней весной, когда лошади уже нагуляли жирок и когда земля обеспечивала им достаточно зеленой травы на марше. К концу лета пастбища оголялись и больше не могли прокормить мародерствующую армию. Зима часто приносила с собой низкие температуры, а иногда и ужасный «дзуд» (бескормицу), когда холода или снегопады были такими страшными, что приводили к массовой гибели лошадей и других млекопитающих. Такие «дзуды» могли положить конец кампании любого потенциального завоевателя[526]. Рассеянность коневодов по степи, смена времен года и капризы погоды означали, что армиям коневодов, дабы сохранять преимущество, нужно было действовать быстро и решительно. Чингисхану приходилось управляться не только со своими воинами, но и с их семьями. Мужчины ехали впереди, в авангарде, а женщины присматривали за детьми и скотом. Чтобы вывести лагерь из-под удара, быстро переместив его вперед или назад, в зависимости от хода сражения, и так же эффективно управляться с повозками, стоянками и животными, женщины должны были быть ловкими наездницами. Иногда они даже участвовали в сражениях. Учитывая всю ответственность, что на них ложилась, женщины в монгольском обществе пользовались большим уважением. В отличие от своих сестер из обществ оседлых, монгольские женщины скакали бок о бок со своими мужьями и обсуждали с ними военные и политические стратегии[527]. Чингисхану нужно было мобилизовать не только мужчин, он должен был учитывать в своих планах и женщин. В победах монголов немалая заслуга принадлежит матери Чингисхана и его главной жене. Чингисхан, ставший в годы бурной молодости жертвой предательства, железной рукой насаждал в своем окружении дисциплину. Другие степные вожди частенько прощали измену, даже неоднократную, но Чингисхан сурово наказывал за неисполнение приказов или неподчинение. Отряды, бежавшие от врага, пускались в расход, как и полководцы, не успевшие к сражению. Чингисхан требовал личной преданности себе и своим целям. Ближайших соратников он называл «мои лошади», имея в виду их преданность, казавшуюся почти инстинктивной, а также их силу и мужество. Себя он считал жеребцом, который кусается и лягается, чтобы не дать табуну разбрестись. Старых вождей он отодвинул. Людей продвигал по службе сообразно их заслугам, так что отважные воины, происходившие из низкого или незнатного рода, могли претендовать на право командовать сыновьями прежних вождей[528]. Чингисхан урезал самые дорогостоящие привилегии своих соратников. Как и кидани, монголы любили совмещать военные походы с охотами. Для коротких кампаний недалеко от дома это не было проблемой. Но большие охоты во время длительных завоевательных походов, задуманных Чингисханом, грозили утомить и людей, и лошадей так, что они не смогли бы дать отпор неприятелю. «Я посылаю вас за высокие горы. Вам придется переходить вброд широкие реки, – предупреждал он своих солдат. – Вы должны щадить своих лошадей». Он приказывал командирам не позволять войскам гоняться за дикими животными и не устраивать загонных охот. «Охотьтесь умеренно. Это закон. Любой, кто нарушит закон, будет схвачен и избит»[529]. Проблему принятой у степняков верности клану Чингисхан решал, составляя свою армию из отрядов, сформированных из представителей разных народностей. Конечно, вопросы верности и самоидентификации всегда были больше связаны с политикой, чем с успокоительным мифом о кровном родстве, но Чингисхану удалось объединить веками враждовавшие друг с другом народы в симметрично устроенные боевые подразделения численностью в 100, 1000 и 10 000 человек. Разные монгольские племена – джалаиры, найманы, кереиты, татары и народ, к которому принадлежал сам Чингисхан, – все они стали теперь монголами[530]; это название больше не указывало на конкретный народ, оно относилось к государству, во главе которого стоял владыка мира. В качестве уступки своим сородичам он переименовал клан, к которому принадлежали его предки: теперь они именовались Борджигинами, и в большом монгольском государстве функционировали как царский род. Чтобы сделать эти новые смешанные подразделения еще сговорчивей, он расселил их по военным колониям в дальних концах своей империи. Часть монгольского племени джалаиров, например, переселили в Ирак, а аланам, потомкам скифов, пришлось перебраться из родной кавказской степи в Пекин. Такая политика переселения лишала оккупированные народы всякой возможности взбунтоваться или даже сбежать, поскольку окружали их племена, которых они не знали и которым не доверяли. У старых вождей отобрали родовые пастбища, и Чингисхан вознаграждал или наказывал своих последователей, манипулируя доступом к тому, что было для них всего важнее: траве и воде. Отступники не могли просто раствориться на просторах степи в поисках пастбищ, потому что если бы попытались, то непременно столкнулись бы с соперничающей, лояльной Чингисхану группой, претендующей на тот же драгоценный зеленый участок. Политику Чингисхана определяла его нетерпимость к любому соперничеству. Он два года преследовал злосчастного хорезмшаха не потому, что этот слабый противник представлял для него какую-то военную угрозу, но чтобы показать, что никто не может безнаказанно бросить вызов владыке мира. По той же причине его наследники впоследствии не давали житья кипчакам западных степей и Египта[531]. Притязания на высшую власть над миром заставляли его нападать на любого правителя, который уклонялся от уплаты дани, даже на китайских императоров Сун и халифа Багдада. С другой стороны, он оставил в покое мамлюкского султана Дели после того, как тот выплатил ему кругленькую сумму. Избавленной от междоусобиц степи не суждено было увидеть игры в музыкальные стулья, которыми развлекался Северный Китай, где чжурчжэни сменяли киданей. Монгольская армия, в отличие от киданей, чжурчжэней и небесных тюрков, не стала перенимать китайскую культуру. Столица монголов осталась в Монголии. Чингисхан поощрял коневодов придерживаться традиций, повелевая им жить в юртах, а не в захваченных городах, и заниматься разведением скота, а не земледелием. Он понимал, что сила его империи зависит в первую очередь от лошади. В отличие от сельджуков, он не пытался заменить своих всадников солдатами-рабами, хотя и набирал отряды из оседлого населения, используя крестьян в качестве пушечного мяса. С помощью своей грозной военной машины Чингисхан создал величайшую империю, какую когда-либо знал мир. Но поскольку становым хребтом этой империи были коневоды, у нее имелись четкие экологические границы.Империя травы
Территориальные амбиции Чингисхана и его наследников определяла среда обитания лошади. И монгольские вожди неявно признавали это, когда описывали свои военные цели с точки зрения потребности лошади в пространстве. Хан Джучи, сын Чингисхана, которому было поручено покорить кипчаков Восточной Европы, так изложил свой приказ: «[Мы] будем скакать от Хорезма до страны булгаров [на Волге] и столько, сколько хватит копыт монгольских коней». Баян, полководец, которого отправили завоевывать Китай, похвалялся: «Наши лошади выпьют воду Янцзы, и река пересохнет». Внук Хулагу предрекал: «От Азербайджана до врат Египта вся страна будет истоптана копытами монгольских лошадей». Послушать их, так это лошади, а не всадники, мечтали об империи травы[532]. Но кто бы ни испытывал жажду завоеваний – лошадь или владыка мира, считавший себя жеребцом во главе табуна, – многое в государственном устройстве Чингисхана свидетельствовало о настойчивой заботе о лошадях и о том, как их прокормить. Чуть ли не первое, что он сделал после обретения верховной власти, – это возложил ответственность за выпас лошадей на самых верных своих помощников. Его личная стража, которая быстро увеличилась до 10 000 человек, пасла растущие табуны лошадей, принадлежавших покорителю мира, и ухаживала за ними. В военных планах монголов особое внимание уделялось пастбищам. Каждый раз в начале новой кампании командиры высылали вперед гонцов с приказом убрать весь скот с пастбищ, которые предназначались для выпаса животных армии вторжения. Любое другое использование земли, будь то для земледелия или для охоты, было запрещено[533]. Как сказал один монгольский военачальник, «большинство неудач нашей армии объясняется гибелью животных, которых не поили и не кормили»[534]. Чтобы обеспечить лошадям достаточное количество корма и воды, полководцы разделяли войска и, назначив дату встречи, отправляли их к месту сбора разными маршрутами[535]. Авторы из оседлых государств, например арабский историк Ибн Асир, думали, что монгольская армия действует без всякой логистической поддержки, поскольку за нею не тянулись бесконечные обозы из верблюдов и слонов[536]. На самом деле логистика монголов была тщательно продумана[537]. Войсковые части передвигались вместе со стадами, принадлежавшими воинам и их семьям; именно так в Иран перегнали 17 млн голов скота. В обязанности военачальников входил контроль над этими миграциями. Монголы не просто завоевывали земли, где могло процветать скотоводство, а оккупировали их. Не раз случалось так, что поводом к войне служили пастбища. Когда турецкий султан нахально сообщил соседу – монгольскому военачальнику, что он со своей свитой планирует перезимовать на богатых пастбищах Мугана (ныне разделенного между Ираном и Азербайджаном), монгол, считавший Муган своей территорией, обиделся, но попридержал удар. Он потихоньку снялся с лагеря в Мугане и издалека наблюдал за тем, как тюрки раскидывают бесчисленные цветастые шатры, а их увешанные драгоценностями жены и наложницы устраивают увеселительные прогулки. Небольшой монгольский отряд застал этот невооруженный лагерь врасплох, заставив султана бежать и захватив множество женщин, а также их золото. Но главным призом стали сами пастбища. Монгольский полководец отдал Муган верным ему войскам[538]. Контроль над пастбищами лежал в основе монгольской государственности – прежде всего по причине постоянного роста численности лошадей. Когда монголы еще жили в Монголии, лошадей у них было около 3 млн, но в созданной ими степной империи это поголовье увеличилось до 10 млн, что составляло половину всех лошадей в мире. Одновременно монголам были теперь покорны и огромные массы оседлого населения Северного Китая, Центральной Азии, Ирана и Афганистана. То, как монголысправлялись с конфликтами между оседлыми народами и скотоводами, определило устойчивость монгольского правления, а также историческую репутацию монголов, возможно, несправедливую. Считается, что в своем отношении к покоренным народам монголы были безжалостными и беспринципными, особенно когда дело касалось их вечной нужды в пастбищах. Историк XIV в. писал: «Некоторым войскам он дал места без меры на границах земель киданей и чжурчжэней и в пограничных районах Монголии»[539]. В этих местах Чингисхан попросту отнял землю неприятеля и отдал ее своим солдатам. Его внук Ариг-Буга в одном из своих походов вторгся в регион Или в центральной степи. Он отобрал у крестьян урожай зерна и кормил им лошадей в зимние месяцы[540]; крестьяне умерли от голода[541]. Когда вставал вопрос, накормить ли лошадей или людей, интересы лошадей стояли на первом месте. Подход монголов к расселению своих армий резко отличался от методов предыдущих степных завоевателей, которые после вторжения в захваченных землях массово не селились. Столетием раньше правители-сельджуки захватывали земли для себя и своих приближенных, но простым коневодам, которые за ними шли, приходилось самим искать себе пастбища. Это не раз приводило к конфликтам и беспорядкам, в том числе к похищению султана Санджара; к тому времени, когда монголы добрались до Ирана, власть сельджуков рухнула окончательно. А вот главнокомандующий монгольской армией, завоевав какую-нибудь местность, выделял своим воинам строго определенные пастбища, и те продолжали пасти скот. Гильом де Рубрук, францисканский монах, сообщал:…всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своею властью большее или меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною и осенью[542][543].Такая строгая организация пастбищного животноводства служила тому, чтобы помешать армии вторжения смешиваться с покоренными народами. Временами монголы задумывались о дальнейшем расширении своих пастбищ. Захватив Северный Китай и свергнув «золотого хана», Чингисхан собирался искоренить земледелие на этих широких равнинах и всю землю превратить в пастбище для монгольских лошадей. Его советники из числа киданей и чжурчжэней, потомки коневодов, некогда правивших Северным Китаем, убедили его не проводить эту геноцидальную политику, поскольку налог на сельское хозяйство с лихвой компенсировал бы утрату пастбищ. Парадоксально, но это решение, вероятно, предопределило судьбу монголов в Китае; оно означало, что они навсегда останутся чужими на этой земле. Если бы они превратили Северный Китай в огромное пастбище, их, вероятно, никогда бы оттуда не изгнали.
Сколько угодно золота и серебра
Последнего коня, на которого садился Чингисхан, звали просто Жосоту Боро – «рыжевато-серый». Преследуя на охоте стадо диких ослов, императорская свита попала в самую гущу стада, и один из ослов врезался в Жосоту Боро. Конь встал на дыбы и сбросил стареющего хана. От последствий этого падения тот так и не оправился. На смертном одре Чингисхан призвал монголов выбрать преемником его третьего сына, Угэдэя, удачливого полководца, которого любили за щедрость и гостеприимство. Трудности, с которыми предстояло столкнуться Угэдэю, управляя завоеваниями отца, наглядно продемонстрировал курултай – совет, созванный для провозглашения его верховным ханом. На совет в Каракоруме съехалось столько членов семьи Чингисидов, столько офицеров с титулами вроде нойон, нукер и курчи, а также рабов и прихлебателей, что у организаторов закончилась еда – это было фиаско легендарного гостеприимства Угэдэя. Да и пастбищ в окрестностях Каракорума не хватило, чтобы прокормить всех животных[544]. Совет пришлось распустить досрочно, и многие из его участников поклялись, что второй раз сюда не приедут. Размер империи уже становился проблемой, однако это не помешало Угэдэю отправлять монголов в новые завоевательные походы в Иран, Восточную Европу, Индию, Корею и Китай. Широкой души человек, управляющий расширяющейся империей, Угэдэй ежегодно преодолевал тысячи километров, перевозя с места на место свой великолепный лагерь и встречаясь с подданными – важный элемент государственного управления в эпоху, когда личные связи были важнее законов и процедур. Давая указания разбросанным по степи монгольским военачальникам и советуясь с ними, Угэдэй полагался на систему быстрых почтовых лошадей. Монгольский ям, созданный по образцу древней персидской почты, мог всего за месяц доставить сообщение из Армении в Каракорум. Такая скорость стала возможна благодаря размеру и плотности сети ямов: между столицей Угэдэя Каракорумом, например, и Пекином, было устроено 37 почтовых станций, по одной на каждые 25 км[545]. Согласно Марко Поло, всего в системе было 10 000 почтовых станций и 200 000 лошадей. И наконец, особенно резвые лошади, натренированные скорее для спринта, чем для выносливости, позволяли курьеру покрывать до 300 км в день. На самом деле существовало несколько отдельных почтовых систем: одна, описанная выше, передавала срочные дипломатические сообщения по Европе и Азии. Вторая доставляла только сверхсекретные письма, которыми обменивались члены правящей семьи. Третья перевозила тяжелые грузы, например подарки, и двигалась в неспешном, зато безопасном темпе. Местные ханы Чингисиды часто злоупотребляли ямской системой, используя почтовых лошадей для своих собственных коммерческих нужд. Монгольские ханы все чаще занимались крупным бизнесом: рынки скота и предметов роскоши возникали в пустой степи повсюду, где бы ни разбил Угэдэй свой лагерь. Расправившись со всеми соперниками в степи и установив единый налог на границах империи, монголы добились того, что купцы стекались ко двору Угэдэя, в изобилии поставляя ему и его окружению товары по низким ценам. Монголы знавали бедность, зато теперь могли купаться в роскоши[546]. Монгольский двор с самых первых шагов налаживал деловое партнерство с известными купцами. Один такой купец из Центральной Азии, по имени Хасан Хаджи, стал первым помощником самого Чингисхана, которому он продавал прекрасных лошадей с запада в обмен на соболиные и беличьи шкурки. Возможно, Хасан Хаджи был заодно послом или шпионом Чингисхана – в Центральной Азии торговцы лошадьми частенько брали на себя эту роль. Преемники Хасана Хаджи управляли прибыльными торговыми домами в интересах Угэдэя и его семьи, занимая у своих покровителей деньги и отдавая им до 70% прибыли. Иностранные купцы вынуждены были торговать через хана, обменивая свои серебряные монеты на бумажные монгольские деньги и покупая на них товары для перепродажи[547]. Установив такие порядки, монгольский хан добился того, что в руки ему стекались огромные богатства, которые затем с поразительной расточительностью проливались на простых монголов. Угэдэй частенько открывал свою сокровищницу для всех желающих, разрешая каждому увезти с собой сколько угодно золота и серебра[548]. Преданность коневодов, которую хан покупал подарками, по-прежнему нужна была ему больше злата. Чингисиды произвели в торговле революцию, которая перенаправила поток азиатских богатств в руки монголов и укрепила их лояльность власти и политическую сплоченность. Новообретенное богатство монголов превратило их из продавцов лошадей в покупателей. Монгольская элита охотно коллекционировала коней из Трансоксианы и Ирана. Выращенные в мягком климате Западной Азии, эти лошади были выше и сильнее монгольских. Летописцы называли их 異 (yi) – «необыкновенными лошадьми». Кое-каких лошадей монгольские вассалы отдавали в уплату налогов, но существовала и активная коммерция. И хотя свидетельства фрагментарны, можно предположить, что каждый год по всей Азии продавалось и покупалось до 500 000 лошадей, общей стоимостью от 1 до 5 млрд долларов на современные деньги. Богатые ханы получали огромный доход, который затем делили между миллионом монголов. Спрос на «необыкновенных лошадей» был таким, что торговцам приходилось везти тяжелых боевых коней даже из Франции. Лошади были самым ценным товаром в Монгольской империи. Монгольская революция привела к массовому оттоку торговли с оседлой периферии в богатую, мощную и умиротворенную степь. После смерти Угэдэя, настигшей его во время легендарной попойки в 1241 г., власть в конце концов перешла к его племяннику Мункэ. В отличие от расточительного кутилы Угэдэя, новый хан придерживался традиционалистских взглядов, свойственных простому монгольскому коневоду. Злоупотреблений он не терпел и настаивал, чтобы богатые ханы платили за использование почтовой системы в личных интересах. Как бы ни процветали в тот момент монголы, Мункэ понимал, что, только оставаясь в степи, они могут сохранить свою империю единой и избежать участи, постигшей чжурчжэней, киданей и сельджуков, – ассимиляции. Он считал, что монголы должны править из Каракорума и собирать дань с оседлых народов, но не жить среди них. В середине XIII в. Мункэ правил государством размером 12 млн кв. км – восемью процентами мировой суши, а его владения простирались от Желтой реки в Китае до Дуная на западе и от Волги на севере до Пенджаба на юге. И тем не менее Мункэ отправил своих братьев Хулагу и Хубилая раздвигать границы империи еще дальше[549]. Возможно, занять двух этих амбициозных лидеров делом было разумной идеей. Итак, Хулагу послали завоевывать Ближний Восток, а Хубилая – воевать с Сун, закрепившимися в Южном Китае. Судьба этих двух братьев-завоевателей иллюстрирует те очень разные трудности, с которыми столкнулись монголы, пытавшиеся распространить свою власть за пределы степи. В 1258 г. Хулагу укрепил власть монголов в Иране, где подобные степным природные условия подходили для размещения монгольских военных поселений. Потом он вспомнил о древней кровной вражде с другой группой тюрков-кипчаков – с мамлюкскими султанами, которые правили в Каире и Дамаске[550]. Поводом к войне послужил, как всегда, отказ мамлюков выдать кипчаков, бежавших от прошлых монгольских вторжений. Мамлюки не набирали наемников из степи, как это делал хорезмшах. Их тренированные всадники ездили на превосходных, дорогих жеребцах (пусть их и было меньше числом), которые приобретались в Иране и Аравии. Чтобы сравняться по силе с кипчаками и уж тем более чтобы одолеть их, монголам пришлось бы положиться не на качество, а на количество, что они и сделали, снабдив каждого из своих солдат тремя, а то и четырьмя лошадьми. Однако в Сирии не хватало воды и подходящей травы для 100 000 монгольских лошадей: для прокорма такого войска потребовалось бы от 20 до 40 кв. км новых пастбищ ежедневно, а также без малого 6 млн литров воды. Все это было попросту недоступно. Не имея возможности использовать свое привычное преимущество в численности, монголы потерпели жестокое военное поражение. Несолоно хлебавши они вернулись на свои пастбища в Восточной Анатолии и Иране, которыми Хулагу и его семья управляли из лагерей на протяжении еще нескольких поколений. Хулагу так и не удалось расширить империю за пределы ее экологических границ. А вот военные кампании Хубилая в Китае оказались успешнее походов Хулагу на Ближнем Востоке и коренным образом изменили монгольское государство. В 1251 г., посылая Хубилая воевать с Сун, Мункэ никак не мог себе представить, что его младший брат проигнорирует наказ Чингисхана и променяет степь на оседлую жизнь.Дойка кобыл в Шанду
Завоевав Пекин, монголы, перебравшиеся в Северный Китай, еще несколько десятилетий сторонились плотно заселенных земель к югу от реки Янцзы, где династия империи Сун правила обломками государства, известного как Южная Сун. Верховный хан жил во Внутренней Монголии, номинальной столицей его странствующего двора оставался Каракорум, а хан, управлявший китайскими провинциями, предпочитал пекинской жаре прохладу Шанду (Марко Поло называл его Ксанаду). Однако амбициозный Хубилай решил, что окончательное завоевание Китая сделает его наиболее вероятным претендентом на верховную власть в Монгольской империи. И тогда он перенес свой двор из Шанду на 275 км к юго-востоку, в Пекин, переименовав его в Ханбалык – «город хана», а самого себя объявил императором Китая, первым из династии Юань. Он 16 лет воевал с империей Сун и наконец покорил ее. В знак признания этого достижения в 1264 г., после смерти Мункэ, совет старейшин провозгласил завоевателя Китая верховным ханом. Его брат Хулагу, сидя в далеком Иране, признал его преемником Чингисхана, Угэдэя и Мункэ. Однако их родичи, правившие коневодами Монголии, Центральной Азии и западных степей, колебались. Они предвидели, что желание Хубилая быть одновременно Сыном Неба и верховным ханом степи окажется неосуществимым и будет угрожать целостности империи. Хубилай публично демонстрировал верность традициям коневодства такими способами, которые показались бы нарочитыми степным всадникам и совершенно чуждыми его китайским подданным – например, он напоказ пил кобылье молоко. Пока его придворные спасались от летней жары в прохладе Шанду, Хубилай отбирал для доения самых жирных кобыл своего личного стада. Доильными залами служили войлочные юрты, где Хубилай и его наследники могли наблюдать за процессом. Зимой, когда двор возвращался в Ханбалык, лошадей привозили из Шанду для церемониального доения. Высокопоставленные чиновники лично кормили лошадей и готовили свежее и перебродившее кобылье молоко – айрак – для императорской свиты[551]. Но Хубилай рассорился со своими степными сородичами не из-за символов, а из-за ресурсов. Император Юань и одновременно верховный хан, он вел расточительные войны против Сун, корейцев, японцев и даже бирманцев. Из-за расходов на эти войны количество предметов роскоши, которыми можно было поделиться с монголами в степи, сокращалось. Но и это еще не все: Хубилай рассчитывал, что монголы станут снабжать его боевыми конями, но платить за них собирался бумажными деньгами, что еще сильнее оттолкнуло соотечественников. Его степные подданные теряли охоту поставлять лошадей своим кузенам из Ханбалыка, и Хубилай принялся совершать набеги на несговорчивых монгольских вождей: некоторые подчинились, но без своих последователей или стад. Драгоценных ремонтных лошадей по-прежнему не хватало; в какой-то момент Хубилаю удалось раздобыть всего 70 000 коней при годовой потребности в сотню тысяч[552]. Порой приверженность Хубилая своим обязанностям императора вступала в противоречие с потребностью государства в поддержании военной мощи. Однажды его тайный совет рекомендовал выделить дополнительную землю в окрестностях Ханбалыка для выпаса боевых лошадей. Хубилай уже готов был согласиться, когда к совету присоединилась его главная жена, Чаби. Когда она поняла, что происходит, то выступила против. «Если бы нам понадобилась эта земля для пастбищ, когда мы, монголы, основали Ханбалык, мы бы ее взяли. Теперь же наделы закреплены за войском. Зачем же нам теперь отнимать новые земли?» Хубилай отклонил предложение[553]. Нарастающий дефицит лошадей вынудил императора Юань принять меры не менее непопулярные, чем реквизиция земель. Столкнувшись с необходимостью лишить Сун возможности раздобыть лошадей, он ввел запрет на экспорт этих животных и ограничил право населения пограничных районов владеть ими. Сами монголы могли и даже должны были ездить верхом, но многим категориям китайских подданных запрещалось даже садиться на лошадь: монахам, ученым, имамам, уйгурам, чжурчжэням, киданям, корейцам, торговцам, рабочим, охотникам, купцам и певицам. Только китайские чиновники с правительственной печатью имели право ездить верхом. Доносчикам полагалось вознаграждение, а наказанием за любое нарушение была смерть. Монголы решились пожертвовать даже такими важными видами экономической деятельности, зависевшими от лошадиной силы, как вращение жерновов и подъем барж по Желтой реке[554]. Следующим шагом император Юань переписал всех лошадей в Китае и реквизировал их для военных нужд, в результате чего в Ханбалыке скопилось огромное количество животных, для прокорма которых не хватало пастбищ. Лошади стали большой помехой для окрестных крестьян. Их можно было кормить подходящим зерном, но тогда на одного конника пришлось бы тратить в пять раз больше средств, чем на пешего солдата, что истощало казну[555]. Оседлой державе всегда было нелегко раздобыть лошадей, даже если это держава монгольская.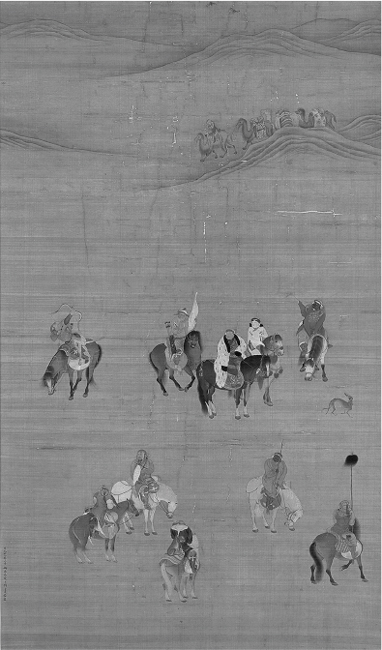 Чаби, императрица Юань, на охоте. Лю Гуаньдао, около 1280 г.
Чаби, императрица Юань, на охоте. Лю Гуаньдао, около 1280 г.
Кроме того, император экспериментировал с закупками лошадей у неизвестных поставщиков, в Тибете и Юньнани. Это были совершенно другие породы, подходящие для гор Юньнани и Северной Бирмы. С их помощью монголам удалось завоевать Южный Китай, но даже бирманское королевство Паган теперь имело возможность сопротивляться – лошадей они ввозили из Бенгалии. Количество лошадей на одного монгольского воина сократилось с пяти до трех, а затем и до одной. В итоге бóльшая часть монгольской армии вынуждена была сражаться в пешем строю, лишившись тактического преимущества. В 1294 г., к концу долгого правления Хубилая, Китай династии Юань все больше напоминал традиционное китайское государство, а не степную империю, располагающую безграничной конной силой. В скором времени монголы Монголии вернулись на пути своих степных предков: они совершали набеги на юаньский Китай, чтобы добиться больших привилегий от своих окитаившихся братьев. В 1368 г. ослабленный династическими распрями, неурожаями и непрекращающейся чередой других несчастий, словно бы намекающих на утрату благосклонности Небес, последний юаньский император бежал из Ханбалыка в степь, спасаясь от разгорающегося восстания. Потеряв Китай, никто из Чингисидов больше не мог претендовать на звание верховного хана. Империи пришел конец. Китайцы прогнали монголов по Внутренней Монголии, сожгли дотла знаменитый дворец наслаждений Хубилая в Шанду, а после разграбили Каракорум. В самом же Китае они принялись, насколько это было возможно, устранять все следы правления Чингисидов.
Наследие монголов
Интересно, что в современной Монголии исторических следов Чингисхана тоже почти не отыщешь. Кроме развалин Каракорума, здесь нет видимых памятников эпохи Чингисидов, а до недавнего времени не было и современных памятников Чингисхану. Место его захоронения остается тайной, хотя поздние историки династии утверждали, что в гробнице, помимо самого покорителя мира, находятся останки 40 меринов и 40 красавиц в богатых шелковых одеяниях и драгоценных украшениях[556]. После падения Монгольской империи Монголия вернулась к обычаям, которых придерживалась веками. На базе монгольских военных колоний складывались новые кланы. Местные ханы рвались к власти и воевали между собой, управляемые внешними силами, как когда-то ими управляли чжурчжэни. Парадоксально, но самое продолжительное влияние монголы оказали на самые дальние из покоренных ими земель – Иран и Восточную Европу. Краткосрочные последствия военного похода Хулагу в Иран в 1235 г. были исключительно разрушительными. Монголы вели беспощадную кампанию, заботясь больше о пастбищах для лошадей, чем о выживании местного люда; как сообщает францисканский миссионер XIII в. Гильом де Рубрук, «на вышеупомянутой равнине прежде находилось много городков, но по большей части они были разрушены татарами [так он называл монголов], чтобы иметь возможность пасти там свои стада, так как там были наилучшие пастбища»[557][558]. Хулагу и его потомки оставались верны степным традициям и правили Ираном из кочевых лагерей с территории современного Азербайджана, где они нашли лучшие пастбища, щедро орошаемые талым снегом с гор. Они дали своим войскам право пасти стада в окрестных землях, и отряды монгольских племен, джалаиров, ойратов и сулдусов, которых верховный хан выделил для вторжения, пасли скот на территории современной Турции, в верховьях Тигра и Евфрата и в Северном Ираке. Некоторые из выделенных им пастбищ были когда-то важными центрами сельскохозяйственного производства. Возможно, к приходу монголов здешнее оседлое население уже сократилось из-за войн и болезней, и поэтому земли пустовали. Но также возможно, что монголы просто вытеснили прежних жителей с насиженных мест[559]. От монголов эти места пострадали даже сильнее, чем от сельджуков, – и все из-за размеров монгольской армии. Сельджуки прибыли с 4000 семей – всего их было, вероятно, около 20 000 человек – и превратили в пастбища пахотные земли Трансоксианы и Хорасана. Монголы привели с собой в Иран несравнимо большее число коневодов из Монголии и Центральной Азии. По оценкам одного из исследователей, при монголах в Иран иммигрировал миллион скотоводов[560], в то время как численность оседлого населения страны, судя по податным спискам монголов, сократилась с 2,5 млн до 250 000 человек. Хотя у нас нет точных данных о численности населения за последующие века, оценки, датируемые XVIII в., позволяют предположить, что даже через 400 лет после монгольского вторжения треть населения Ирана – один миллион из трех – составляли скотоводы. Это объясняет, почему районы Ирана с самыми привлекательными пастбищами, включая Азербайджан (нынешние Иранский Азербайджан и Азербайджанскую Республику), район Горгана и часть гор Загрос стали тюркоязычными. Тюрки в армиях захватчиков превосходили по численности этнических монголов, чей язык к концу XIII в. вышел из употребления[561]. Многие этнические группы, которые впоследствии будут править иранским государством, происходили из Азербайджана, в том числе Ак-Коюнлу («белобаранные»), Сефевиды, Афшары и Каджары. Еще дальше на юг, в Ширазе, власть была в руках тюркоязычных кашкайцев[562]. Только в ХХ в. тюркские коневоды уступили политический контроль в Иране говорящим на персидском языке обитателям городов. Сегодня многие иранцы говорят о том, что монгольское нашествие стало самым травмирующим событием в их истории, хотя ученые расходятся во мнениях, действительно ли монголы навсегда уничтожили сельскохозяйственный потенциал Ирана. Иран находится в засушливой зоне, которая сильно зависит от искусственного орошения[563]. Эта страна всегда была уязвима для социальных и экологических потрясений, сопровождающих крупные войны. Кажется очевидным, что монгольские нашествия нанесли ущерб хрупкой ирригационной инфраструктуре, что и привело к упадку сельского хозяйства. Однако трудно сказать наверняка, усилили ли коневоды тенденцию к опустыниванию или просто воспользовались малоплодородной землей, откуда постепенно уходили крестьяне. Дело осложняется еще и свидетельствами, подтверждающими, что после жестоких вторжений сельскохозяйственные общины возрождались вновь. Например, в 1230-х гг. монгольский наместник в Трансоксиане Масуд-бек заново отстроил города, разрушенные во время первого вторжения Чингисхана. Он восстановил оросительные каналы, ввел новые деньги и положил конец конным набегам и грабежам. Часть этих благ снова канула в лету в период столкновений, вызванных смертью Мункэ в 1259 г.[564] Еще через десять лет два младших хана, боровшихся за власть в Трансоксиане, договорились не разрушать города и принесли клятву на золоте, что «отныне они будут жить в горах и на равнинах и не будут разбивать лагеря вблизи городов, пасти животных на пахотных землях или забирать имущество у крестьян»[565]. В конце XIII в. Марко Поло отмечал, что монгольские гарнизоны содержали себя за счет «огромных стад скота, которые им приписаны, и молока, которое они отправляют в города, чтобы продать в обмен на необходимую провизию»[566]. Как видно, сосуществование было вполне возможно. Монголы научились разумно управлять Ираном, собирая налоги с крестьян и горожан. Люди вернулись на пахотные земли и восстановили оросительные каналы. Шло время, и монголы все меньше походили на чужеземных завоевателей. Они не ассимилировались среди оседлого населения Ирана; скорее, они ассимилировались среди уже имевшегося в регионе коневодческого населения и усилили его. И хотя со временем монгольское государство в Иране распалось на враждующие карликовые ханства, а в 1357 г. власти лишился последний монгольский хан, Иран после периода монгольского правления по-прежнему, и даже более, чем когда-либо, оставался страной хороших лошадей, неиссякаемым источником конной силы для будущих завоевателей. Наследие, оставленное монголами в Восточной Европе, отличалось от того, что они завещали Китаю и Ирану. Здесь их не изгоняли и не ассимилировали: они сохранили свои коневодческие традиции и не смешивались с покоренными народами. В результате здесь они просуществовали гораздо дольше – по некоторым оценкам, до 1783 г. Поначалу монголы вели военную кампанию в Восточной Европе с легендарной своей жестокостью, неустанно преследуя беглых кипчаков, искавших спасения в княжествах Киевской Руси[567], Венгрии, Польше и Болгарии[568]. Численность населения в этих странах резко сократилась из-за того, что монголы отбирали посевы и пашни, чтобы прокормить своих лошадей. Кроме того, монголы набирали вспомогательные войска из покоренных народов – например, 43 000 русов были отправлены воевать в Китай[569]. На восстановление Восточной Европы ушли десятилетия. Польские короли поощряли иммиграцию из Западной Европы, которая могла бы помочь вернуть к жизни разрушенные города и деревни[570]. Восточноевропейские правители сдерживали монголов, выплачивая им огромную дань. В любом случае завоеватели и не собирались селиться среди завоеванных. Они продолжали пасти скот в западной степи, где находились в непосредственной близости от подвластных народов и откуда можно было заниматься торговлей и собирать дань[571]. Этнические монголы составляли ничтожное меньшинство среди этих тюркоязычных пастухов[572], которых почему-то стали звать татарами. Чингисид, который ими правил, путешествовал по своим степным владениям в огромном шатре из белого шелка: белый цвет обозначал его как повелителя запада. Солнце, отражающееся от ханских шатров, дало название Золотой Орде[573][574]. Под его властью немногочисленные степные всадники, которых было всего-то около 140 000 человек, устанавливали законы для оседлого населения численностью от 4 до 5 млн[575]. Ситуация изменилась, только когда потомки русов и сами овладели конной силой. Со временем монгольское присутствие в Восточной Европе стало менее разрушительным. Новое процветающее Московское княжество богатело за счет торговых связей, созданных монголами. Об этих связях свидетельствует тюрко-монгольская лексика в русском языке: денга (деньги), ям (почтовая служба), тамга (пошлина). Московские князья вскоре переняли эти монгольские институты, и через несколько поколений люди позабыли, что подсмотрели их у монголов. Еще они позаимствовали монгольское слово, обозначающее лошадь, mörin, то есть мерин, кастрированный жеребец[576]. В конце концов Московское княжество превратилось в самое сильное государство – преемник Монгольской империи. Однако самое важное наследие монголов заключалось в огромных масштабах их свершений. Чингисхан и его потомки поставили себе на службу силу лошадей так, как не делал до них никто в степи, несмотря даже на то, что монголы сознательно подражали имперским амбициям хунну и тюрков. Они утерли нос своим предшественникам, завоевав такие крупные оседлые государства, как Иран, Киевская Русь, Венгрия и Китай. Баснословные богатства монголов и их вызывающе роскошный образ жизни сделали монгольское правление эталоном для будущих степных честолюбцев. Распад Монгольской империи не помешал попыткам восстановить ее, последствия чего испытают на себе Иран, Китай и даже Индия.9 Верхом на урагане
Тимур и его потомки, 1370–1747 гг

Скачки
Должно быть, учуяв дом, лошади ускорили шаг, когда в 1404 г., после семи лет непрерывных военных походов в Армении, Грузии, Сирии и Анатолии конница Тамерлана возвращалась домой, в благословенный Самарканд. В столице, которую он так редко посещал, Тимурленг – «хромой», если использовать его персидское имя, – хотел дать войску отдохнуть. Под сводами бирюзово-голубых резных куполов великий полководец выгружал богатую добычу и задумывал следующий поход. Его солдаты отдыхали и пировали в шатрах, разбитых у реки Зарафшан (своим персидским именем, «золотоносная», река обязана богатым золотом отложениям), которая несла свои воды мимо фруктовых садов и тутовых рощ Самарканда. Голодные боевые кони тоже пировали: к их возвращению были заготовлены огромные запасы фуража. Толпы жителей стекались в войсковые лагеря, чтобы полюбоваться прекрасными животными и послушать сказителей и песни девушек, выступавших перед воинами[577]. Чтобы развлечь двор и народ Самарканда, Тимур устроил той, то есть праздник, гвоздем программы которого были конные скачки. Длина скакового круга составляла 32 км – обычная дистанция для тюрко-монгольских игр; ветряная мельница, едва заметная на горизонте, обозначала дальний край круга, а рядом с помостом для знатных зрителей на земле лежала веревка, служившая финишной чертой. Посреди ровного поля, золотившегося под осенним солнцем, там и сям росли чинары. Невидимые в солнечном сиянии оросительные каналы пересекали местность. Невзирая на риск попасть под копыта, вдоль всей дистанции на корточках сидели зрители, мечтавшие увидеть победителей вблизи. Те из них, что расположились поближе к финишной черте, готовились кинуться вперед и коснуться ладонями победившей лошади – в надежде, что животное поделится с ними жизненной силой[578]. Такие скачки устраивались на каждом большом собрании эмиров и военачальников, а еще в Навруз (Новый год) и Байрам – самый важный для мусульман праздник. Певцы декламировали хорошо известные степные сказания, вспоминая о славных скачках прошлого, где побеждали и проигрывали древние герои. Одна всем известная история с художественным преувеличением повествовала о скачках, которые продлились целых три месяца. В другой два героя угрожали друг другу войной, и хитрый хан отправил их в гонку такую долгую, что победителя определить так и не удалось[579]. Эта история могла бы послужить метафорой бесконечных походов самого Тимура, которые в общей сложности растянулись на 30 лет. Скачки, как и охота, поддерживали лошадей в хорошей форме. Устроив по возвращении в Самарканд еще один той, Тимур, которому тогда уже стукнуло 68 лет, давал понять своей армии, что его путь завоевателя еще не завершился. Однако той служил и другой цели. Лучшие конники Тимура состязались ради призов – прекрасных лошадей и седел, отделанных серебром[580]. В скачках участвовали тюрки, таджики (оседлые персы), курды и арабы, причем каждый выступал на лошади из своей страны. Так Тимур мог продемонстрировать свою конную силу избранной аудитории. С трибуны для важных гостей зрелищем наслаждались чужеземные послы; об увиденном они доложат своим повелителям, среди которых были и король Кастилии, и мамлюкские султаны Египта и Индии[581]. Скачки позволяли Тимуру похвалиться своей непобедимой конницей перед всеми соседями и союзниками. Один из членов дипломатического корпуса блистал своим отсутствием, хотя именно его господину Тимур хотел бы отправить самое сильное послание. Несколькими месяцами ранее в Самарканд явился посол из Китая, которым тогда правила династия Чжу (империя Мин), с миссией напомнить Тимуру, что императоры Мин победили монгольскую Юань и сменили ее на троне и поэтому Тимур как правитель зависимого государства, Ирана, должен платить им дань и признать над собой власть императора Мин по имени Чжу Ди[582]. Китайский посол добавил, что Тимур уже задолжал дань за семь лет. В ответ Тимур приказал заковать посла и его свиту в железные кандалы, пригрозил повесить их и конфисковал караван из восьми сотен верблюдов, с которым они прибыли[583]. За 200 лет до этих событий иранский хорезмшах приказал казнить послов Чингисхана в Отраре, чем спровоцировал войну, в результате которой монголы завоевали Иран. Похоже, подобные исторические параллели Тимура не тревожили. Тимур считал себя непобедимым. В его распоряжении была 100-тысячная конница и, вероятно, с полмиллиона лошадей. Подобно тому как богатая лошадьми Монголия послужила ресурсной базой Чингисхану, так и Иран вместе с Трансоксианой и Афганистаном обеспечили Тимуру плацдарм для завоеваний[584]. В XIV и XV вв. Иран, сельскохозяйственные земли которого монголы в свое время превратили в пастбища, изобиловал лошадьми. Климат здесь был мягче, чем в Монголии, где холодные зимы регулярно сокращали численность конского поголовья. Соседние государства завидовали Ирану и охотно импортировали иранских лошадей для своих конюшен и племенных хозяйств[585]. Одни только султаны Дели ежегодно скупали их десятками тысяч. Монгольское племя из Восточного Ирана, никудерийцы, вырастили 400 000 лошадей на продажу и стали такими богатыми и влиятельными, что отказывались подчиняться кому бы то ни было, пока их не усмирил Тимур. Великолепные кони из Ирана поставлялись и ко двору династии Мин. Говорят, даже прославленный китайский мореплаватель Чжэн Хэ, возвращаясь из Персидского залива в Китай, не упустил возможности погрузить на свои парусники сотню иранских лошадей[586]. После монгольского завоевания Иран превратился в конную сверхдержаву[587]. Своими превосходными качествами иранские лошади обязаны были не селекционному разведению или генетике – это современные понятия[588]. Заводчики не вели племенных книг[589], кобыл и жеребцов-производителей не записывали. Спрос на лошадь определялся местом ее происхождения и мастерством заводчика в той же степени, что и кровной линией. Лошади крайне подвижны и охотно размножаются естественным путем, а Тимур, возвращаясь из многочисленных походов, пополнял свои племенные хозяйства лошадьми из Грузии, Курдистана, с Аравийского полуострова и с Волги, обогащая породу и не думая о ее чистоте[590]. Конные воины и торговцы, разбиравшиеся в лошадях, понимали, однако, значение места происхождения и тренировок для развития у животного необходимых качеств. Имя клана коневодов служило, видимо, чем-то вроде современного бренда класса люкс. Каждая лошадь имела на задней ноге клеймо (тамгу) своего клана – оно служило своего рода торговой маркой и знаком качества. Весной заводчики устраивали празднества в честь клеймения молодых жеребят. Историки времен Тимура ничего не говорят о породах, вероятно, потому, что в те времена лошадь называли не по породе, а по имени вырастившего ее клана[591]. Торговцы различали лошадей по происхождению: «тюркская» – из Северо-Восточного Ирана, Северного Афганистана и Трансоксианы, «персидская» или «курдская» – из Западного Ирана; «арабская» – из Ирака, который тоже входил в империю Тимура. Тюркские лошади отличались прежде всего скоростью, а лошади из горного Курдистана – широким крупом и твердой поступью. В отличие от всадников Чингисхана, воины Тимура с удовольствием ездили на жеребцах, которые были крупнее, сильнее меринов, но и дороже в содержании. Лучших лошадей называли аргамаками; это тюркское слово китайцы переводили как «высокие кони». Аргамаки считались элитными животными – и это среди иранских лошадей, любую из которых можно было с полным правом назвать «совершенной машиной для верховой езды». Облик лошадей Тимура дошел до нас в крайне идеализированном виде на иллюстрациях к роскошным рукописям, созданным его историками. Животные словно парят над месивом расчлененных тел и отрубленных голов, вскинув точеные ноги в грациозном жесте повиновения всаднику. Прекрасно изображены масти лошадей, на которых ездили офицеры армии Тимура: рыжие с белым пятном на лбу и белыми передними ногами; соловые (золотистые), каких предпочитал Чингисхан; вороные, как жеребец древнего героя Ирана Сиявуша; и серебристо-серые – сам Тимур восседал на таком коне, возвращаясь в Самарканд[592]. Искусствовед Шейла Кэнби утверждает, что эти изображения представляют собой портреты реальных лошадей и предвосхищают почти сверхъестественный реализм конных портретов эпохи Великих Моголов[593]. Не исключено, конечно, что художники по собственному разумению меняли масть животных, желая составить интересную композицию; как бы то ни было, здесь снова хочется напомнить о том, что эти цвета символизировали стороны света и подчеркивали грандиозные размеры империи Тимура.Возвращение в Шанду
Не сказать, чтобы происхождение Тимура давало ему право претендовать на верховную власть, однако же оно ему и не препятствовало. Тимур происходил из рода мелких монгольских ханов, которые во времена Чингисхана обосновались у реки Окс[594]. Успешными набегами Тимур привлек к себе множество последователей, несмотря на то что во время одного особенного дерзкого нападения был ранен, после чего и получил прозвище «хромой». На Тимура обратили внимание местные ханы – они начали использовать его в собственных политических целях. Тимур служил им верой и правдой, завоевав себе славу человека умелого и сообразительного, и постепенно расширял круг своих союзников и протеже. В период с 1350 по 1370 г. он обскакал и оставил в дураках бывших покровителей, которые вынуждены были либо подчиниться ему, либо бежать; вскоре Тимур уже стоял во главе широкого союза коневодов и имел надежный плацдарм в Трансоксиане и Хорасане[595]. К 1370 г. за Тимуром стояла могучая конная сила, позволявшая ему захватывать земли Восточного и Западного Ирана и собирать из мелких разрозненных монгольских и туркменских ханств иранскую империю, подобную той, которой некогда правил внук Чингисхана Хулагу. Тимур, как и Чингисхан до него, не терпел соперничества и шел на крайние меры, чтобы принудить к повиновению или наказать любого, кто осмеливался бросить ему вызов. Ханы Золотой Орды, правившие большей частью нынешней Западной России и Украины, долго оспаривали притязания потомков Хулагу на Азербайджан и Центральную Азию, а потом отвергли и притязания Тимура. Когда Золотая Орда и ее русские вассалы совершили набег на владения Тимура, он не просто прогнал их; он послал свою армию за три с лишним тысячи километров в западную степь, почти к воротам Москвы[596]. Поход Тимура в земли нынешних Казахстана и России дал русским князьям повод объявить о независимости от Золотой Орды, но позже татарские ханы вновь принудили их к повиновению. Россия оставалась под властью Золотой Орды еще столетие, прежде чем начала свою собственную экспансию в степь. Вести военные действия вдали от родных краев оказалось непросто. Зимой 1391 г. армия Тимура пробиралась сквозь снежные заносы, доходившие лошадям до живота[597]. В какой-то момент животные так исхудали, что пришлось отправить треть из них обратно в Самарканд, чтобы оставшимся хватило корма[598]. Не найдя в бескрайней степи войск Золотой Орды, Тимур организовал большую охоту, чтобы накормить свое голодное войско[599]. Жирных онагров всадники загоняли, а худых отпускали. Желая укрепить боевой дух армии, Тимур устроил парад, чтобы солдаты могли полюбоваться на него самого и его командиров, чьи кони, оружие и доспехи блистали рубинами, изумрудами и жемчугами. Музыканты подбадривали скачущих лошадей тяжелыми ударами литавр и пронзительным дребезжанием язычковых инструментов. «Со времен Чингисхана никто не видывал подобной армии», – утверждал историк эпохи Тимуридов Шараф ад-дин Язди[600]. Но духоподъемными зрелищами Тимур не ограничивался. Он поддерживал мотивацию своих войск обещанием богатой добычи; и в самом деле, в ходе кампании против Золотой Орды на Руси между 1391 и 1395 гг. его солдаты награбили столько, что не могли увезти. Тимур обыкновенно забирал у побежденных лошадей, потому что лошади – самоходный товар, а кроме того, так он мог укрепить собственную армию, одновременно ослабив противника. Даже пехотинцы Тимура возвращались[601], ведя за собой по 10–20 лошадей, что значительно повышало социальный статус счастливчиков; те же, кто отправлялся в поход с одной-двумя лошадьми, возвращались с сотней. Когда в 1398 г. войска Тимура разорили Дели, после себя они оставили груду руин, а домой привезли такие сокровища, что Самарканд превратился в одно из чудес света своего времени. В 1402 г., в год Лошади, в бою под Анкарой Тимур разгромил и взял в плен восьмого османского султана Баязида II[602]. Однако, следуя монгольскому обычаю, Тимур ограничивал свои завоевания территориями, где имелись просторные пастбища, которые позволяли мобилизовать и содержать дополнительную конницу. И хотя он нанес поражение и египетским мамлюкам в Сирии, и султанам Дели, нодовольствовался тем, что собирал с них дань, а присваивать эти бедные пастбищами территории не стал. Эмир Тимур в погоне за Золотой Ордой – из списка летописи «Зафарнамэ», 1460 г.
Эмир Тимур в погоне за Золотой Ордой – из списка летописи «Зафарнамэ», 1460 г.
Тимур видел себя реставратором Монгольской империи – и в самом деле, географически его победы перекликались с победами монголов или даже превосходили их: Анкара, Дели, Сарай на Волге и Багдад. Как правитель Ирана, он контролировал одну из богатейших провинций старой Монгольской империи, а его конное войско ни в чем не уступало монгольской кавалерии Чингисхана. Из Трансоксианы, сердца своей империи, он мог быстро выступить в любом направлении, в том числе перейти через Алтайские горы и попасть в Китай. Ко времени его триумфального возвращения в Самарканд в сентябре 1404 г. если кто и мог претендовать на наследие верховного правителя, подобного Чингисхану и Хубилаю, то это был Тимур и уж никак не только что взошедший на престол в Пекине император Чжу Ди. Династия Мин, которой в 1368 г. удалось выгнать из Китая монголов, все же не сумела взять под контроль ближнюю степь так, как это сделали в свое время Тан. По большому счету Мин довольствовались укреплением и украшением Великой стены – именно тогда она стала такой, какой мы ее знаем сегодня, – и поддержанием статус-кво на степной границе, причем больше дипломатическими, чем военными средствами. В отсутствие дальновидной политики взаимодействия с коневодческими народами они вряд ли могли бы содержать конницу, необходимую для того, чтобы претендовать на сбор дани с Тимура[603]. И Тимуру это было известно. Почему, мог бы спросить он незадачливого посла в кандалах, должен он соглашаться на китайский сюзеренитет[604]? Что мешает Тимуру вновь завоевать Тибет, Ганьсу и Монголию и сделать Мин своим зависимым государством? У нас нет доказательств тому, что Тимур всерьез задумывался о захвате Центрального Китая, на что, как ему также было известно, хан Хубилай потратил 16 лет. Тем не менее поражение на поле боя в западных регионах страны вполне могло привести к падению или, по крайней мере, к подчинению империи Мин. В этом случае Тимур мог бы взимать с китайцев дань, как это делал Чингисхан, принудивший к повиновению империю Сун. Богатства Китая пошли бы на усиление армии Тимура. Мир еще увидит новую Монгольскую империю, которая, как писал придворный историк, раскинется «от Японии до пустынь Сирии и Египта, империю, путь по которой из конца в конец займет больше года, а эмиры каждой провинции будут командовать бесчисленными войсками, такими огромными, что целого мира не хватит, чтобы вместить всех ее солдат и лошадей»[605]. Конные силы не только служили Тимуру инструментом войны; они вынуждали его воевать. Дело в том, что в эпоху Тимура степная армия уже не была дешевой[606]. Степным коневодам приходилось приспосабливаться к новому, все более техническому характеру войны. Уже Чингисхан применял решения, отличные от методов завоевателей прошлого, но Тимур внес в военное дело еще больше усовершенствований, и все они стоили немалых денег. Если монгольская армия в завоевательных походах существовала на подножном корму, то армия Тимура уже больше походила на современную: за ней тянулся обоз из верблюдов, перевозивших корм для животных. Чингисхан захватывал неизвестные земли и мог себе позволить пасти стада, где ему, завоевателю, вздумается. Тимуру приходилось двигаться по территориям, которые принадлежали его же подданным. Он мог облагать их налогами, которые тратил на снабжение войск, но не мог просто согнать их с пастбищ, как это делали монголы. Более того, запасшись фуражом для боевых коней, Тимур мог воевать 12 месяцев в году, в отличие от монголов, которым приходилось подстраивать свои походы под наличие травы в степи. В последующие века эта возросшая потребность в планировании и администрировании проявится с еще большей силой. К тому же конница Тимура, в отличие от войска Чингисхана, строилась на профессиональной основе. Каждый чин обязан был отдать на нужды армии определенное количество лошадей. Рядовой солдат – двух, десятник (бахадур – чин, который до сих пор в ходу в индийской армии) – пять, а сотник – десять. Тысячники должны были приводить по 110 коней. Высшим чинам требовалось больше лошадей, потому что они брали с собой больше снаряжения; сотнику, например, нужна была запасная лошадь для перевозки тяжелых доспехов боевого коня и еще одна, чтобы везти юрту[607]. Как это было в обычае уже у монголов, на смену вождям кланов пришли офицеры, назначенные за личные заслуги. Но в отличие от монгольской армии, армия Тимура снабжала каждого воина кормом для его лошадей. Солдатское жалованье называлось улуфат (производное от слова alfalfa, то есть «люцерна»)[608]. Кроме того, армия Тимура неустанно тренировалась и под задаваемый литаврами ритм училась выполнять маневры, более сложные, чем требуются для традиционной монгольской загонной охоты. Самым заметным нововведением Тимура стало использование артиллерии. Благодаря ей его вторжение в Индию в 1398 г. оказалось намного успешнее попыток, предпринятых монголами за 100 лет до него. Против слонов делийского султана пушки оказались страшным оружием: мало того что эти громадные животные были удобными мишенями для орудий весьма приблизительной точности, так еще они, обращаясь в бегство, производили чудовищный разгром в рядах собственной армии, которая несла огромные потери. (Боевые кони Тимура были приучены не пугаться выстрелов.) Чтобы оплатить все эти инновации в логистике, обучении солдат и военной технике, Тимуру не оставалось ничего другого, как десятилетие за десятилетием вести военные кампании в погоне за богатыми трофеями и данью, которую он собирал с покоренных народов. Тому факту, что Тимур не сходил с коня по семь лет кряду, имелось и другое объяснение. За все время своего правления он почти не сталкивался с угрозой бунта со стороны окружения – даже со стороны честолюбивых сыновей, которые при ином раскладе могли бы призадуматься, как бы ускорить уход отца на покой. Нескончаемые походы обеспечивали Тимуру верность солдат, эмиров и наследников, а 30 лет военных побед сделали его совершенно незаменимым[609]. И наверное, не было ничего неожиданного в том, что, любуясь своей конницей, гордо скакавшей по лугам у Зарафшана, Тимур объявил своим приближенным, что вскоре они начнут готовиться к вторжению в Китай. В конце концов, и той он устраивал не только для того, чтобы произвести впечатление на иностранных послов, но и для того, чтобы вселить в участников состязаний твердую уверенность в том, что они непобедимы, и настроить их на еще одну семилетнюю кампанию. Подготовка к походу растянулась на долгие недели: интендантам нужно было раздобыть достаточно повозок, лошадей и сена для них. В какофонию рева верблюдов и дребезжания колокольчиков на их шеях вплеталась ругань погонщиков. Каждый солдат должен был привести с собой двух дойных коров и двух коз; когда животные перестанут давать молоко, их можно будет съесть[610]. Своим вынужденным союзникам, чьи лагеря располагались вдоль маршрута, которым должна была двигаться армия, Тимур приказал быть готовыми обеспечивать ее фуражом. Животноводы должны были заплатить налог на своих лошадей и мелкий скот. Усердно собиралась разведывательная информация о путях следования и погоде. Тимур лично расспрашивал караванщиков, которые привезли незадачливого китайского посла. Один купец, пробывший в Пекине полгода – он, вероятно, торговал там лошадьми, – поведал Тимуру, что Пекин в 20 раз больше Тебриза, древней монгольской столицы в Иране. А еще он сообщил, что император Мин, отправляясь на войну, держит в резерве 400-тысячную кавалерию для охраны своих владений и что у каждого вельможи в Китае есть по тысяче конных вассалов[611]. Тимур знал, что это неправда, потому и не испугался; однако же он позволил занести эту информацию в летописи, чтобы приумножить величие своих будущих побед. Он понимал, что империя Мин, страдающая от нехватки лошадей и от того, что на границе со степью о прочном мире не было и речи, беззащитна перед вторжениями и диверсиями. Кроме того, по собственному опыту ему было хорошо известно, что успех рождает успех, и как только он одержит первые победы на протяженной и слабо защищенной границе Китая, под его знамена немедленно начнут стекаться новые всадники, желающие присоединиться к армии победителей. План Тимура состоял в том, чтобы вести войско на северо-восток по степи, где недавно прошли зимние дожди, а пастбища покрылись свежей травой, – это сокращало нужду в фураже. Начало 1405 г. выдалось необычайно холодным, но армия, продвигаясь на север, надеялась на раннюю весну. Холод не отпускал до тех пор, пока они не добрались до города Отрар, расположенного в 450 км к северо-востоку от Самарканда. От Джунгарских гор – самого короткого пути из западной степи в восточную – их отделяло теперь 1000 км пути. Скоро боевые кони Тимура попасутся на тамошних пастбищах. Оттуда будет уже рукой подать до северного края долины Тарима. И хотя на этом этапе пути Тимур был бы уже очень далеко от Самарканда, армиям Мин, чтобы его перехватить, пришлось бы преодолеть вдвое большее расстояние по бедным пастбищами землям. Китайцы не успели бы дать ему первое сражение, а Тимур уже захватил бы бóльшую часть восточной степи. Однако в феврале на армию Тимура обрушилась страшная снежная буря – такой и старожилы не могли припомнить. Поля у Отрара покрылись коркой льда и стали походить на мраморные мостовые или были засыпаны пушистыми, как хлопок, сугробами – так писали об этом историки Тимура[612]. Замерзшие ручьи напоминали хрустальные жилы. Поскольку кроме как сидеть в шатрах и ждать оттепели делать было нечего, приближенные Тимура устраивали эпические попойки в компании певцов и музыкантов. Интересно, поведал ли кто-нибудь из певцов историю об убийстве послов в Отраре? Через несколько недель погода улучшилась. Коневоды, разбившие свои лагеря вдоль намеченного маршрута, приветствовали весну первым свежим кумысом. Один престарелый местный хан был страшно обеспокоен тем, что ему придется встречать Тимура, что проходящее войско опустошит его пастбища, что ему придется выплачивать дань лошадьми и мелким скотом. От волнения старый хан расплескал ритуальный кумыс. И в этот момент к его шатру подскакал всадник в белых одеждах на черном коне. Стражники не смогли его остановить. «Эмир Тимур мертв!» – крикнул он, не останавливаясь. «Стой, расскажи толком!» – возопил хан. Но всадник галопом помчался в соседний лагерь, оторвавшись от отряженной за ним в погоню ханской стражи[613]. 69-летний хозяин степей умер – то ли от того, что перебрал с алкоголем, то ли от воспаления легких. Его уставшие от войн наследники быстро передумали воевать с Китаем. В 1419 г. они отправили туда делегацию с дорогими подарками – прекрасными лошадьми. Они так хотели заключить мир с Чжу Ди, который принял послов Тимуридов на пышной церемонии в только что построенном Запретном городе, что подарили китайскому императору даже любимого коня самого Тимура[614]. Отказавшись от завоевательных планов, наследники Тимура собирались наслаждаться плодами его побед. Империю поделили между собой сыновья и внуки Тимура – говорят, некоторые из них так безудержно пьянствовали и чревоугодничали, что из-за лишнего веса не могли даже на лошадь взобраться. И все же Тимур в очередной раз показал, каких вершин можно достичь, поставив себе на службу силу степи, с нею даже завоевание Китая не казалось чем-то невозможным. И не он последний готов был попытать счастья.
«Земля, где нет хороших лошадей»
«Может, это я завоюю Китай», – размышлял 19-летний Бабур, отправляясь в изгнание в компании верных товарищей[615]. Прапраправнук Тимура, он только что лишился Ферганского и Самаркандского царства по вине орды в 200 000 всадников, которая ворвалась туда под знаменами своих узбекских командиров, чтобы отобрать власть у размякших и отвыкших воевать потомков Тимура. Было это в 1502 г. Потеря стала для Бабура тяжелым ударом. В его владениях было все: умеренный климат, прекрасные города и богатые пастбища. В конце концов, Фергана была родиной «потеющих кровью» лошадей. Как верно судил Тимур, правители Трансоксианы не должны были позволять коневодам западной степи бесконтрольно наращивать мощь. Но преемники Тимура сидели сложа руки и безучастно наблюдали, как узбеки, выходцы из Золотой Орды, именно этим и занимались; для Тимуридов и Ирана Трансоксиана была потеряна навсегда. Иран вновь раскололся на мелкие враждующие государства. Лишившись трона, Бабур стал казахом, то есть вольным воином, странствующим в поисках возможности вернуть себе состояние и вознаградить за верность все уменьшающуюся компанию своих нукеров. В отличие от скотоводов, они путешествовали не в поисках пастбищ, а в поисках добычи[616] – слово «казах» означало еще и «разбойник». В своих воспоминаниях «Бабур-наме» Бабур и сам называл эти набеги «казахскими» походами[617]. Для хана его рода не было ничего постыдного в том, чтобы жить, как казах, – главное было найти подходящее царство для завоевания. В конце концов узбеки и сами начинали как разбойники, а одна из ветвей орды, из которой они вышли, и сейчас с гордостью называет себя казахами. Так что даже в самые трудные для него дни Бабур не считал, что о завоевании Китая и речи быть не может. Вопрос тут был только в том, удастся ли ему собрать достаточное количество всадников. Пока он и его товарищи-изгнанники спасались в Гиндукуше от гонявшихся за ними узбеков, они охотились: не ради развлечения, а потому, что им нужно было что-то есть[618]. Охотясь, Бабур смекнул, что той самой подходящей возможностью, какую он искал, может стать Кабульское царство. Ранее Кабулом правил один из его дядей, но теперь власть там оказалась в руках узурпатора. Пытаясь выжать все возможное из своего тимуридского происхождения, Бабур попросил помощи у могущественных родственников, ни один из которых, впрочем, и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь, и собрал вокруг себя разношерстный отряд монгольских джентльменов удачи[619], с чьей помощью в 1504 г. отбил Кабул. После этого его мечты о покорении Китая поблекли. Бабур влюбился в свое маленькое царство, расположенное на территории современного Восточного и Южного Афганистана. Ему нравился тамошний свежий воздух, прекрасные фрукты, стремительные ручьи и обилие дичи[620]. Кроме того, земля эта была богата лошадьми еще с тех времен, когда сюда из Китая переселились кушаны и основали здесь свою торговую империю. Беда в том, что перед тем, как захватить Кабул, Бабур направо и налево раздавал обещания и, чтобы их выполнить, ему требовался приз покрупнее. Кабул был слишком маленьким трофеем, чтобы обеспечить верность перешедших на сторону Бабура вождей и их 20 000 всадников. Бабур знал: если, следуя проторенным путем захватчиков из степи, он пойдет войной на Индию, то к нему, привлеченные надеждой на богатую добычу, присоединятся многие из ханов и искателей приключений Центральной Азии. Как и во времена Тимура, собрать армию вторжения стоило немалых денег, к тому же Бабур пошел на дополнительные расходы, наняв профессиональных артиллеристов. И хотя ему было жаль покидать Кабул ради равнин Индии, страны, где, как он выразился, «нет хороших лошадей», – именно благодаря этой нехватке он и смог ее завоевать[621]. Вылазка Бабура в Индию оказалась очень своевременной, поскольку, как и Кабул, Делийский султанат, которым правила индо-афганская династия Лоди, был охвачен междоусобными конфликтами. В 1526 г. Бабур и его соратники вступили в грандиозное сражение с Лоди на пустоши к северу от Дели, недалеко от местности под названием Панипат. Бабур имел значительное тактическое преимущество благодаря османским мастерам пушечного дела: в то время у османов была самая профессиональная артиллерия в Азии[622]. Кроме того, решимость небольшого отряда могольских воинов Бабура оправдала себя – в отличие от бездействия индо-афганских военачальников Лоди, которые желали посмотреть, как пойдет сражение, прежде чем вступать в бой. Султана Лоди сбили выстрелом со слона, и битва была окончена. Сокровищ Дели хватило, чтобы вознаградить верных нукеров Бабура, расплатиться с артиллеристами, а также привлечь местных индо-афганцев на сторону нового лидера. Подобно сыну Чингисхана Угэдэю, щедрому сверх всякой меры, Бабур раздал столько богатств, что получил прозвище «нищий»[623]. Бабур, правитель Кабула, а теперь еще и император Дели, обнаружил, что обстановка в его новых владениях неспокойна. Несколько могущественных кланов афганского происхождения уже несколько веков боролись за власть в Северной Индии. Они никогда не испытывали недостатка в боевых конях с родины предков. Афганские торговцы лошадьми, преемники, если не потомки кушанов, неустанно водили караваны из Центральной Азии в рыночные города Лахор и Мултан и ежегодно там продавали до 100 000 лошадей[624]. Оплачивая прибылью свои военные авантюры, кое-кто из торговцев обзавелся собственными султанатами. Потомки афганцев, переселившихся в Индию и выращивавших в предгорьях Гималаев привезенных с родины лошадей, составляли своего рода военную аристократию страны[625]. (Это здесь находится Хардвар, большой конный рынок и место проведения фестиваля Кумбха Мела.) Их власть и влияние распространялись до самого Бихара и Бенгалии, и Бабуру, дабы управиться со своим новым царством, приходилось с ними сотрудничать. Поскольку удача была на стороне Бабура – он завладел землей их предков, и в его руках был теперь доступ к торговле лошадьми, – индо-афганцы его терпели, но при этом искали любой возможности вернуть себе независимость.Моголы в Индии

Бабур правил Кабулом и бывшим Делийским султанатом всего четыре года. Он умер в 1530 г., а самым выдающимся его достижением стали захватывающие мемуары под названием «Бабур-наме». Империя Бабура запросто могла бы лопнуть как мыльный пузырь, учитывая его весьма сомнительный план преемственности. Младшему сыну, Камрану, он отдал богатый лошадьми Кабул, а старшему, миролюбивому Хумаюну, – Дели. Поскольку Хумаюн не планировал новых завоеваний, преданность его сторонников растаяла, как кабульский снег в делийской жаре. Индо-афганцы подняли восстание, а коварный Камран отказался дать старшему брату лошадей. Император лишь по названию, в 1542 г. Хумаюн бежал через пустыню Тар с беременной женой: та ехала на лошади, а сам он трясся на верблюде. В Иране его приютила недавно укрепившаяся династия Сефевидов. Сефевиды, потомки коневодов и суфийских праведников, собрали из своих туркменских всадников грозную и фанатичную боевую силу. Говорили, что иранская конница была так велика, что требовалось три дня, чтобы она вся прошла перед глазами[626]. Сочувствуя горестям товарища-монарха, молодой и энергичный новый шах Тахмасиб[627] пообещал помочь Хумаюну вернуть трон. Победы Бабура и поражение его сына Хумаюна еще раз показали, с какой легкостью не страдающая от нехватки лошадей конница может вторгнуться в оседлые земли и как легко эти завоевания могут ускользнуть из рук правителя, если он не может обеспечить своей армии лошадей в нужном количестве, а своим сторонникам – дальнейших завоеваний, которые одни только и могут гарантировать их верность. Сын, родившийся у Хумаюна в пустыне Тар, вернет Великим Моголам Северную Индию: он решит обе задачи и превзойдет всех индийских падишахов, что правили до него, а возможно, и всех императоров всех оседлых государств со времен жившего в VII в. Тай-цзуна, величайшего правителя династии Тан.
«Его величество очень любит лошадей»
Сын Хумаюна Акбар наследовал отцу в возрасте 14 лет, менее чем через год после того, как изгнанный монарх был восстановлен на троне Дели при помощи конницы шаха Тахмасиба. Акбар стал одним из величайших правителей Индии и оставил глубокий след в искусстве, философии и науке о государственном управлении. Из-за беспокойного детства, проведенного в изгнании, он так и не научился читать и писать, зато приобрел живой интерес к миру природы и накопил жизненный опыт. Свои способности к военному делу и управлению государством он применил с большим успехом, чем его неугомонный дед или беспечный отец. Акбар приложил все силы к тому, чтобы сохранить за собой Афганистан и занять армию непрерывными войнами. В первую очередь он сосредоточил усилия на укреплении конной мощи своего государства. Главный министр Акбара Абу-л-Фазл так писал об этой его одержимости:Его Величество очень любит лошадей, поскольку считает их очень важными для управления государством и завоевательных походов, а также потому, что видит в них средство избежать многих неудобств. Его Величество уделяет внимание всему, что связано с этим животным, которое является почти сверхъестественным средством для достижения личного величия[628].Одним из самых первых и имевших серьезные последствия стратегических решений Акбара стало решение пополнить могольскую и индо-афганскую конницу раджпутами, которые превратились в самых верных его сторонников. Акбар и сам родился среди раджпутов, в засушливом регионе к юго-западу от долины Ганга. Здесь махараджи правили пыльными землями, сидя в своих суровых, неприступных крепостях на вершинах холмов (Малва, Гвалиор, Рантамбор). Происхождение раджпутов является предметом научных споров. Британские этнологи XIX в. полагали, что предками раджпутов были коневоды-кушаны, смешавшиеся с индийским населением. Возможно, это не так, поскольку коневодством раджпуты занялись довольно поздно: впервые они появляются в исторических записях XII–XIII вв. как заводчики верблюдов и крупного рогатого скота. Естественных пастбищ для разведения лошадей в Раджастхане не имелось, да и для пересечения пустыни Тар верблюды подходили лучше. Однако в XIII и XIV вв. раджпуты, подобно арабским бедуинам, обнаружили, что лошади, в отличие от верблюдов, отлично подходят для набегов на богатых соседей. Самые старые раджпутские песни посвящены разбойничьим нападениям и конокрадству[629]. Разбогатев за счет грабежей, раджпуты стали привозить с запада арабских и иранских лошадей и выводить местные пустынные породы. Современная марварская лошадь обладает качествами, наилучшим образом подходящими для этой засушливой среды; характерными тюльпанообразными ушами она обязана своему пустынному происхождению, а может, капризу махараджи Джодхпура, который покровительствовал этой породе. Пастбищ в Раджастхане не было, и лошадей раджпуты выращивали в конюшнях. Несмотря на затраты, которые это за собой влекло, важность лошади для войны и торговли окупала новый бизнес. К началу эпохи Великих Моголов в раджпутских княжествах, таких как Амбер, позже переименованный в Джайпур, в конюшнях содержалось 50 000 лошадей – огромная доля всего индийского поголовья. В отличие от моголов и центральноазиатских всадников прошлых веков, раджпуты не стреляли из лука со спины лошади: до поля боя они добирались верхом, но сражались пешими[630]. Степные воины использовали отступление как тактику боя, но раджпуты приобрели репутацию суровых солдат, которые сражаются до конца, а их женщины если не погибали в бою, то скорее готовы были кончить жизнь самоубийством, чем попасть в руки врага. Акбар по достоинству оценил этих стойких бойцов и, заключив ряд династических браков, быстро ввел правящие дома раджпутов в свой двор и в свою конную армию. Теперь у империи Великих Моголов было три опоры: моголы из Средней Азии, которые продолжали приезжать в Индию в надежде добиться богатства и славы на войне; афганцы, веками жившие в горной стране; и раджпуты из пустыни. С их помощью Моголы постепенно проложили себе дорогу на юг субконтинента и завоевали Бенгалию и Гуджарат, сокровищами которых оплачивали свою дорогостоящую кавалерию, и не только ее. Единственные территории, где моголы продвигались с трудом, – это расположенные на бирманской границе бедные лошадьми холмистый Ассам и лесистый Аракан. Акбар продвинулся по пути превращения могольской кавалерии в профессиональную армию даже дальше своего предка Тимура. Офицерам больше не платили трофеями, как это было принято во времена Тимура; вместо этого они получали в свое распоряжение землю, за счет которой жили. Доходы с земли позволяли офицерам кормить и содержать лошадей в количестве, соответствовавшем их рангу. Командиру, в подчинении которого находилось 5000 солдат, вменялось в обязанность содержать 340 своих лошадей, не считая тех, что принадлежали его подчиненным. Офицеры высших рангов должны были владеть лошадьми всех шести категорий, определенных в кодексах моголов. Простые солдаты ездили на лошадях самой низкой категории[631]. Содержание конницы не за счет грабежей, а за счет земельных доходов не решало основной проблемы, связанной с привлечением лошадей: как и во времена Бабура и тем более Тимура, моголам все равно приходилось постоянно захватывать новые территории. Однако, в отличие от Монгольской империи Чингисхана, новая система позволяла моголам в процессе завоевания Индии кормить своих лошадей заготовленными кормами, о чем кочевники-монголы и помыслить не могли. Система эта была гораздо масштабнее той, что удалось создать Тимуру. Акбар устраивал государственные конюшни с тщательным вниманием к деталям, достойным Тай-цзуна, китайского императора династии Тан, чьи идеи, должно быть, передались Акбару как часть его тюрко-монгольского наследия. Самый высокопоставленный военачальник, ответственный за всех государственных лошадей, занимал пост атбеги, или мастера лошадей. В подчинении у него находились офицеры, которых называли дарогахи или мушрифы, а также множество младших офицеров, шорников, конюхов, ветеринаров, стремянных, водоносов и подметальщиков, которые радели о конюшнях с усердием, рожденным унаследованным чувством долга. За служебную халатность полагалось суровое наказание, особенно если лошадь заболевала или погибала. Лошадей, как и офицеров, регулярно инспектировали на соответствие рангу и выслуге лет и соответственно повышали или понижали в ранге[632]. Навязчивое внимание Акбара к кавалерии передалось и его потомкам, Джахангиру и Шах-Джахану. Джахангир, правивший с 1605 по 1627 г., построил для своих верховых лошадей отдельную конюшню. Лошади падишаха были выше всех остальных на целую ладонь, а привозили их в основном из Западной Азии. Были среди них и подарки от наследственного друга и соперника его семьи иранского шаха Аббаса Великого. Одного такого коня падишах передарил своему раджпутскому шурину радже Ман Сингху, правителю Амбера. Раджа пришел в неописуемый восторг; сам падишах говорил: «Не думаю, что он выказал бы такую же радость, если бы я подарил ему царство. Когда лошадь привезли, ей было три или четыре года. Все придворные, и моголы, и раджпуты, сошлись во мнении, что никогда еще такой лошади не привозили из Ирака[633] в Индостан»[634]. Стоимость таких лошадей исчислялась не в серебряных рупиях, а в золотых мохурах – монете того же веса, что и рупия, но в 15 раз более ценной. За особо престижную лошадь можно было выручить 50 мохуров, а цена обычной колебалась между 10 и 30[635]. Иракские лошади стоили дорого, потому что, как отмечал падишах, чтобы ускорить доставку ценного груза, их привозили в Индию морем. Лошадь раджи Ман Сингха, пожелай он ее продать, могла бы уйти за 300–500 золотых мохуров, что эквивалентно 300 000–500 000 долларов в пересчете на современные деньги. Такие подарки получали только самые высокопоставленные военачальники. Степную традицию дарения подарков Великие Моголы воспроизвели с имперским размахом, помноженным на бюрократическую эффективность[636]. Каждый день три десятка счастливчиков-офицеров получали лошадь, слона или усыпанный драгоценными камнями кинжал – обычай, который объясняет обилие сохранившихся могольских кинжалов с нефритовыми рукоятями, инкрустированными рубинами[637]. Таким образом моголы обеспечивали себе преданность своих честолюбивых офицеров. Со временем искусство верховой езды стало рассматриваться как метафора самого правления Великих Моголов. Одно и то же персидское выражение, riyasat,
 , означало и искусство наездника, и искусство управления[638]. Придворные называли своего падишаха «императорским стременем», а находясь при дворе, они «присутствовали при стремени». В дни больших праздников, таких как Дасара, вся конница собиралась пред очами двора – еще один повод раздаривать подарки. Иерархия лошадей – от самых престижных персидских скакунов, на которых ездил падишах, до кляч местных водовозов – повторяла, а возможно, и оправдывала иерархический характер власти Великих Моголов.
В общей сложности конница Джахангира насчитывала 200 000 сабель, что, по всей видимости, соответствовало 600 000 лошадей, поскольку на каждого всадника приходилось в среднем по три лошади. Это подчеркивает основную трудность поддержания конной мощи в Индии – расходы, поскольку лошади не паслись на свободных землях. Как и в Китае эпохи Тан, расходы на содержание кавалерии были огромными и составляли 50% государственного бюджета, то есть 51 млн рупий[639]. Кроме того, кавалерии требовалось очень много места. Чтобы обеспечить одну лошадь кормом, то есть травой и викой (вид бобовых), требовалось от 1 до 3 га земли. В целом для прокорма могольской кавалерии нужно было 700 кв. км земли, то есть около половины площади современного столичного округа Дели – чуть меньше, чем занимает город Нью-Йорк, – а также целая рать крестьян, которые обрабатывали эти поля[640]. Со времен империи Тан Азия не знала оседлого государства, которое обладало бы такими большими и хорошо оснащенными конными войсками.
Чтобы поддерживать эти войска в полной боевой готовности, моголы, как и афганцы, сидевшие в Дели до них, активно ввозили лошадей из Центральной Азии[641] – в источниках говорится о более чем сотне тысяч лошадей в год[642]. Основу могольской кавалерии составляли тюркские кони; их разводили казахи, калмыки и узбеки, торговля с которыми велась через Бухару или Балх. Продавцов щедро вознаграждали за поставки хороших лошадей. Джахангир был так доволен пегой лошадью, привезенной из Балха, что присвоил торговцу почетный титул Тиджарати-хана, «хана барышников»[643]. Хорошие верховые кони умели бегать иноходью, аллюром, который высоко ценился и которым обладали не все могольские лошади. Он делал более комфортными поездки верхом на большие расстояния.
Императорская семья Великих Моголов поощряла и развивала торговлю лошадьми. Нур Джахан, жена Джахангира, курировала строительство караван-сараев, способных вмещать по 500 животных одновременно. По ночам продавцы стреноживали лошадей, во-первых, чтобы не дать их похитить, а во-вторых, чтобы помешать пылким жеребцам драться. К услугам гостей были кузнецы, корм для лошадей, а для караванщиков – танцовщицы или танцовщики[644]. Караван-сараи служили «торговцам лошадьми местом, где они могут без промедления найти удобные помещения и не подвергаться тяготам времен года; в таких условиях животные не будут страдать от скаредности и скупости, столь свойственной продавцам в наши дни». Передышка, какую давали караванщикам такие места, гарантировала, что их лошади «не перейдут из рук добропорядочных купцов в другие», то есть не достанутся спекулянтам, у которых всегда наготове наличные, и давала покупателям больше уверенности в качестве товара[645].
Моголы приобретали и местные породы, преимущество которых заключалось в лучшей акклиматизации. Центральноазиатские лошади подходили для равнин Ганга, но чем дальше на юг продвигались моголы, тем более полезными оказывались местные лошади. Историк Яшасвини Чандра считает, что конница Великих Моголов на 40% состояла из лошадей местных пород[646]. Старый Абу-л-Фазл льстил Акбару по этому поводу:
, означало и искусство наездника, и искусство управления[638]. Придворные называли своего падишаха «императорским стременем», а находясь при дворе, они «присутствовали при стремени». В дни больших праздников, таких как Дасара, вся конница собиралась пред очами двора – еще один повод раздаривать подарки. Иерархия лошадей – от самых престижных персидских скакунов, на которых ездил падишах, до кляч местных водовозов – повторяла, а возможно, и оправдывала иерархический характер власти Великих Моголов.
В общей сложности конница Джахангира насчитывала 200 000 сабель, что, по всей видимости, соответствовало 600 000 лошадей, поскольку на каждого всадника приходилось в среднем по три лошади. Это подчеркивает основную трудность поддержания конной мощи в Индии – расходы, поскольку лошади не паслись на свободных землях. Как и в Китае эпохи Тан, расходы на содержание кавалерии были огромными и составляли 50% государственного бюджета, то есть 51 млн рупий[639]. Кроме того, кавалерии требовалось очень много места. Чтобы обеспечить одну лошадь кормом, то есть травой и викой (вид бобовых), требовалось от 1 до 3 га земли. В целом для прокорма могольской кавалерии нужно было 700 кв. км земли, то есть около половины площади современного столичного округа Дели – чуть меньше, чем занимает город Нью-Йорк, – а также целая рать крестьян, которые обрабатывали эти поля[640]. Со времен империи Тан Азия не знала оседлого государства, которое обладало бы такими большими и хорошо оснащенными конными войсками.
Чтобы поддерживать эти войска в полной боевой готовности, моголы, как и афганцы, сидевшие в Дели до них, активно ввозили лошадей из Центральной Азии[641] – в источниках говорится о более чем сотне тысяч лошадей в год[642]. Основу могольской кавалерии составляли тюркские кони; их разводили казахи, калмыки и узбеки, торговля с которыми велась через Бухару или Балх. Продавцов щедро вознаграждали за поставки хороших лошадей. Джахангир был так доволен пегой лошадью, привезенной из Балха, что присвоил торговцу почетный титул Тиджарати-хана, «хана барышников»[643]. Хорошие верховые кони умели бегать иноходью, аллюром, который высоко ценился и которым обладали не все могольские лошади. Он делал более комфортными поездки верхом на большие расстояния.
Императорская семья Великих Моголов поощряла и развивала торговлю лошадьми. Нур Джахан, жена Джахангира, курировала строительство караван-сараев, способных вмещать по 500 животных одновременно. По ночам продавцы стреноживали лошадей, во-первых, чтобы не дать их похитить, а во-вторых, чтобы помешать пылким жеребцам драться. К услугам гостей были кузнецы, корм для лошадей, а для караванщиков – танцовщицы или танцовщики[644]. Караван-сараи служили «торговцам лошадьми местом, где они могут без промедления найти удобные помещения и не подвергаться тяготам времен года; в таких условиях животные не будут страдать от скаредности и скупости, столь свойственной продавцам в наши дни». Передышка, какую давали караванщикам такие места, гарантировала, что их лошади «не перейдут из рук добропорядочных купцов в другие», то есть не достанутся спекулянтам, у которых всегда наготове наличные, и давала покупателям больше уверенности в качестве товара[645].
Моголы приобретали и местные породы, преимущество которых заключалось в лучшей акклиматизации. Центральноазиатские лошади подходили для равнин Ганга, но чем дальше на юг продвигались моголы, тем более полезными оказывались местные лошади. Историк Яшасвини Чандра считает, что конница Великих Моголов на 40% состояла из лошадей местных пород[646]. Старый Абу-л-Фазл льстил Акбару по этому поводу:
Умелые люди с опытом уделяли много внимания разведению этого чувствительного животного, чьи повадки во многом напоминают человеческие. За короткое время лошади Индостана превзошли аравийских. Индийскую лошадь даже нельзя отличить от арабской или иракской породы. Лошади из Кача [также известного как Катхиявар] считаются самыми лучшими[647].Бабур вряд ли согласился бы с этим утверждением: сами падишахи ездили исключительно на персидских или арабских конях. Где бы моголы ни брали лошадей, им приходилось сталкиваться с тем, как трудно прокормить этих животных и сохранить им здоровье в индийском климате. От своих степных предков моголы знали о лошадях не меньше прочих, но с местной практикой кормления и с болезнями, одолевающими лошадей в новых землях, знакомы не были. Моголы подозревали, что индийский климат как-то ослабляет печень животных, что влияет на репродуктивную функцию и делает лошадей не такими плодовитыми, какими были их степные предки. В поисках тайных знаний моголы старательно переводили с санскрита на фарси, язык двора и армии, медицинские и иппологические руководства тысячелетней давности[648]. Из этих древних книг моголы почерпнули идею кормить лошадей гхи (топленым маслом), ягре (сахаром-сырцом), а иногда и красным перцем чили, чтобы регулировать баланс гуморов в организме лошади – концепция, общая для индийской и греко-арабской медицины. Западные историки той эпохи считали такую диету очень странной. Возможно, топленое масло нужно было лишь для того, чтобы лошади выглядели упитанными и гладкими на параде, но, по мнению Чандры, страстной наездницы и ученого-историка, масло лошадям не вредило, а калории, поступающие с ягре, просто нужно было сжигать с помощью активных упражнений[649]. По поводу красного перца, ингредиента, популярного в индийской кухне, но считающегося фактором риска в развитии рака пищевода у людей[650], у ученых определенного мнения не имеется. Хотя могольские конюшни при таком режиме кормления, похоже, процветали. А еще моголы изо всех сил старались разгадать тайну масти лошади. В поисках подсказок они еще раз прочесали древние тексты на санскрите. Один могольский кавалерийский командир по имени Фируз Джанг переписал трактат «Ашвашастра», дополнив его собственными наблюдениями и тюрко-монгольскими познаниями о лошадях. В вопросах масти Фируз Джанг выражался порою столь же противоречиво и туманно, как китайский ипполог Бо Ле:
Если у лошади черные копыта и белое на ногах или белое на двух ногах, ее следует избегать. Лошадь с… черным на верхней губе, мошонке, копытах, хвосте, голове, глазах и пенисе, остальные части которой белые, принесет царю убытки.С другой стороны, жемчужно-белые лошади приносят удачу:
Белая, которую персы зовут серебристой, индусы – «сит баруна», а арабы – «абьяд», другими словами, белая, как жемчуг, или сливки, или как луна, или серебристая, как снег. Если белая лошадь одного цвета, а завитки шерсти имеют одинаковый вид, такая лошадь бесценна, достойна похвалы и приносит удачу. Если в хозяйстве есть такая лошадь, все люди в нем довольны и счастливы, а оседлав ее в день битвы, одержишь победу над врагом[651].Выводы Фируз Джанга, как и выводы Бо Ле, могли отражать наблюдения о связи между завитками и боковой асимметрией, а также поведением[652]. Если верить сохранившимся конным портретам могольских падишахов и раджпутских махараджей, правители Индии были согласны с Фируз Джангом. Любопытно, что сам он решительно не советовал лошадей рыжих оттенков, несмотря на то что самый знаменитый конь Ирана, Рахш, был именно таков. Фируз Джанг давал и практические советы, например не выезжать на бой на пегом коне. Это связано не с благоприятными или неблагоприятными свойствами окраса, но с тем простым фактом, что пегая лошадь – легкая мишень для лучника и стрелка[653]. Вне поля боя падишахи Великих Моголов обожали своих пегих коней и нередко позировали на них для портретов. Когда иранский шах послал сотню лошадей в подарок Шах-Джахану, сыну Джахангира, жемчужиной среди них признали великолепного пегого жеребца, запечатленного на нескольких конных портретах строителя Тадж-Махала[654].
 Страница из «Шалихотра-самхита», написанного на санскрите трактата по ветеринарной медицине, переведенного на персидский язык под названием «Фараснаме», начало XVIII в.
Страница из «Шалихотра-самхита», написанного на санскрите трактата по ветеринарной медицине, переведенного на персидский язык под названием «Фараснаме», начало XVIII в.
На одном из таких портретов – кисти придворного художника Паяга – Шах-Джахан изображен верхом на лошади с круглыми, как блюдца, скулами, типичными для арабских коней, с гибкой шеей, но крепко сбитым телом – именно таких мускулистых животных предпочитали моголы[655]. Грива коня стянута в узлы лентами из красного шелка, а на позолоченной, инкрустированной рубинами и изумрудами уздечке красуется желтый хвост яка. Вышитый чепрак, или подседельник, сделан из шелковой парчи. Стремена усыпаны алмазами. К седлу приторочен колчан с луком, но без стрел, которые могли бы помешать всаднику садиться в седло и спешиваться. К поясу падишаха золочеными ремешками пристегнута кривая сабля в ножнах, украшенных драгоценными камнями. В одной руке он держит поводья, а в другой – охотничье копье. Лучшего конного портрета монарха и представить нельзя. На правление Шах-Джахана, продлившееся с 1628 по 1658 г., пришелся апогей власти Великих Моголов и расцвет искусства верховой езды.
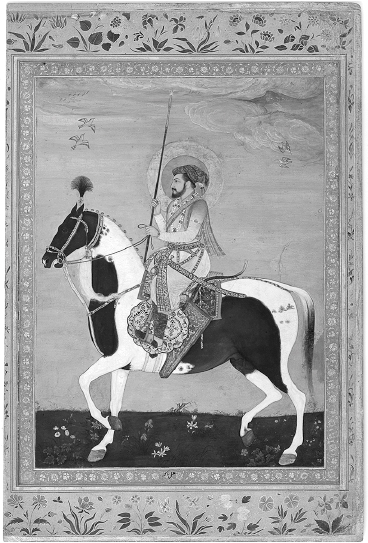 Конный портрет могольского падишаха Шах-Джахана кисти Паяга, около 1630 г.
Конный портрет могольского падишаха Шах-Джахана кисти Паяга, около 1630 г.
Могольские женщины, ни в чем не уступая женщинам танского Китая, не меньше мужчин любили конные виды спорта[656]. Они постоянно ездили на охоту, нередко с соколами, восседавшими на их затянутых в перчатки и увешанных дорогими браслетами запястьях. Хотя мусульманские женщины высшего света по идее должны были носить чадру и путешествовать в закрытых паланкинах, дочери степей позволяли себе пренебрегать условностями и подражать своим супругам, братьям и сыновьям. Две знатные дамы при дворе Хумаюна помимо игры в поло увлекались еще и верховой стрельбой из лука[657]. Обычно, однако, они ездили верхом с ног до головы завернутые в тонкие покрывала и в сопровождении слуг-мужчин[658].
 Могольская пара наслаждается совместной верховой прогулкой, XVIII в.
Могольская пара наслаждается совместной верховой прогулкой, XVIII в.
Раджпутские женщины пошли еще дальше. Они не только отказались от пурды – практики ношения чадры, чтобы ездить верхом и охотиться, но и не раз участвовали в сражениях и даже вели за собой войска. Художники часто изображали этих храбрых наездниц на фоне идеализированного пейзажа с цветами и нежными облачками. Иногда они рисовали влюбленных, вместе скачущих по полям. Моголы и раджпуты буквально жили в седле, так что и мужчинам, и женщинам двора приходилось постоянно, а порою ежедневно ездить верхом, перемещаясь из одного прекрасно устроенного лагеря в другой. По примеру древних каганов с их кочевыми городами, моголы вздымали к небу высокие шатры из шелковой ткани и веревок, не менее внушительные, чем дворцы, но, в отличие от них, полные света и воздуха. Как и степные вожди древности, могольские падишахи почти никогда не останавливались в Красных фортах Агры или Дели, но проводили месяцы напролет, разъезжая по Индии. Это давало придворным массу возможностей охотиться и устраивать пикники. Сохранившиеся изображения, на которых запечатлен их образ жизни, не идеализированы – свои идеалы моголы воплощали в жизнь. Но каким бы утонченным ни было искусство периода Великих Моголов, сами они изнеженности не предавались. Верховая езда оставалась для них тем абсолютным символом умения владеть собой и инструментом политического контроля, каким ее считал Акбар: «Почти сверхъестественное средство для достижения личного величия». Демонстрация безрассудной храбрости была такой же частью их культуры, как и великолепные седла. Известна история о том, как Шах-Джахан и его сыновья неосторожно проехали рядом с дерущимися боевыми слонами. Один из них, разделавшись с соперником, повернул огромную голову, уставился булавочными глазками на принца Аурангзеба, младшего из сыновей, и бросился на него. Вместо того чтобы развернуть коня и уйти из-под удара, 14-летний юноша, зная, что на него смотрит отец и весь императорский двор, атаковал разъяренного слона и ударил его копьем пониже глаза. Этот отчаянный поступок произвел впечатление на всех присутствующих и стал предзнаменованием того, что в будущем Аурангзеб обойдет старших братьев и унаследует трон Шах-Джахана.
 Юный Аурангзеб сражается со слоном на глазах у всего двора, около 1556–1557 гг.
Юный Аурангзеб сражается со слоном на глазах у всего двора, около 1556–1557 гг.
Вечный двигатель
Власть Великих Моголов опиралась на контроль над Афганистаном и на постоянные завоевания: первое нужно было, чтобы гарантировать поставки лошадей, второе – чтобы занять делом всадников. Все действия падишахов вращались вокруг этих двух императивов. Четвертый падишах Великих Моголов, Джахангир, прибег к впечатляющейдемонстрации силы, чтобы заявить, что не намерен отказываться от Афганистана. Он привез в Кабул все свое императорское семейство – многие из прибывших никогда не дышали холодным воздухом Гиндукуша – и, в манере своего предка Тимура, устроил конные скачки прямо на главной городской улице. Победителем стал тогдашний союзник моголов султан Биджапура Адил-хан на своем гнедом арабском скакуне; приз ему достался достойный – скорее всего, очередная бесценная лошадь из Ирана или Ирака, которой он пополнил свою конюшню. А пока его придворные с грустью возвращались на жаркие и влажные равнины Дели, падишах дал понять своим соперникам – узбекам, афганцам и иранцам, что земли всадников принадлежат ему. Пятый падишах Великих Моголов Шах-Джахан пошел еще дальше и вторгся в Трансоксиану, надеясь вернуть себе земли, которые его предок Бабур уступил узбекам[659]. К несчастью для моголов, Афганистан, который всегда был удобным плацдармом для конного вторжения в Индию, оказался плохой отправной точкой для завоевания Трансоксианы. Конная сила узбеков была слишком велика, а Гиндукуш, как и во времена Рагху и скифов, представлял собой слишком серьезное препятствие для индийских слонов, не говоря уже об артиллерии могольской армии XVII в.[660] Параллельно попыткам захватить Трансоксиану, Шах-Джахан сражался со своими бывшими союзниками иранцами за контроль над Кандагаром в Западном Афганистане. Историки считают борьбу Шах-Джахана за Кандагар навязчивой идеей, а его притязания на Трансоксиану – всего лишь ностальгией по временам Тимура[661]. Но думать так – значит недооценивать прозорливость падишаха. Он считал само собой разумеющимся, что обладание Кандагаром и Кабулом необходимо для предотвращения вторжения в Индию из Ирана или Центральной Азии, а также для импорта тюркских лошадей[662]. Земли, которые он считал своим утраченным наследством, включали в себя лучшие в мире пастбища. Моголам пришлось отказаться от кампании в Трансоксиане, но на протяжении всего правления Шах-Джахана они продолжали воевать с Ираном за Кандагар. Падишах воспитывал в своих сыновьях лидерские качества, посылая их командовать такими кампаниями, но даже храброму принцу Аурангзебу не удалось отбить Кандагар у иранцев. Афганцы пользовались этими длительными походами, чтобы грабить пути снабжения моголов и периодически поднимать восстания, сигнализировавшие о разрушении общественного порядка, которое станет фатальным для могольской империи. Кроме того, Шах-Джахан неустанно расширял свою империю на юг за счет независимых султанатов вроде Биджапура и Голконды. Им долгое время удавалось сопротивляться, несмотря на монополию моголов на центральноазиатских лошадей: южане за огромные деньги везли лошадей из Ирана и Аравии. Здесь важную и часто упускаемую из виду роль сыграл европейский народ – португальцы. Когда Бабур пришел в Индию, португальцы уже основывали там свою колонию и настойчиво пробивались в прибыльный бизнес торговли лошадьми, которым раньше заправляли иранцы и арабы. Распространено мнение, будто португальцы были прежде всего участниками рынка, сложившегося вокруг морского Шелкового пути: они действительно к большой для себя выгоде возили в Лиссабон и Антверпен китайский фарфор и цейлонские специи. Но главным источником обогащения Португальской Индии и ее столицы Гоа были лошади. Как отмечалось в официальном письме королю Жуану III в 1527 г., «самое ценное, что есть у Вашего Величества в Индии, – это доходы от лошадей, которых привозят из Ормуза [Персидский залив] в Гоа»[663]. Вице-король Индии Афонсу де Албукерки объяснял королю, почему лошади столь ценны: «Каждый, кто владеет персидским конем, может править всем Деканом [Южной Индией]»[664]. Все местные правители жаждали импортировать лошадей из-за Индийского океана, чтобы воевать друг с другом и защищаться от угрозы со стороны Великих Моголов. Португальцы продавали свой товар на аукционе тому, кто больше заплатит. Католическая церковь пыталась запретить этот бизнес как аморальный, утверждая, что христиане не должны наживаться на торговле с язычниками, но аристократы-идальго не желали отказываться от столь прибыльного дела. Португальцы здесь проявили тот же талант к инновациям, которым отличались на протяжении всей эпохи Великих географических открытий. Они строили специальные корабли, которые могли перевозить до 400 лошадей за раз, в то время как одномачтовые каботажные судна их конкурентов-арабов вмещали не больше 70[665]. В этих плавучих конюшнях лошадей фиксировали в стоячем положении и перевозили в стойлах, обитых мягкими материалами, которые оберегали животных от травм. Полы тщательно мыли, чтобы избавиться от запахов, одинаково неприятных лошадям и команде. Португальцы даже построили специальные конюшни для передержки лошадей в доках Ормуза, в устье Персидского залива. Вероятно, выживаемость живого груза была у них выше, чем у перевозчиков, использовавших традиционные парусные суда. Чтобы контролировать цены, португальцы выдавали индийским и иранским купцам разрешения на торговлю с условием, что все лошади должны ввозиться в Индию через Гоа. Любой барышник, не имевший разрешения на торговлю или направлявшийся в другой порт, попавшись в море португальскому флоту, лишался своего товара. Шах-Джахан дал понять португальцам, что выдворит их из Индии, если они продолжат поставлять лошадей его врагам на юге. Под давлением моголов португальская торговля лошадьми пошла на убыль. Ее упадок положил конец золотому веку Гоа, но португальцы еще успели украсить золотом Голконды усыпальницу cвятого Франциска Ксаверия. Поскольку португальская торговля сошла на нет, южному сопротивлению пришлось искать новых поставщиков лошадей. Парадоксально, но сами военные походы моголов способствовали развитию местного коневодства, как и кампании делийского султана за столетия до этого. Поскольку действия разбойников и грабителей приводили к запустению сельскохозяйственных угодий, а воюющие стороны щедро платили за ремонтных животных, новые общины принимались разводить лошадей на опустевших землях. Самыми успешными из этих новоявленных коневодов стали маратхи. Этот народ, живший в Западных Гатах, горной цепи, протянувшейся вдоль морского побережья от Гуджарата и Мумбаи до самой Кералы, изначально, как и раджпуты, разведением лошадей не занимался[666]. Западные Гаты – труднопроходимая лесистая местность, для коневодства малопригодная, поэтому военная история маратхов началась с воровства лошадей у богатых соседей из низин, султанов и махараджей. Разжившись таким образом лошадьми, маратхи принялись разводить выносливых низкорослых лошадок с толстыми копытами, на которых легче карабкаться по Гатам. Эти животные вряд ли смогли бы выстоять против крупных тюркских боевых коней моголов, зато отлично подходили для молниеносных атак и набегов, которыми занимались маратхи. Их конница славилась тем, что могла преодолеть 110 км в день, нанести удар и исчезнуть прежде, чем моголы поймут, что произошло. Поначалу моголы считали маратхов обычными бандитами. Но когда конная сила маратхов стала расти, враги перестали их недооценивать, особенно после того, как предводитель маратхов, Шиваджи Бхонсле, на пышной церемонии короновался как махараджа[667]. Шиваджи Бхонсле, как и многие другие правители Индии, начал с того, что закупал лошадей для других местных князей. Со временем он обзавелся собственной конницей, достойной правителя большого воюющего государства. Он основывал конные заводы рядом с принадлежавшими ему крепостями и раздавал землю крестьянам, согласным выращивать корм для его лошадей. В сезон муссонов, когда военные походы прекращались, его лошади в свое удовольствие питались кормом из этих крестьянских хозяйств. На праздник Дасара, когда дожди заканчивались, он собирал войска и отправлялся грабить моголов[668]. Разбогатев, Шиваджи пополнил свои племенные хозяйства престижными арабскими лошадьми. И хотя маратхам по-прежнему не удавалось одолеть моголов в прямом столкновении, их набеги привели к запустению некогда богатых провинций и ввергли в хаос большую часть Индии. Словами, напоминающими высказывания полководцев Чингисхана, один конный командир маратхов, Холкар, провозгласил: «Мой дом – спина моего коня, а моя страна там, куда повернута его голова»[669]. Когда Аурангзеб, шестой и последний Великий Могол, в 1658 г. взошел на престол, он стал отправлять одного военачальника за другим, чтобы усмирить маратхов, но без всякого успеха. Угроза, которую представляли собой эти дерзкие всадники, росла, они начали совершать набеги вглубь территории моголов. Аурангзеб решил прибегнуть к дипломатическим средствам и подаркам, чтобы утихомирить беспокойных афганцев и развязать своей армии руки для окончательного завоевания юга. Он запретил афганским всадникам сопровождать табуны лошадей, которых пригоняли из Центральной Азии в Индию, чтобы предотвратить любые сюрпризы со стороны этого традиционного источника политических проблем[670]. На какое-то время он подчинил себе маратхов и остальных независимых султанов и махараджей, но подавлением восстаний и повторным взятием ранее захваченных крепостей ему пришлось заниматься до конца жизни. Он никогда больше не увидел Дели, хотя придворные и умоляли его вернуться в комфорт и сравнительную прохладу севера. Как и его предок Тимур, Аурангзеб знал, что постоянные походы во главе армии – лучшее средство от внутренних мятежей[671]. И, как и Тимур, он стремился превратить все соседние государства в зависимые и не дать им возможности нарастить военную мощь. Кампании Аурангзеба на юге напоминали вечный двигатель, изрыгающий конницы, лагеря, караваны и осады. Аурангзебу удалось завоевать весь субконтинент за исключением самой южной его оконечности. Наследием его империи стала объединенная Индия, которую воспроизвела Британская империя и которую он завещал Индии современной[672]. Аурангзеб умер в седле в 1707 г., в возрасте 90 лет. Его военачальники выдохнули с облегчением, надеясь наконец уйти на покой. Они, как и непосредственные наследники Тимура 300 лет тому назад, позабыли, что останавливать завоевания так же опасно, как коня на скаку. Наследникам Аурангзеба выпало три десятилетия мира, но за это время 300-тысячная армия потеряла слаженность и закалку, обретенную в бесконечных походах при старом падишахе. Однако хуже всего было то, что новое поколение моголов утратило власть над Афганистаном. В 1737 г., следуя по извечному маршруту вторжения всадников, из Кандагара и Кабула в Индию пришло огромное враждебное войско туркмен, узбеков, афганцев, курдов и азербайджанцев числом 375 000 человек под предводительством последнего великого конного завоевателя, иранца Надир-шаха.Последний завоеватель
Подобно Чингисхану, Тимуру и Бабуру, Надир пришел к власти в период смуты и хаоса. В 1722 г. восставшие афганцы Кандагара свергли шаткую династию Сефевидов, создав вакуум власти в Иране в целом. Иранские туркмены, которые некогда считали своего шаха мессией, теперь равнодушно наблюдали, как кандагарские афганцы разоряют страну. Будущий завоеватель, родившийся в скромном туркменском клане, по примеру Чингисхана и Тимура начал свой путь с мелкого разбоя. Благодаря смелости и успехам он сделался сначала местным вождем, потом командиром конницы, а затем и главнокомандующим, ответственным за организацию запоздалого иранского сопротивления захватчикам[673]. Изгнав их из Ирана, Надир добился того, чтобы туркменские вожди провозгласили его Надир-шахом. После этого он создал элитные профессиональные войска и начал завоевательные походы против кандагарских афганцев, турок-османов, русских, узбеков и, наконец, моголов. Армия обходилась Надиру невероятно дорого, и на снабжение своих солдат лошадьми он потратил всю казну[674]. В отличие от империи Великих Моголов с ее 150 млн жителей, в Иране времен Надира проживало всего 6 млн человек – немногим больше, чем в каком-нибудь степном государстве древности. Неудивительно, что богатая Индия неудержимо манила Надира. Иранский выскочка разгромил армию моголов, выступившую ему навстречу, вошел в Дели и разграбил его: с собой в Иран он увез Павлиний трон, бриллиант Кохинор и прочие ценности на общую сумму 10 млрд долларов в пересчете на современные деньги. Индия Великих Моголов от этого удара так и не оправилась, но и Иран ничего не выиграл[675]. Надир-шах не более чем оседлал ураган. Даже несмотря на то, что награбленное вывозили из Дели караванами верблюдов, расходы на кавалерию и конную артиллерию довели Надира до банкротства. Единственным выходом для него было обложить немногочисленных подданных повышенными налогами и потащить своих измученных воинов в новые бесконечные походы[676]. В 1747 г. они же и убили шаха прямо в его шатре, после чего наследники предсказуемо перебили друг друга. Смерть Надира спровоцировала новый период хаоса как в Индии, так и в Иране. Получив известие об убийстве Надира, сообразительный командир его конницы по имени Ахмад-хан захватил сокровища шаха и собрал вокруг себя верных афганцев из Герата и Мултана, мест, издревле связанных с повинда – торговцами лошадьми. Сначала он завоевал Герат, Кандагар и Кабул, а потом Пенджаб и Кашмир. Коронованный как Ахмад-шах Дуррани («редкая жемчужина»), он считается основателем афганского государства. Однако завоевания Ахмад-шаха не привели к созданию государства в современном понимании, они, подобно победам Чингисхана и Тимура, создали лишь ситуацию условной лояльности тому, кто оказался на коне. Внезапное возвышение Ахмад-шаха словно бы намекало, что цепь сменяющих друг друга конных завоевателей Азии никогда не прервется, и действительно, этого не произошло даже в первые два десятилетия XIX в. Однако уже тогда историческая инициатива переходила от коневодческих народов Центральной Азии, Ирана и Афганистана к великим оседлым империям. Чтобы занять делом своих беспокойных всадников, новопровозглашенный Ахмад-шах по примеру Тимура и Бабура задумал вторгнуться в Китай. Холодные головы, которые понимали, что правящая в Китае династия Цин эффективней всех своих предшественников решала проблему с поставками лошадей, отговорили монарха от этого плана. Мирная торговля с Китаем, по их мнению, была лучшим вариантом. Поэтому Ахмад лично выбрал четырех аргамаков и отправил их с послом в Пекин[677]. Для императора Цин Цяньлуна это были не просто прекрасные лошади: они символизировали возвращение старых «западных провинций» империи Тан в родное стойло.10 Империи наносят ответный удар
Китай и Россия, 1584–1800 гг

Любование четырьмя афганскими конями
Цяньлун, император династии Цин, принял посла Ахмад-шаха, Ходжу Мирхана, в Мулани, своем охотничьем поместье в прохладных горах к северу от Пекина. Шел 1763 год. Ходжа Мирхан преподнес императору четырех аргамаков, «высоких коней», имена которым дали соответственно масти: Чаоэр Лу («серый с круговыми полосками»), Лай Юань Лю («рыже-черный»), Мун Бон Лу («желто-белый с рыжими копытами») и Лин Кун Бай («белый с рыжими копытами»). Императора впечатлил их рост, в среднем 17 ладоней (1,7 м), причем одна из лошадей, рассказывали, достигала целых 2 м. Цяньлун немедленно приказал Джузеппе Кастильоне подобающим образом запечатлеть этих прекрасных животных на полотне. Мастер конных портретов, итальянский монах-иезуит, уже много лет служил придворным художником и, чтобы рисовать любимых лошадей императора, даже устроился жить рядом с императорскими конюшнями в Запретном городе[678]. Цяньлун был особенно доволен тем, что Ахмад-шах, потомок юэчжей и кушанов, теперь неявно признал сюзеренитет Цин над далеким Афганистаном. Поведением Ходжи Мирхана, который не гнул перед ним спину, давал волю языку и не умел вести себя за столом, цинский император был доволен гораздо меньше[679]. Вообще, император принимал эмиссаров из Афганистана и других степных стран в юрте в Мулани как раз потому, что думал, что этим людям нравится проводить время на свежем воздухе, а опера и томительные официальные церемонии в Пекине только наведут на них тоску. В Мулани и сам император мог расслабиться, и его неотесанные гости не слишком нарушали бы правила поведения в обществе. В императорских охотничьих угодьях посланцы степей могли развлекаться так, как привыкли: охотиться, слушать знакомую музыку, щеголять мастерством в стрельбе из лука и борьбе, а день завершать, изрядно нагрузившись перебродившим кобыльим молоком. Лагерь императора, границы которого были обозначены четырьмя знаменами, символизировавшими стороны света, позволял всадникам чувствовать себя как дома в присутствии верховного правителя степи[680]. Подобно Тай-цзуну, который правил империей Тан в VII в., когда та находилась на пике могущества, и с которым он себя очевидным образом сравнивал, Цяньлун был одновременно и Сыном Неба, и верховным ханом[681]. Его империя раскинулась шире империи Тай-цзуна: в ее состав входили северные районы провинции Синьцзян, Тибет, Внутренняя Монголия, Внешняя Монголия (современная Республика Монголия) и часть современного Кыргызстана. Государство Цин превышало размерами даже нынешнюю Китайскую Народную Республику. В часы досуга Цяньлун предавался самодовольному созерцанию и царапал славословия в свой адрес на бесценных древностях из императорской коллекции[682]. На конном портрете, написанном Кастильоне в 1758 г., император изображен одетым в великолепные доспехи, а сама работа напоминает портрет испанского короля Филиппа IV кисти Диего Веласкеса. Гордый вид и непринужденная поза Цяньлуна отражают европейский идеал монарха и очень далеки от спокойного, задумчивого, твердого взгляда китайских императоров, восседающих на троне на традиционных портретах. Никакое другое изображение не могло бы лучше передать характер и личность Цяньлуна. Справедливости ради надо сказать, что к моменту визита Хожди Мирхана Цяньлун имел полное право оглядываться на три десятилетия своего правления с чувством глубокого удовлетворения: он навел порядок на беспокойной степной границе и положил конец набегам, от которых здешние места страдали со времен хунну, живших 2000 лет тому назад. Его политика в отношении степных народов сочетала безжалостное подавление любых поползновений к независимости и всесторонние меры по поддержке и сохранению образа жизни степных коневодов. При Цяньлуне имперские власти впервые в китайской истории стали активно вмешиваться в конфликты между оседлым населением и коневодами, погашая их. До правления Цин голод и конфликты, вспыхивавшие в степи, вынуждали коневодов вторгаться в оседлые районы Китая. Государство Цин, однако, обеспечило им надежную защиту от голода в случае губительных заморозков, которые в XVIII в. были нередки; в правление Цин никто не голодал из-за плохой погоды или падежа скота. Цинские чиновники внимательно следили за количеством осадков и высотой травы, стараясь предсказать плохие для стад времена. В 1748 г. дождей было мало, и монголы потеряли от 60 до 70% своих лошадей, что обрекало на голод людей, которым, чтобы выжить, требовалось по две чашки кобыльего молока в день[683]. Кроме того, гибель животных грозила нехваткой лошадей для почтовой службы, армии и других государственных институтов Цин. В правление Цяньлуна государство Цин 55 раз помогало голодающим монголам продовольствием и кормом для животных, оплачивая эту щедрость за счет ресурсов Китая[684]. В XVIII в. Китай был достаточно богат и централизован, чтобы, по сути, субсидировать степь с размахом, недоступным предыдущим династиям. Население степей, как и в прежние времена, едва ли превышало 3–5 млн человек, зато население Китая выросло с 50 млн при Тан до 200 млн при Цин. В новых обстоятельствах империи было гораздо проще держать степную границу под контролем. Как следствие, в отличие от императоров Тан и преемников хана Хубилая, Цин не потеряли поддержки степных коневодов, которые оставались верны Китаю вплоть до краха династии в 1912 г. Цин преуспели там, где потерпели неудачу все предыдущие династии – как исконно китайские, так и степные. Благодаря союзу со степными всадниками они смогли распространить свое влияние до границ Афганистана. Цяньлун и Цин научились наконец управлять степью. В конце концов, для Цин это была уже вторая попытка.Возвращение «золотых ханов»
Симпатия Цин к коневодам из степей объясняется их происхождением: Цин были потомками чжурчжэней, чьи «золотые ханы» правили в Пекине за столетие до прихода Чингисхана. По примеру династии Сун, которая в 1121 г. поощряла чжурчжэней с целью ослабить киданей, династия Мин, правившая в XIV–XVII вв., поддерживала чжурчжэньских торговцев лошадьми, надеясь таким образом помешать усилению ненавистных монголов. Чжурчжэни вернулись из безвестности и снова стали крупными поставщиками лошадей в Китай. В 1570-х гг. молодой чжурчжэнь по имени Нурхаци вместе с отцом и дедом водил в Китай торговые экспедиции; там в награду за прекрасных коней они получали почетные китайские титулы[685]. В правление династии Мин клан Нурхаци основал конный рынок на территории современной провинции Ляонин. Торговля процветала, и Нурхаци быстро сделался богатым и могущественным человеком. Талантливый дипломат и стратег, он поддерживал тесные контакты с китайцами и одновременно наводил мосты в отношениях с соседями-монголами, связывая свою семью брачными союзами с Борджигинами, потомками Чингисхана. В обмен на невест и подарки монголы поставляли Нурхаци лошадей, усиливая его влияние в степи. Забрав в свои руки еще больше власти, Хунтайцзи, сын и преемник Нурхаци, в 1636 г. объявил себя императором. Заодно он сменил своему народу имя: теперь чжурчжэни должны были зваться маньчжурами: именно поэтому сегодня принято говорить о Маньчжурии, маньчжурской династии и маньчжурском народе[686]. По большому счету, новая империя стала общим домом монголов и маньчжуров. Хунтайцзи поддерживал строгое равенство между этими народами[687]. Из каждого набиралось по восемь армейских «знамен», или бригад, по 10 000–15 000 человек в каждой, что в общей сложности составляло 200 000 воинов – огромная сила для территории, которая поначалу объединяла только современные китайские провинции: Внутреннюю Монголию, Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. «Знаменная» система сложилась на основе охот, посредством которых маньчжурские власти ослабляли лояльность коневодов прежним вождям. В «восьмизнаменных» войсках поддерживалась дисциплина не менее строгая, чем в армии Чингисхана. С такой первоклассной конницей новый император сделался грозным вершителем судьбы Китая. Династию Мин уже давно преследовали несчастья: природные катаклизмы, вспышки голода, крестьянские восстания. Когда в 1644 г. последний император династии Мин, осажденный повстанцами в Пекине, покончил с собой, юный сын Хунтайцзи, которого позже будут звать императором Шуньчжи, въехал в столицу, прогнал повстанцев и провозгласил себя новым Сыном Неба, взяв для своей династии имя Цин, то есть «чистая». Китай снова покорился власти коневодов – на этот раз они считали себя преемниками одновременно и «золотых ханов», и Чингисхана. Монгольские ханы, потомки покорителя мира, засвидетельствовали верность новому императору, подарив ему восемь белых лошадей и одного белого верблюда, и обязались каждый год до скончания времен привозить ему еще по девять белых животных[688]. Лояльность монгольских коневодов была крайне важна для новой власти, чья стратегия управления Китаем опиралась на уроки, вынесенные из монгольских, чжурчжэньских и киданьских неудач. Все эти династии рухнули, когда правящий класс, постепенно перейдя к оседлому образу жизни, лишался преданности своих степных сородичей и больше не мог рассчитывать на их конную мощь. Поэтому цинские императоры создали особые государственные институты, которые должны были обеспечивать управление и правосудие в степных регионах в соответствии с традиционными монгольскими и маньчжурскими законами, в то время как в китайских провинциях продолжали действовать законы династии Мин. Маньчжурские и монгольские «знамена» составили костяк армии, а дополнительные, второстепенные армейские части набирались из этнических китайцев. Первоначально цинская армия состояла только из конницы, которая даже во времена Цяньлуна насчитывала 200 000 воинов. В гарнизонные войска, в которых доля пехоты была выше, входило еще 400 000 человек. Это была самая большая армия в мире[689]. Только наполеоновская Grande Armée в июне 1812 г. достигла такого же размера, и то ненадолго. Чтобы удовлетворить потребность в лошадях, Цин основали несколько конных заводов в степях современной Внутренней Монголии. Отказавшись от приобретения лошадей у независимых скотоводов, они нанимали монгольских пастухов, чтобы те надзирали за императорскими табунами[690]. Такой подход позволил Цин наладить снабжение лошадьми без необходимости вмешиваться в местную политику, как это делали скотоводы Чингисиды. Возрождая государственнические традиции эпохи Тан, империя Цин встроила свои конные заводы в огромную бюрократическую структуру, в составе которой имелся двор императорской конюшни, личная конюшня императора и конюшни отдельных «знаменных» полков. В общей сложности под выпас 40 табунов, каждый из которых насчитывал по 12 000 кобыл, отводилось 23 000 кв. км земли[691]. Позже, когда Цин проводили военные операции далеко в степи, везти лошадей из Монголии оказалось неудобно, поэтому армия стала приобретать лошадей у казахов, в 2500 км к западу от Китая. Этот бизнес строго контролировался государством, которое не особенно доверяло торговцам лошадьми. Далеко на западе, в Урумчи, Цин построили рыночный павильон, который был закрыт для частных торговцев в периоды государственных закупок[692]. На лошадей Цин тратили столько, что создали глобальный дефицит предложения, и цены поползли вверх. Казахи разбогатели, а индийцам стало сложнее закупать лошадей в Центральной Азии. Цин надеялись, что уж теперь-то на издревле неспокойной границе со степью воцарится мир.Мои десять славных побед
Но этот «китайский мир» устраивал не всех: он ущемлял интересы самой западной группы монголов, ойратов[693], которые жили слишком далеко от Китая, чтобы воспользоваться покровительством Цин. Чтобы не лишиться лояльности своих скотоводов, ойратским ханам нужно было что-нибудь им предложить: либо доступ к привлекательным рынкам, либо возможность участвовать в прибыльных грабительских набегах. Удовлетворить такие амбиции ойратские ханы могли, только объединив скотоводов в группу достаточно большую, чтобы угрожать Китаю. Соответственно, верховные ханы ойратов то нападали на Китай с целью грабежа, то вели с Цин переговоры о расширении доступа на рынок, как это делали хунну за 17 столетий до них. Императоры Цин не собирались спускать эти набеги ойратам с рук и вели на западе масштабные военные кампании в попытках приструнить их. В 1720-х гг. ойраты уничтожили 50-тысячную армию Цин, захватили один из крупнейших цинских конных заводов во Внутренней Монголии и ускакали прочь с 12 000 лошадей. Китайцев тревожило еще и то, что ойраты заигрывали с русскими и приобретали у них передовую по тем временам артиллерию[694]. Россия веками мирно обменивала сибирские меха на китайский чай и никогда не проявляла агрессивных намерений в отношении Китая[695]. Однако Цин прекрасно понимали, что ойраты в любой момент могут объявить себя подданными Российской империи, нарушив тем самым баланс сил в степи. Если Великие Моголы считали Афганистан залогом своей конной мощи, то цинские императоры расценивали как экзистенциальную любую угрозу своей власти в Монголии[696]. Проблему ойратов нужно было решать. Император Цяньлун, вступив в 1735 г. на престол, поначалу пытался урегулировать разногласия мирным путем. Он стал приглашать ойратских вождей на свои ежегодные охоты в Мулани, дабы продемонстрировать им могущество цинского двора и удаль маньчжурской и монгольской знати. Однако эта конная дипломатия не убедила ойратов отказаться от своих амбиций. Один из ойратских ханов открыто проигнорировал Цяньлуна, не ответив на не так чтобы необязательное приглашение на осеннюю охоту. Хуже того, он вступил в сговор с далай-ламой, стремясь вывести Тибет, важного поставщика лошадей, из-под контроля Цин. Император решил убить этого вождя и стереть ойратов с лица земли. Министры и военные советники Цяньлуна – китайцы, монголы и маньчжуры – все как один пытались отговорить его начинать войну так далеко в степи. Они прибегали все к тем же аргументам, что и придворные императора У-ди, помешанного на «потеющих кровью» лошадях. Пастбища ойратов лежали за безводной пустыней больше чем в трех тысячах километров от владений Цяньлуна, и никаких выгод завоевание этого края не сулило. Придворные напомнили императору, что экспедиция в Фергану за «потеющими кровью» лошадьми, организованная в I в. до н. э. династией Хань, потеряла от 60 до 70% войска и большую часть лошадей[697]. В VII в. династия Тан начала было агрессивную экспансию на северо-запад, но власть ее в тех местах продержалась очень недолго. Династия Сун, правившая с X по XIII в., никогда даже не отваживалась вторгаться в степь: ей и так едва удавалось отражать угрозы на Северо-Китайской равнине. В правление династии Мин император Чжу Ди с 1403 по 1424 г. предпринял пять серьезных и всякий раз неудачных попыток усмирить монголов и умер во время последней кампании. В 1449 г. Чжэнтун, еще один император династии Мин, лично отправился на запад воевать с ойратами и попал к ним в плен. Совсем недавно, в 1690-х гг., армия Цин, выступившая в поход против ойратов, провела в степи 90 дней, прежде чем у нее закончилась вода; войско было вынуждено вернуться, едва не потеряв из-за обезвоживания всех своих солдат и лошадей. Но Цяньлун не дал себя отговорить. Чтобы обеспечить кампании успех, его решительный удар по ойратам должен был на порядок превосходить по силе все предыдущие. В прошлый раз Цин собрала три армии по 30 000 человек каждая и продержалась в степи 90 дней. Теперь же были разработаны планы по формированию трех армий по 50 000 человек, которые могли бы оставаться в степи до двух лет. Описания приготовлений напоминают выдержки из сатирического романа Рабле «Гаргантюа»: интенданты запаслись 1322 тоннами зерна, 1500 тоннами лапши, 500 тоннами хлеба и 12 000 бараньих боков; чтобы заготовить 200 000 тонн сушеного мяса, забили 40 000 быков и 20 000 овец. Но стоимость провизии значительно уступала стоимости ее транспортировки. Доставка риса от Великого канала, главной торговой артерии Китайской империи, в далекий оазис Хами в Таримском бассейне стоила в десять раз больше, чем сам рис[698]. На последнем отрезке пути китайцам помогали местные тюрки – как мусульмане, они по религиозным соображениям не жаловали буддистов-ойратов. С учетом того что склады с продовольствием были устроены и на границе, в Хами, и даже еще ближе, в Турфане, цинской коннице предстояло совершать переходы на расстояние не более 190 км, а это всего два-три дня марша.Россия и Китай делят степь
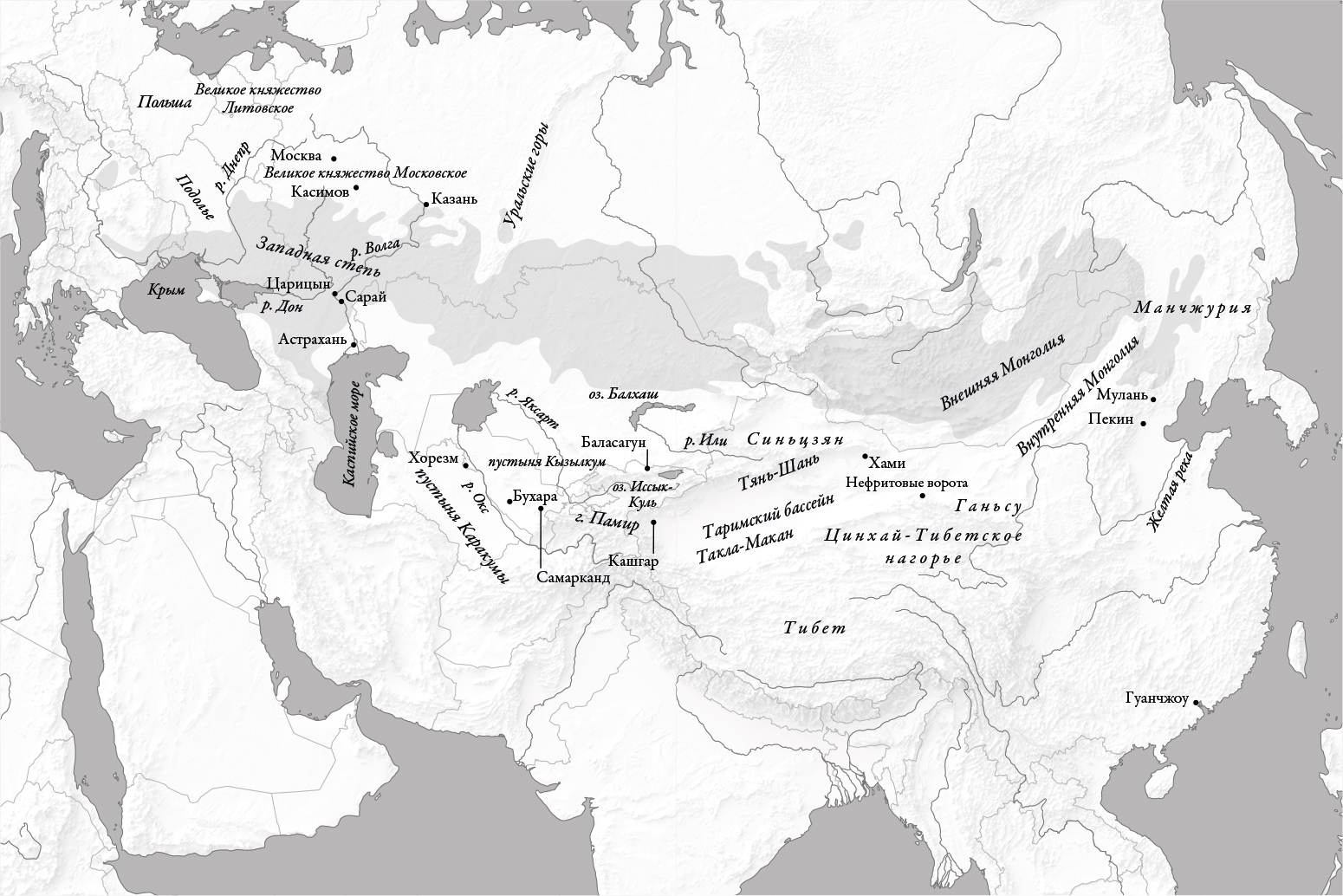
Логистический успех кампании Цяньлуна превосходил все похожие европейские начинания той эпохи. Во время войн Людовика XIV французская армия жила, по сути, на подножном корму, грабя и обрекая на голод немецкие и голландские города, попадавшиеся ей на пути. Оставаясь на одном месте, армия не смогла бы себя прокормить, поскольку никаких стратегических запасов у нее не имелось[699]. Вторжение Наполеона в Россию в 1812 г. также предполагало постоянное продвижение вперед, поскольку армия съедала все на своем пути. Самым слабым местом Русской кампании Наполеона и вероятной причиной его поражения стала нехватка корма для лошадей. Когда Наполеон взял Москву, кавалерии у него уже не было[700]. Китайский поход против ойратов был организован куда лучше: 100 000 лошадей цинской армии, которым предстояло преодолеть большее расстояние, чем Наполеону в его походе на Москву, часть пути могли пастись, а часть – питаться припасенным фуражом. В ходе двух кампаний 1755–1759 гг. войска Цяньлуна разгромили ойратов и заняли всю восточную степь от Нефритовых ворот в провинции Ганьсу до реки Или и озера Балхаш, которое расположено на территории современного Казахстана. Интересно, что император Цяньлун охотился в своих угодьях в Мулани, когда пришло известие о последней, окончательной победе над ойратами:
Через несколько дней церемоний наступает время, когда в Мулани ревут олени. Тысяча всадников ждут с луками и стрелами. По пути на север холод усиливается быстрее, чем успеваешь надеть на себя больше одежды. Конные гонцы приносят добрые вести с запада. Это будет хороший подарок. Вдобавок к осенней охоте далекие племена придут служить мне конюхами[701].Непонятно, как эти племена могли бы служить ему конюхами, если учесть, что произошло дальше. Император отдал недвусмысленный приказ уничтожить ойратов как народ. Цин распространили среди ойратов оспу. Тех, кто не умер от болезни и не стал жертвой систематических массовых убийств, увели в рабство «знаменные» маньчжуры и монголы. Принято считать, что к концу кампании погибло более миллиона ойратов[702]. Это был, пожалуй, первый масштабный и исторически засвидетельствованный случай геноцида. Он показал, что коневодческий народ невозможно против его воли принудить к подчинению, но, целенаправленно применив против него безграничные ресурсы цинского Китая, этих людей можно было просто стереть с лица земли. В опустевшую степь Цин переселили другие народы, в том числе верных им монголов, казахов, этнических китайцев и тюрков. Бывшие ойратские земли переименовали в Синьцзян – «новый край». Позже российские этнологи стали называть тюрков Синьцзяна уйгурами – по названию царства эпохи Тан. Вести о победах Цяньлуна над ойратами дошли до ушей иностранных купцов в Кантоне; размеры армий, расстояния военных походов и ярость битв, казалось, не поддавались описанию[703]. Тем не менее неутомимый Джузеппе Кастильоне с командой европейских и китайских художников проиллюстрировал батальные сцены, вдохновившись десятью поэмами, сочиненными самим императором в честь десяти своих побед. Солдаты и командиры цинской конницы, которых изображал Кастильоне, воздавая должное их отваге, столь же реалистичны, как терракотовые фигуры из гробницы Первого императора в окрестностях Сианя. Император хотел отпраздновать победу с размахом: пропаганда была важной составляющей его внутренней политики. Поэтому он с одобрением отнесся к предложению Французской Ост-Индской компании выгравировать эти рисунки на медных пластинах, посредством которых изображения можно было размножать и распространять по всей империи. Франция, как и другие европейские морские державы, стремилась заручиться благосклонностью Цяньлуна, чтобы получить приоритетный доступ к огромным рынкам богатого Китая. Под патронажем самого Людовика XV лучшие граверы Парижа изготовили 16 пластин, потратив на это более семи лет. Между 1772 и 1775 гг. пластины были бережно перевезены в Гуанчжоу вместе со станками для изготовления оттисков и уже оттуда доставлены ко двору в Пекине. Цяньлун пришел от новой технологии в восторг. Один набор гравюр Людовик XV оставил себе для демонстрации в Версале. Сейчас они хранятся в Лувре[704]. Десять из шестнадцати гравюр, которые стали известны в Европе под названием «Завоевания китайского императора», служат иллюстрациями к стихам, которые Цяньлун написал в память о своих славных победах. На одной из них, под названием «Битва при Аркюле», изображено столкновение маньчжурской и ойратской конниц. Ойраты вводят в бой конников, вооруженных мушкетами и стреляющих из седла, но маньчжуров прикрывает артиллерия на верблюдах. Силы неравны, и ойраты бегут. На другой гравюре изображен драматический эпизод 1759 г., когда ойратам удалось окружить китайскую армию в оазисе Яркенд. В центр композиции помещен китайский полководец посреди островерхих гор и облаков, что должно подчеркнуть отчаянное положение его армии. Он сидит на коне в полном доспехе и плеткой подает знаки осажденному войску, вселяя в солдат уверенность своей невозмутимостью. На горизонте уже виднеется подкрепление, которое снимет осаду и обратит ойратов в бегство. На гравюре «Битва при Орой-Ялату» войска Цин обрушиваются на ойратов, спящих в своих юртах, и голыми тащат врагов в плен или на расправу. На картине, запечатлевшей момент окончательной капитуляции ойратов на берегу реки Или, они падают на колени и на вытянутых руках протягивают победителям мушкеты. Их овцы, коровы, верблюды и лошади сгрудились в кучу. Буддийские ламы пробуют замолвить слово за сдавшихся воинов, а группа ойратов в надежде на спасение бросается в воды широкой реки Или. Конные «знаменные» маньчжуры не торопясь едут принимать капитуляцию. Эта коллекция гравюр – дань уважения империи Цин, которая в период своего расцвета провела величайшую кавалерийскую военную операцию в истории. Покорив степь, Цин удвоила размеры Китайской империи, и эта победа долгим эхом отзывалась по всей Азии, когда соседи Китая взвешивали свои возможности в отношениях с новым, огромным китайским государством. Страх перед мощью Китая сочетался с желанием вести с ним торговлю. Афганец Ахмад-шах, узбекский хан Бухары, казахские орды – все хотели получать прибыль, продавая Цин боевых лошадей. Эффективность, с которой Цин в XVIII в. мобилизовали огромные ресурсы Китая, и их попеременная щедрость и безжалостность в отношении степных соседей гарантировали, что степь никогда больше не будет угрожать Китаю. Новая угроза пришла с неожиданной стороны и не имела никакого отношения к лошадям. В 1793 г., в возрасте 82 лет, Цяньлун все еще принимал иностранных послов в своей просторной желтой юрте в Мулани. Тюрки из Бухары привезли ему прекрасных лошадей, и в тот же день пришло известие об удивительном посольстве, прибывшем по морю. Эти люди явились без лошадей и хотели торговать не у Великой стены, а через морские порты Китая. После короткой и неловкой встречи престарелый монарх отклонил их просьбу о заключении нового торгового соглашения. Свой официальный ответ иностранным дипломатам он удостоверил традиционной подписью красными чернилами со словами «Трепещите и повинуйтесь». Повеление предназначалось королю Великобритании Георгу III. Это была первая из нескольких непрошеных попыток англичан, а позже французов и американцев выйти на китайский рынок. Коневоды-маньчжуры недооценили трудности, с какими они столкнутся, пытаясь удержать эти растущие морские империи на расстоянии вытянутой руки. Династия Цин считала оборону степной границы критически важной для своего выживания, поскольку все успешные завоеватели приходили в Китай оттуда. Западные морские державы никогда не казались китайцам серьезной угрозой. Цин держали в степи огромные военные силы, и в итоге Китаю удалось сохранить за собой эти территории вплоть до настоящего времени[705]. А тогда, пусть степные орды больше не представляли для Китая угрозы, но экспансионистская политика России, крупнейшей конной державы, требовала от Пекина максимальной бдительности.
Посещение сокровищницы
Россия, как и Китай, в XIII в. покорилась преемникам Чингисхана. Однако татары Золотой Орды, как называли их русские, напрямую, как в Китае, захваченными землями не управляли. Они нанимали русских князей, которые собирали для них дань. Это устраивало татар, которые не желали править оседлым населением и не стремились переселиться в северные лесные земли, не пригодные для содержания больших табунов лошадей. Русские князья на службе у татар становились все богаче и могущественнее. Они даже собирали войска, чтобы вместе с татарами выступать против их врагов, в том числе против Тимура[706]. Дерзкий поход в заснеженную степь, предпринятый Тимуром в 1389 г., серьезно ослабил Золотую Орду, и она раскололась на множество мелких орд и ханств: крымчаков, ногайцев, казахов, узбеков и туркмен. Все эти группы соперничали друг с другом за контроль над пастбищами и торговлей. Вакуум власти заполнили московские князья, бывшие сборщики дани, за 250 лет татарского ига прекрасно освоившие искусство степной войны и дипломатии. С самого начала московская государственность зиждилась на лошадях. Спустя столетие после монгольского завоевания в Москве уже работала крупнейшая в западной степи конная ярмарка. Она проходила у кремлевских стен на берегу реки Яузы, и только в 1911 г. уступила место оживленной трамвайной остановке. Подобно тому как монгольские коневоды стремились торговать с Пекином, а коневоды Афганистана – с Индией, так и татарам Москва нужна была как рынок сбыта лошадей и других степных товаров[707]. Западная степь, начинавшаяся всего в нескольких днях пути от стен Кремля, кишела лошадьми. Французский наемник капитан Жак Маржерет оставил восторженные воспоминания о табунах, встреченных им в его путешествии по Московскому княжеству:В Россию лошади приводятся главным образом из Ногайской Татарии… они ростасреднего, весьма удобны для работы и бегут без отдыха 7 или 8 часов… имея весьма дикий нрав, они пугаются ружейного выстрела; обыкновенно бывают неподкованы. <…> У ногайцев бывают иногда небольшие, очень красивые лошадки – белые с черными пятнами, как тигры или леопарды, будто бы разрисованные… Кроме того, русские покупают изредка черкесских жеребцов, которые весьма красивы, но при продолжительной езде не могут сравняться в выносливости и быстроте с конями татарскими; есть лошади турецкие и польские, между которыми встречаются хорошие; их зовут аргамаками; все аргамаки, вообще, мерины.Особенно Маржерету понравилась цена на степных лошадей:
Можно иметь весьма красивую и хорошую татарскую или русскую лошадь ценой за 20 рублей[708], которая прослужит долее аргамака, турецкой лошади, стоящей 50, 60 и 100 рублей[709].Само количество ногайских лошадей, поставляемых на рынок, поражало воображение иностранных гостей. Один английский купец заметил: «Татары разводят столько лошадей, но несмотря на то, что и сами используют их для езды и еды, в Москву ежегодно приводят от тридцати до сорока тысяч татарских лошадей для обмена на другие товары». По оценкам Маржерета, объем торговли был вдвое больше[710]. Получается, что московский рынок был либо всего вполовину меньше, либо равен индо-афганской и монголо-китайской торговле; в любом случае он был огромен относительно размеров довольно скромного в то время Российского государства. Когда московский князь хотел вознаградить товарища за верную службу, он не назначал ему сельскохозяйственную ренту, как в Западной Европе, – он наделял его правом собирать налоги с продажи и клеймения лошадей[711]. Значение лошади для благополучия Москвы подчеркивает тот факт, что княжество чеканило монеты с изображением всадника, вооруженного копьем, – такая монета стала называться «копейкой». Каждый москвитянин носил в кармане этот символ растущего могущества Москвы. Москва открыла свой конный рынок, чтобы расположить к себе татар и укрепить свое политическое влияние. Она давала татарам торговые привилегии, чтобы побудить их становиться союзниками Москвы, готовыми защищать ее от общих врагов, так что в большинстве военных кампаний зарождающееся Российское государство могло рассчитывать на двадцать и более тысяч союзной татарской конницы[712]. Это не означало, что на рынке не наблюдалось обычной напряженности между продавцами и покупателями. Как и монголы в Китае и афганцы в Индии, степные торговые экспедиции вели себя как военные. Москвитяне называли их «переезжими базарами», и в каждом было до 1000 торговцев и до 9000 лошадей. Чтобы контролировать конных людей и гарантировать государству право выбора лошадей по сходным ценам, покупать животных на таких базарах могли только государственные «служилые люди», частные торговцы не допускались. Лошадей группировали по 100, чтобы служилые люди могли пересчитать их и собрать налог в размере четырех лошадей с каждой сотни[713]. Из этих налогов глава Конюшенного приказа ежегодно клал себе в карман сумму, эквивалентную 12 млн долларов в современных деньгах[714]. Как и Китай, Москва запрещала продавать коневодам порох, оружие и железную утварь, потому что татарские отряды могли быстро превратиться из торговых партнеров в опасных врагов. Для татар Москва представляла собой одновременно и возможность, и угрозу. Она предлагала им рынок для реализации избытка лошадей, но растущая мощь России лишала их политической свободы действий. Когда богатство и военная сила Москвы возросли так, что с этим нельзя было не считаться, татары Центральной Азии предложили своим родичам с Волги вместе совершить набег на Москву, как они делали в прошлом, и сбить с русских спесь. Но было уже слишком поздно. Волжский хан объяснял родичу: «Ты торгуешь с Бухарой [откуда лошади продавались даже в Индию]. Я торгую с Москвой. Если я пойду войной на Москву, мои люди разорятся»[715]. Москва приобретала татарских лошадей для своей конницы, численность которой соответствовали ее растущим военным амбициям. Самым высокопоставленным служилым человеком был боярин и конюший, то есть главный конюший. Он, как и весь царский двор, повсюду ездил верхом и никогда не ходил пешком, точно как татары. Конница была организована по татарскому образцу в плане стратегии, тактики и даже вооружения и сбруи. Русские ратники, как и воины-татары, были вооружены копьями и саблями. Татарский лук и стрелы они использовали вплоть до середины XVII в., а затем постепенно сменили их на пистоли, и не потому, что огнестрельное оружие эффективней, но потому, что обращение с ним не требует такой сноровки. За образец в Москве была взята и организация войска, принятая у татар: оно делилось на десятки, сотни и тысячи, объединенные в левое и правое крыло[716]. Общая численность русского войска составляла 80 000 ратников, которые, подобно всадникам Тимура, шли вперед под бой барабанов[717]. Пехота составляла лишь небольшую часть русских войск, потому что в степях сражались, как правило, конные армии[718]. Даже когда Москва воевала с поляками и литовцами, своими западными соседями, оружие и тактика обеих сторон основывались на опыте многолетних войн со степными народами. Армии всех этих оседлых стран были очень похожи на армии их татарских противников[719]. Ничто так не доказывает сродство Москвы со степными всадниками и ее успехи в войнах с ними, как сокровища, хранящиеся в кремлевской Оружейной палате. Здесь московские князья держали дорогие подарки, полученные от соседей, желавших заручиться их поддержкой. Есть там пара железных стремян, изготовленных, скорее всего, в Константинополе, покрытых золотом, инкрустированных голубой бирюзой и кроваво-красными рубинами. К стременам приделаны ремни, сплетенные из васильково-синего шелкового шнура. Еще там хранится переносье уздечки, сделанное из позолоченной серебряной черни, и каждая его пластинка украшена эмалью или рубином; есть там бархатный чепрак с вышитыми золотой нитью тюльпанами, гиацинтами и гвоздиками; колчан для стрел из алой кожи, окантованный серебром и расшитый золотой и серебряной нитью; пара седел, одно из которых украшено бирюзой и рубинами, а другое усыпано жемчугами и изумрудами[720]. В начале 1580-х гг., на закате своего правления, московский царь Иван IV Грозный пригласил посланца английской королевы Елизаветы I Джерома Горсея полюбоваться этими наглядными свидетельствами его побед над степными всадниками[721]. Сгорбленный от старости монарх провел англичанина по сверкающим кладовым Кремля, чтобы тот посмотрел на великолепную конскую упряжь тонкой работы. Как и у Цяньлуна, у Ивана, показывавшего англичанину свои сокровища, хватало поводов для гордости. Кульминацией его царствования стало завоевание многих ханств, осколков Золотой Орды, в том числе Астрахани и Казани[722], что обеспечило Москве контроль над торговлей на Волге. Эти завоевания заложили основу для становления Руси как крупной азиатской конной державы и, кстати, сделали Москву Ивана значительно больше Лондона времен Горсея.
 Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею. Александр Литовченко, 1875 г.
Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею. Александр Литовченко, 1875 г.
Непревзойденный интриган, Иван Грозный дважды отрекался от престола – в обоих случаях для того, чтобы вывести из равновесия своих политических противников. Во второй раз он отрекся в пользу татарского хана из Касимова, чьи притязания на московский престол, что интересно, основывались на его чингисидской родословной[723]. Позже Иван вернулся к власти и упек татарина в монастырь. Свою собственную легитимность Иван подкрепил заявлением, что по материнской линии он и сам потомок Чингисхана. Сомнительная генеалогия, которая тем не менее подчеркивала его стремление подхватить знамя, выпавшее из рук потомков покорителя мира. Чтобы укрепить свою власть над степными народами, в 1547 г. Иван принял титул «царь». Слово напоминает не только о римских цезарях, от названия которых и происходит русское слово «царь», но и о том, как русские именовали монгольских ханов – например, «царь Чингис». По настоянию Ивана татарские ханы стали письменно обращаться к нему как к «великому белому хану», и еще несколько поколений после него именно так называли русских царей и императоров их азиатские соседи, в том числе иранские шахи и китайские императоры династии Цин. Но слово «белый» не имело отношения ни к расовой принадлежности русских, ни к цвету мундиров русских солдат XIX в. Согласно древней степной традиции, белый – это цвет западного направления. Царь Иван хотел быть великим ханом Запада, и к моменту своей смерти в 1584 г. он обзавелся империей, соответствующей этому титулу[724].
Казаки и казахи
В долгосрочной перспективе степные завоевания Ивана оказались прочными, но в XVII в. разрозненные, однако все еще сильные остатки Золотой Орды, расположенные за пределами сферы влияния Москвы, оспаривали укрепляющуюся гегемонию России в степи и даже совершали набеги вглубь страны. Крымские и ногайские татары не раз сжигали деревянную Москву. Они могли преодолевать до 1500 километров в один прием, питаясь кобыльим молоком, появляясь внезапно и наводя ужас на русских[725]. В те 15 лет, что длилось Смутное время, последовавшее за смертью наследника Ивана и пресечением его династии в 1598 г., татарские разбойничьи отряды уводили русских в плен десятками тысяч. Казахи и калмыки (калмыки исповедовали буддизм и говорили на монгольском языке) угрожали русским поселениям на Волге. В 1613 г. одной из первостепенных задач, вставших перед Михаилом Федоровичем, царем новой династии Романовых, было укрепление обороны Москвы от набегов из степи. Он собирал новые конные полки, но не мог сравняться с татарской конной мощью[726]. Русские лошади, выращенные в конюшнях и выкормленные зерном, были недостаточно выносливы для длительных походов в степь, а их стоимость ограничивала численность конницы, которую царь Михаил мог ввести в бой. Москве нужно было обзавестись гораздо более многочисленным конным войском, лучше приспособленным к степным условиям. По счастливой для царя Михаила случайности эту задачу взяли на себя казаки. Казаки появились в период упадка Золотой Орды. Когда старая степная империя рухнула, ее коневоды стали сбиваться в небольшие группы и действовать самостоятельно. Подобно Бабуру и его нукерам, они называли себя казахами, в смысле «вольный стрелок» или «разбойник». Русский эквивалент – казак – первоначально обозначал искателей приключений и разбойников любой национальности[727]. Как татары, недовольные вождем, могли взять свои стада и отправиться на поиски новых пастбищ, так и беглые крепостные, попы-расстриги, разорившиеся землевладельцы и разжалованные офицеры из Польши, Литвы и Москвы бежали в неподконтрольные их бывшим хозяевам края и создавали самоуправляемые сообщества. Беззаконную территорию, где они обосновались, стали называть Украиной, то есть «окраиной». Здесь они жили за счет скотоводства и грабежа. У казаков и татарских всадников было много общего. Они одевались в одинаковые длинные черкески, широкие шаровары и высокие сапоги. И те и другие носили на голове длинные чубы, провоцируя врагов отрезать им головы и привязывать к своему седлу[728]. Казаки сражались верхом, вооруженные копьями и луками, как и татары. Их мерины, выращенные на берегах реки Дон, были маленькими, крепкими и выносливыми, как татарские кони. Эти две группы даже вступали в браки между собой – или как минимум похищали дочерей друг друга[729]. При этом казаки были христианами, говорили на славянских языках, а татары в основном были тюркоязычными мусульманами. Казаки, по сути, были и братьями, и врагами татар, с которыми они воевали за обладание пограничной землей – Украиной. Татарское сопротивление казакам возглавили крымские ханы. Самое могущественное из государств – преемников Золотой Орды, Крымское ханство располагало огромными богатствами, полученными от разведения и продажи скота. Только сами ханы, потомки Чингисидов, владели 10 000 лошадей и четвертью миллиона голов другого скота; их ближайшее окружение держало еще 50 000 лошадей[730]. Животных из этих стад они поставляли на рынки всей Азии и даже Индии, но при этом и сами могли собрать войско в 100 000 всадников, чего было более чем достаточно, чтобы заслужить уважение соседей[731]. Однако крымским ханам приходилось оборонять свои обильные стада на двух фронтах. На востоке жили ногайцы и калмыки, которые не признавали власти ханов и нередко совершали грабительские набеги на их земли[732]. На западе на их пастбища медленно, но верно наступали казаки. Сопротивление ханства ослабевало. Его коневоды не реагировали на экзистенциальную угрозу, исходящую от казаков, – больше недовольства у них вызывало давление со стороны собственных ханов[733]. Постоянно поднимая восстания, они свергли 12 ханов в XVI в., 16 ханов в XVII в. и 18 ханов в XVIII в. Когда ханство перешло от дерзких нападений к обороне собственных пастбищ, ханы больше не могли обеспечивать лояльность своих сторонников, подкупая их добычей от грабежей. Лояльность зависела от вознаграждения, а Московское и Польско-Литовское княжества могли позволить себе более щедрые выплаты или взятки[734]. Поэтому, несмотря на свою, казалось бы, грозную конную силу, крымские ханы все чаще оказывались беспомощны перед христианскими государствами. Наибольшую выгоду из слабости крымских ханов поначалу извлекали поляки и литовцы, которые в начале XVII в. заняли значительную часть территории современной Украины и нанимали казаков с востока до самого Дона. Речь Посполитая, как и княжество Московское, имела много общего со своими степными противниками, проведя последние 300 лет в постоянных контактах с ними – как в военное, так и в мирное время. Польские дворяне, шляхта, разводили огромные табуны лошадей в степях Подолья – области, которая входит в состав современной Украины[735]. Чтобы представить свою экспансию на территорию Украины как возвращение на родину предков, шляхта поддерживала легенду о своем происхождении от древних скифов, которые кочевали по той же степи 2000 лет тому назад[736]. Однако в 1647 г. мечтам поляков о завоевании степей пришел конец: их союзники-казаки взбунтовались, изгнали шляхтичей из их недавно приобретенных владений и попытались утвердиться в степи в качестве независимой державы под властью собственной разновидности ханов – гетманов[737]. Общей слабостью степных политических образований был условный характер верности подданных правителям. При желании всадники могли просто вскочить в седло и покинуть своих вождей. Самодержавная Россия воспользовалась этим, чтобы исключить появление сильных лидеров среди ее соперников за контроль над степью[738]. Амбициозные ханы, заносчивые шляхтичи и свободолюбивые казаки – никто из них не сумел в достаточной мере организоваться перед лицом территориальных притязаний Москвы. В 1654 г. царь Алексей Михайлович подчинил казаков Украины русскому владычеству в обмен на защиту их от прежних польско-литовских покровителей. Россия стала крупнейшей страной в мире, а граница земель независимых коневодов переместилась с Дона на Волгу, на 400 км дальше на восток. Оседлое население России шло вслед за казаками, обрабатывая новые свободные земли. Как и в Китае, оно демографически значительно преобладало над местными коневодами: при численности населения 9 млн число последних никогда не превышало полумиллиона[739]. Степные земли, где со времен скифов преобладало коневодство, теперь начинали использоваться под посевы. Они оказались исключительно плодородными и потому очень привлекательными для земледельцев[740]. В будущем именно эти территории сделают Россию и современную Украину крупнейшими экспортерами зерна. Но казаки приносили российскому государству огромные экономические выгоды и помимо новых территорий. В обмен на такие привилегии, как самоуправление и пожалование захваченных земель, они несли военную службу и обеспечивали государство лошадьми по меньшей стоимости, чем это удавалось регулярной армии, на которую и так уходила большая часть государственного бюджета. В сравнении с лошадьми регулярной кавалерии, которых приходилось содержать и кормить за счет сельскохозяйственных угодий, казачьи лошади, пасшиеся в степи, были, по сути, бесплатным ресурсом. Они, как и кони их соперников-татар, в военных походах питались подножным кормом, а следовательно, казаков не сдерживали логистические ограничения, которые приходилось учитывать регулярной русской кавалерии. Как и татары, казаки зарабатывали, разводя лошадей и продавая их на конных ярмарках в Центральной России. Постепенно вытеснив татар, они сохранили свою экономическую роль поставщиков лошадей российскому государству, которое нуждалась в них для военных целей и для гражданских и сельскохозяйственных работ. Конечно, опора Москвы на казаков в деле расширения империи не всегда гарантировала успешное продвижение к цели. Казаки постоянно бунтовали, а иногда даже объединялись против царской власти с татарами. В 1670 г. Стенька Разин, атаман, недовольный московским владычеством, прекратил сражаться с татарами и поднял казачье восстание, бросив вызов царю Алексею Михайловичу. С армией в 7000 конных казаков он захватил два крупных торговых города на Волге – Царицын (позже Сталинград, а ныне Волгоград) и Астрахань – и опустошил степную границу России так же безжалостно, как какая-нибудь татарская орда. Москве пришлось собрать все силы, чтобы остановить и в конечном итоге разбить Разина. Восстание закончилось его поимкой и публичной казнью на Болотной площади; казаков, которыми командовал Разин, Москва сослала в дальнюю степь, в очередной раз раздвинув границы империи. В 1717 г., продолжая политику предшественника, Петр I Великий бросил своих казаков на степной оазис Хорезм, расположенный в 2800 км от Москвы, но успеха не добился. В 1720 г. казаки Петра заняли прикаспийские провинции Ирана (откуда их впоследствии изгнал Надир-шах). В 1721 г. Петр сменил свой титул со славянского «царь» на латинское «император» и официально провозгласил Россию империей, смело заявив о своих амбициях.Россия разделяет и властвует
При наследниках Петра Россия, подобно монголам на загонной охоте, все теснее смыкала кольцо вокруг степных коневодов. Екатерина Великая отправила старых степных соперников России на свалку истории, в 1783 г. изгнав из Крыма последнего хана, а в 1795 г. уничтожив некогда могущественное Польско-Литовское государство. К северу от степи, в Уральских горах, и на востоке, вдоль Волги, казаки построили линию крепостей, и, используя как жадных до пастбищ казаков, так и краткосрочные союзы с татарскими кланами, русские подавляли сопротивление своих соперников одного за другим. Екатерина стремилась сделать Поволжье столь же богатым и населенным, как Рейн или Эльба, и даже завезла туда немецких крестьян-колонистов. Против ее планов выступили казахские орды[741]. Чтобы сдержать казахов, Россия заключила союз с буддистами-калмыками: их могущественное ханство простиралось от Каспийского моря до Уральских гор, и они были крупными поставщиками лошадей в Москву и Пекин[742]. Однако после того, как калмыки указали казахам их место, Россия не смогла предотвратить посягательства казаков на калмыцкие пастбища[743]. В результате в 1771 г. калмыки отказались от союза с Россией и мигрировали на 3200 км на восток, на китайскую территорию, где восьмой далай-лама договорился с китайским императором Цяньлуном о предоставлении им пастбищ. По пути калмыкам приходилось отражать атаки и казаков, и казахов, и только 66 000 из 130 000 калмыков выжили в этом Великом исходе. С уничтожением калмыков исчезла еще одна угроза степной гегемонии России[744]. Бегство калмыков стало последним в истории великим переселением степного народа, а его катастрофический исход ознаменовал конец эпохи независимых степных ханств. Казаки, которым больше не угрожали калмыки, вновь обратились к собственным проблемам: их беспокоило заселение вольных степей немецкими колонистами Екатерины и ее все более жесткое правление из далекого Петербурга. В 1773 г. Емельян Пугачев, как за столетие до него Степан Разин, поднял волжских казаков на восстание. Он заключил союз со своими бывшими врагами-татарами и собрал 25-тысячную конную армию. Восстание вспыхнуло по всей Волге, бунтовщики взяли под контроль всю территорию бывшего Калмыцкого ханства. Это был самый серьезный политический вызов, с каким только сталкивалась императорская Россия. Но любовь казаков и татарских коневодов к свободе и анархии в очередной раз обрекла их на поражение. Дисциплинированная и сплоченная армия Екатерины разбила повстанцев, и без того ослабленных соперничеством между казахами и казаками, и после двух лет ожесточенных боев восстание было подавлено. Отрезвленная пугачевским бунтом, Екатерина сменила политику по отношению к подданным коневодческим народам на более прагматичную, благодаря чему окончательное умиротворение казахов прошло гораздо спокойнее, особенно если сравнивать с предшествовавшими ему потрясениями. После уничтожения калмыков и ужесточения контроля над казаками Петербург мог позволить себе гарантировать казахам мир и защиту. В отличие от крымских татар, чьи стада паслись на щедрых, пригодных для возделывания землях Украины, казахи были лучше защищены от чужих посягательств засушливостью своей родной степи[745]. Более того, Екатерина распространила на многих казахов статус казаков, включив казахские отряды в состав вооруженных сил и признав военный характер степного общества. Это дало России решающее преимущество в войнах на Кавказе, в Турции, Иране и Центральной Азии. В этих кампаниях солдаты регулярной русской армии массово гибли от болезней, а вот казаки, привыкшие к жизни в степи, несли сравнительно небольшие потери. Лошади продолжали продвигать Российскую империю вглубь континента. В XIX в. казачьи эскадроны, стоявшие на реке Или, с опаской присматривались к грозным цинским «знаменным» войскам. Одновременно русские разведчики и исследователи на реке Окс отмечали, что англичане неуклонно продвигаются с юга на север, ведь на смену Великим Моголам в Индии пришла, как это ни удивительно, Британия. В процессе становления современного мира две европейские империи оказались втянуты в древнюю политическую игру, вступив в соперничество за конную силу Центральной Азии.11 Большая игра
Британская Индия и Россия, 1739–1881 гг

Разгул анархии
Наследницей империи Великих Моголов, разрушенной вторжением Надир-шаха в 1739 г., стала Британия, но такое развитие событий вовсе не было предопределено. Надир вернулся в Иран с караванами награбленного, оставив после себя вакуум власти, который кинулись заполнять жадные до грабежей афганцы с севера и амбициозные маратхи с юга. Поначалу южанам удалось захватить Дели и превратить Мухаммада Шаха, 13-го императора моголов, в свою марионетку. Но уже в 1747 г. афганец Ахмад-шах захватил богатый могольский Лахор, что позволило ему нарастить численность своей конницы до 200 000 всадников[746]. В итоге он изгнал маратхов из Дели – по крайней мере, временно. Вскоре они собрались с силами и вернулись. В 1761 г. две армии сошлись на равнине у Панипата, где за несколько веков до этого еще один захватчик из Афганистана, Бабур, разгромил оборонявшихся индийцев. Вторая битва при Панипате в очередной раз продемонстрировала роль центральноазиатских лошадей как источника военной мощи[747]. Махараджи маратхов Шинде из Гвалиора, Холкар из Индора и Гаеквад из Бароды[748] колебались, прежде чем вступить в бой с афганцами Ахмад-шаха, которые ездили на «мощных конях туркменской породы, ставшими еще выносливей от постоянных тренировок»[749]. Сознавая преимущество афганцев, Шинде призывал своих товарищей-махараджей к осторожности, но советы горячих голов возобладали. В результате афганцы в пух и прах разгромили маратхов на их легких лошадках. Холкару и Гаекваду, ездившим на превосходных арабских скакунах, удалось унести ноги. Махараджа Махаджи Шинде[750] скрылся с поля боя на катхияварской кобыле, и ему повезло меньше. Шинде скакал что было сил, но огромный афганец на рослом туркменском коне преследовал его, не отставая. Катхияварская кобылка пыталась поднажать, но туркменские лошади никогда не уставали. Шинде промчался полторы сотни километров, когда его кобыла наконец споткнулась. Афганец набросился на Шинде, размозжил ему колено боевым топором и забрал все его драгоценности, одежду и лошадь. После этого он, что удивительно, ускакал прочь, оставив Шинде живым, но навсегда охромевшим[751][752]. Мечтам маратхов о собственной индийской империи был положен конец, но и афганцы недолго наслаждались плодами победы Ахмад-шаха при Панипате. Уже через несколько лет их вытеснили из Северо-Западной Индии пенджабские сикхи. Превратившиеся из чисто религиозного движения в грозную военную силу сикхи не желали подчиняться ни моголам, ни афганцам и даже ограбили нагруженный богатой добычей обоз Надир-шаха, когда тот возвращался из Дели в Иран. Когда Надир спросил у своего наместника, почему тот не может одолеть этих иногда обнаженных, иногда закутанных в оранжевые тряпки божьих людей, тот ответил: «Их единственный дом – седла их лошадей. Они могут долгое время обходиться без еды и отдыха. Говорят, они даже спят в седле. Мы назначили награды за их головы, но их становится все больше. Они никогда не падают духом, но без конца поют песни своих гуру»[753]. Элитную сикхскую конницу, которая ездила на небольших лошадках из Лакхи, за свирепость прозвали нихангами или «крокодилами»[754]. Сикхи были не единственными, кто пустился во все тяжкие после поражения маратхов и ухода Ахмад-шаха. Повсюду в Индии собирались конные армии, не имевшие никаких политических амбиций: люди просто боролись за выживание[755]. Иные бедные общины либо находили возможность заработать на разведении и продаже лошадей, либо, оседлав собственных коней, подавались в разбойники и наемники. Индо-афганцы из горных районов, как и всегда, продавали себя и своих лошадей тому, кто больше заплатит. История одного из них, Амир-хана, типична: начинал он как мелкий разбойник с отрядом из десятка человек. Махараджа Шинде оценил его безжалостность и взял под свое крыло. Вскоре Амир-хан уже командовал 500 всадников, потом пятнадцатью сотнями, а затем и тридцатью тысячами. «Коварный, хитрый, скупой, жестокий и совершенно лишенный личного обаяния», он грабил всех без разбора[756]. На его портрете в Музее Виктории и Альберта изображен могучий громила, восседающий на столь же могучем коне, нижняя половина тела которого выкрашена кроваво-красной хной[757]. Войска Амир-хана уклонялись от регулярных сражений, зато нападали на обозы, сжигали дотла деревни и уничтожали отставшие от своих отряды. Несколько десятилетий в Индии не находилось никого, кто мог бы им противостоять, а многие беспринципные лидеры охотно использовали всадников Амир-хана против своих противников. Народ каттра, живший в засушливом районе Катхиявар в Гуджарате, тоже смекнул, что разведение лошадей, торговля и разбойничьи набеги – дело более прибыльное, чем обработка неплодородной земли. В период анархии каттра воспользовались слабостью правительства, оседлали своих лошадей и превратились в отъявленных бандитов. Они предлагали услуги вождям маратхов и обогатились так, как предыдущим поколениям каттра и не снилось. Анархия вынуждала оседлые государства Индии вкладывать значительные средства в конницу в надежде заполучить земли, раньше принадлежавшие Великим Моголам, а теперь бесхозные. Типу Султан, который правил южным государством Майсур в последние два десятилетия XVIII в., прославился тем, что имел деревянного игрушечного тигра в натуральную величину, который пожирал деревянного же англичанина под адские вопли, издаваемые спрятанным звуковым устройством. Чтобы компенсировать нехватку хороших пастбищ на территории современного штата Тамилнад, он субсидировал коневодство, выплачивая 100 рупий в год на корм молочному жеребенку и 200 рупий жеребенку постарше, и это в то время, когда на севере хорошая тюркская лошадь стоила 500 рупий. Общие расходы на коневодство доходили до 1,8 млн рупий, а годовые налоговые поступления государства Майсур составляли всего 400 000 рупий. Султан мог покрыть разницу только за счет военных побед и взимания репараций. Другими словами, конница Майсура должна была зарабатывать 1,4 млн рупий в год, чтобы хотя бы выйти в ноль. Эта математика хорошо объясняет бесконечные войны той эпохи[758]. Самыми успешными из новых обладавших лошадьми сил в Индии оказались сикхи[759]. В XVIII – начале XIX в. они создали свое государство, в которое вошли Пенджаб, Кашмир и Ладакх, и теперь контролировали доступ к лошадям Афганистана и Центральной Азии. Сикхское государство стало последним из тех, что были завоеваны конной силой в Индии, да и во всем мире. Оглядываясь на свои победы, великий вождь сикхов, махараджа Ранджит Сингх, в 1831 г. признавался английскому гостю: «Все мои завоевания сделаны мечом [то есть кавалерией]. Я никогда не видел, чтобы от пехоты или артиллерии был какой-то прок»[760]. Конюшни махараджи по своему великолепию не уступали могольским. По случаю визита посла владыка сикхов провел смотр 30 своих лошадей, великолепно убранных, с уздечками, инкрустированными бриллиантами, изумрудами, рубинами, бирюзой, жемчугами и кораллами. Позже, когда две такие уздечки демонстрировались в лондонском Хрустальном дворце на Всемирной выставке 1851 г., они были застрахованы на десятки тысяч рупий. Когда гарцующие «выставочные витрины» проходили мимо него, махараджа называл имя лошади, перечислял всех ее предков, а также ее достоинства и недостатки[761]. В общей сложности силы сторон, сражавшихся за индийское господство, насчитывали 600 000 всадников, причем на ремонтных лошадей ежегодно тратилось до 20 млн рупий и еще 80 млн рупий уходило на фураж, что почти вдвое больше того, что тратили на свою кавалерию Великие Моголы[762]. На самом деле Индия вполне могла оплачивать такие расходы, получая к тому же солидные дивиденды в виде награбленного и дани от побежденных. В отличие от демографически слабеющего Ирана, который едва мог потянуть конные силы Надир-шаха, население Индии, насчитывавшее 200 млн человек и продолжавшее расти, производило достаточно прибавочного продукта, чтобы содержать свои непрестанно воюющие конные армии[763]. Конфликты, охватившие Индию, затронули и европейские морские державы, торговавшие под протекцией моголов. Франция и Великобритания стали поддерживать то одни, то другие соперничающие в регионе силы, используя их в качестве прокси в своих собственных торговых войнах. Французы подстрекали правителя Бенгалии выгнать британских торговцев из прибыльной фактории в Калькутте. Ответный удар британцев и победа над французами и их бенгальскими союзниками в битве при Плесси в 1757 г. сделала Британию хозяйкой богатейших территорий субконтинента и превратила ее в основного претендента на власть в Индии. С кавалерией в 500 человек британцы, однако, еще не представляли собой серьезной конной силы. Клерки счетной палаты, выходцы из старых торговых семей, ассоциировали кавалерию с аристократией и опасались как расходов на ее содержание, так и ее политического влияния[764]. Афганцы, индо-афганцы, маратхи и майсурцы настороженно наблюдали за Британией, оценивая несоответствие между ее богатством и ее мизерной кавалерией. Деревянный тигр майсурского махараджи Типу Султана пожирал своего англичанина, а сам султан мечтал прогнать чужаков из Индии.Британская Индия и ее недруги

Дорогостоящее предприятие
И майсурцы, и маратхи воевали с британцами по три раза. В одной из кампаний грозная конница Майсура взяла над англичанами верх и даже захватила в плен командующего британской армией. Маратхи тоже нанесли британцам ряд унизительных поражений, прибегая к своей прежней тактике, которую они использовали против моголов[765]. Однако крупные индийские конные державы боялись друг друга не меньше, чем британцев, и не смогли выступить единым фронтом против общего врага[766][767]. В 1799 г. маратхи примкнули к британцам, чтобы расправиться с Типу Султаном. Маратхи были на ножах с афганцами, сикхи и афганцы тоже враждовали. Более того, Холкар и Шинде – оба маратхи – воевали между собой не реже, чем с чужеземцами. Наконец в 1803 г. Даулат Рао Шинде, приемный сын Махаджи, и Яшвант Рао Холкар договорились объединить силы, выставив против британцев почти 100-тысячную конницу. Чего британцам не хватало по части конной силы, они компенсировали глубиной карманов. Они сталкивали махараджей лбами, подкупали военачальников противника, чтобы те сдавались или по крайней мере уклонялись от сражений. Они платили деньги наемным кавалерийским войскам[768]. Пока младший Шинде готовился к войне, солдат удачи Джеймс Скиннер, наполовину англичанин, наполовину индиец по происхождению, сбежал от него и присоединился к британским войскам, которыми командовал лорд Лейк. С собой он привел своих индийских всадников, которые говорили: «Мы будем сражаться только за Александра Великого». Так они называли Скиннера, произнося его фамилию на персидский лад: «Сикандер», то есть «Александр»[769]. Лейк был впечатлен выучкой всадников Скиннера: «Обычные упражнения в стрельбе на полном скаку по бутылке на земле, вытягивание глубоко воткнутого в землю палаточного приколыша, поединок на копьях или со щитом и саблей… заставили бы любого знакомого с историей Индии поверить, что всадники Скиннера – потомки завоевателей Тимура»[770], – вспоминал майор Эдвард Арчер, сам кавалерист. Отлично владевшие мечом искусные наездники, солдаты Скиннера на тюркских конях расправились с маратхами не менее эффективно, чем орды Ахмад-шаха при Панипате. Лорд Лейк разбил сначала Шинде, а потом и запоздавшего с мобилизацией Холкара. После 15 лет сражений и ряда гениальных военных ходов Лейка, Корнуоллиса (позже потерпевшего поражение при Йорктауне) и Уэлсли (позже победившего при Ватерлоо), подкрепленных искусной дипломатией и своевременным подкупом, Британия одолела своих противников[771]. К 1818 г. британцы распространили свою власть на бóльшую часть Индии – либо непосредственно, либо через договоры с Гвалиором, Бародой, Индором, Майсуром и другими индийскими государствами. Британия, великая морская держава, унаследовала империю Великих Моголов, простиравшуюся от Гималаев до юго-восточной оконечности субконтинента[772]. Как и подобало преемникам моголов, британцы теперь располагали солидными конными силами. Численность их кавалерии возросла с 500 сабель в 1793 г. до 6000 в 1809 г. и до 30 000 к 1819 г.[773] Содержание конницы тяжким грузом ложилось на правительство в Калькутте, озабоченное прежде всего извлечением прибыли. После капитуляции маратхов британцы рассчитывали сократить расходы на армию и наслаждаться плодами мира[774]. Они отправили подполковника Скиннера в отставку и расформировали его полк. Однако вскоре британцы стали подозревать, что лошади, при всей их дороговизне, все-таки необходимы для защиты Индии от вторжений. Нарастала угроза со стороны махараджи сикхов Ранджита Сингха с его 30-тысячной кавалерией[775]. И кто мог знать, не появится ли новый Надир-шах в Иране или еще один Ахмад-шах в Афганистане? Так рассуждал генерал Джеймс Салмон, военный секретарь в Калькутте и ветеран войн с Типу Султаном, самый высокопоставленный офицер в Индии: «У этой огромной империи не будет никакой защиты от неистовых конных орд из Пенджаба, Афганистана или даже из Персии и Татарии, кроме той, что может дать ей кавалерия»[776]. Уильям Муркрофт, ветеринарный врач, приглашенный из Лондона для того, чтобы наладить в Индии коневодство, предупреждал, что, если в стране не будет достаточного количества лошадей, «перспектива озолотиться может склонить полчища татарской конницы и племена конных афганцев к тому, чтобы усилить натиск варварских нашествий на Британскую Индию»[777]. Помимо этих традиционных для Индии опасностей, тучи сгущались и далеко на севере. Еще со времен Петра Великого Россия строила планы на богатый субконтинент[778]. В 1801 г. русские отправили в Индию казачье войско, рассчитывая на поддержку Ирана, а также наполеоновской Франции. В 1807 г. был заключен еще один русско-французский союз, ставивший своей целью завоевание Индии. И хотя эти планы не осуществились, в XIX в. в ходе завоевания степи русские казачьи эскадроны все ближе подбирались к рекам Окс и Инд. Британцы воспринимали эту угрозу всерьез[779]. Военный штаб в Калькутте готовил планы обороны Индии, а воинственные командиры принимали превентивные меры в Афганистане. Это, в свою очередь, только подстегнуло русских действовать быстрее. Русский генерал Василий Алексеевич Перовский, возглавлявший неудачную экспедицию на Окс в 1839 г., считал так: «Ici il faut agir à l'anglaise, et cela d'autant plus que c'est contre les Anglais qu'on agit» («Здесь мы должны действовать по-английски [то есть смело], и тем более, что мы действуем против англичан»)[780]. Соперничество двух империй за господство в Центральной Азии с характерной для них сдержанностью называли Большой игрой. Несмотря на то что мнение о необходимости крупной кавалерии для защиты новой индийской империи в конечном счете возобладало, бережливые британцы на протяжении всего столетия искали возможности приобретать подходящих лошадей по доступной цене. Пока их кавалерия была малочисленной, британцы, не задумываясь о расходах, привозили ремонтных лошадей из конного завода в Дагенхэме, что недалеко от Лондона. Немало животных погибало в долгом путешествии в обход мыса Доброй Надежды, поэтому стоимость уцелевших оказывалась очень высокой. Кроме того, британцы покупали арабских и персидских коней в странах Персидского залива; в этом случае доставка обходилась дешевле, но сами эти лошади были дороже английских[781]. Но численность кавалерии росла, и новые хозяева Индии пытались заместить дорогих импортных лошадей местными. Однако эта обширная страна, где всего несколько поколений тому назад насчитывалось не менее 600 000 боевых коней, внезапно столкнулась с их нехваткой. В 1809 г. командующий британской армией в Индии Форбс Шампань, французско-ирландский ветеран Американской революции, пожаловался на эту нехватку, особенно на отсутствие крупных лошадей:Что касается кавалерии, то ее численность может быть увеличена лишь незначительно: трудности с приобретением подходящих для европейцев лошадей – досадное и непреодолимое препятствие для значительного расширения рода войск, столь необходимого и столь важного в стране, в целом хорошо приспособленной для его операций[782].Какие только трудности не выпадали на долю Шампаня и тех, кто приходил ему на смену! В стране установился мир, что привело к резкому снижению количества и качества боевых коней, выращиваемых индийскими заводчиками. В отсутствие прибыльных локальных войн животноводам не было смысла разводить боевых лошадей в том же количестве, что и в бурном XVIII в. Народ каттра выбрался из нищеты, выращивая на своих малоплодородных землях исключительно крепких и быстрых боевых коней. Теперь спрос на них иссяк. Капитан Э. Уайетт, британский офицер, которому было поручено обеспечивать кавалерию ремонтными лошадьми, в 1814 г. язвительно заметил:
Упадок коневодства среди них [то есть каттра] в некоторой степени объясняется причиной, о которой нельзя сожалеть: был положен конец грабительским вылазкам, за счет каковых они до самого последнего времени почти полностью и существовали[783].Полвека спустя катхияварская порода уже была на грани исчезновения. Ветеринар Муркрофт считал, что качество лошадей быстро снижается, и опасался, что вскоре «наступит день положительной нехватки»[784]. Разочаровавшись в местных коннозаводчиках, британцы сами попытались заняться разведением лошадей в Индии. В 1793 г. правительство основало конный завод в Пусе, в предгорьях Гималаев. Здешние идиллические пейзажи напоминали британцам родной остров с его прохладным воздухом, зеленью и обилием чистой воды. Однако для оборонного бюджета Индии затея эта оказалось даже болееневыгодной, чем импорт. За десять лет на конный завод в Пусе было потрачено 406 427 рупий, в то время как стоимость выращенных там лошадей составила всего 262 966 рупий. Ежегодные расходы превышали 36 000 рупий, при этом в год конный завод поставлял всего от 30 до 40 пригодных для кавалерийской службы животных по цене 1000 рупий за голову, что намного больше 400 рупий, за которые можно было купить хорошего боевого коня на рынке[785]. Удаленность Пусы и высокие накладные расходы привели к неутешительным результатам. Нужно было искать другое решение.
Сумасбродная вылазка в Бухару
Муркрофт взял на себя руководство конным заводом в Пусе в 1809 г. Дитя шотландского Просвещения, он интересовался всем подряд – от лошадиных болезней до шерсти тибетских яков. Быстро придя к выводу, что Пуса никогда не станет надежным поставщиком лошадей для армии, он заявил, что британцы, по примеру моголов, должны закупать лошадей в Бухаре, в этом далеком и, во времена Муркрофта, таинственном городе-оазисе в Центральной Азии. Это был край «потеющих кровью» лошадей, по которым сходил с ума У-ди, император династии Хань. Со времен королевы Виктории ни один британский купец не ступал на бухарскую землю: путь туда преграждали враждебно настроенные афганцы, сикхи и китайцы. Но Муркрофта это не остановило. Бухара манила его соблазнительными перспективами. Некогда объем ее торговли с Индией достигал 100 000 лошадей в год. Появление в Индийском океане португальцев, а следом за ними англичан, французов и голландцев не привело к упадку сухопутной торговли и к обнищанию таких караванных центров, как Бухара; более того, на протяжении всего XIX в. Бухара процветала[786]. Если на индийский рынок попадало теперь меньше славных бухарских коней, то вовсе не из-за упадка торговли, а из-за повышенного спроса на них со стороны китайцев и русских, которые оттянули на себя чуть ли не все предложения[787]. Муркрофт мечтал вернуть Индии роль главного покупателя бухарских лошадей. В качестве первого шага он отправил своего осмотрительного секретаря-перса по имени Мир Иззатулла разведать, что к чему. Тот обнаружил, что в Бухаре проводится по четыре конные ярмарки в неделю, в то время как в других рыночных городах – только одна или две. В базарный день купцы выставляли на продажу по 50–60 туркменских и узбекских лошадей: первые были крупнее и резвее, зато вторые отличались выносливостью. Кобылы встречались редко, поскольку собственники предпочитали оставлять их для разведения. За коня просили от 200 до 300 рупий[788]. Это были хорошие цены, примерно вполовину ниже индийских. Но рынок оказался не таким ликвидным, как представлял себе Муркрофт. Большинство заводчиков поставляли свой товар напрямую в Россию или Китай; попытки оптовых закупок, особенно одним большим заказом, спровоцировали бы рост цен, поскольку предложение какое-то время не успевало бы за спросом. Мир Иззатулла подчеркивал, что лучшие лошади, необходимые британцам, попадались нечасто: со времен экспедиции У-ди в Центральную Азию ситуация ничуть не изменилась. Такие кони поступали в продажу числом не более 10–15 за раз, всем желающим их не показывали, приобрести их можно было только через маклера, по приглашению, и только знатоку, готовому потратить на лошадь от 1000 до 3000 рупий[789]. Под видом так называемых туркменских лошадей по большей части продавали коней менее престижной узбекской породы, привезенных из Меймене и Балха (нынешнего Мазари-Шарифа)[790]. Торговцы частенько скупали старых лошадей, служить которым оставалось уже не так много, но которых – если лошадь достаточно хорошо выглядела – можно было продавать в Индии под видом туркменской или даже арабской породы. Отмахнувшись от предупреждений своего секретаря и проигнорировав просьбы непосредственного начальства сосредоточиться на разведении лошадей, Муркрофт упорно держался своей идеи. В Калькутте он отыскал сочувствующего спонсора и воспользовался его неопределенным разрешением, чтобы в 1819 г. организовать экспедицию в сказочную Бухару. Разрешение он истолковал в самом широком смысле и, потакая своей жажде странствий, два года исследовал Кашмир, Лех и Ладакх, прежде чем приступить, наконец, к делу. Из Лахора он планировал отправиться в Пешавар, пройти через Хайберский проход, а затем сделать остановки в Кабуле, Бамиане и Бухаре. Это был путь, по которому ходили еще кушаны. В Лахоре Муркрофт нанес официальный визит махарадже Ранджиту Сингху, чтобы испросить у того разрешения на транзит через сикхское королевство. После церемониального обмена подарками владыка сикхов предложил гостю развлечение, которое, вероятно, должно было стать вразумляющей демонстрацией силы, если у британцев возникнут вдруг планы на Пенджаб, и заодно потрафить тщеславию этого помешанного на лошадях махараджи. Один всадник вел группу лошадей по узкому загону в дворцовом саду, демонстрируя разные аллюры. Он пускался в галоп, внезапно резко останавливался, разворачивался и скакал в противоположном направлении. Странно молчаливые кони слушались каждого движения его руки. Муркрофту показали и лошадей местных пород из Лакхи и Аттока, а также коней из Бухары, за которых махараджа отдал по 1700 рупий. «Прекрасно сложенные, – заметил Муркрофт, говоря о бухарских конях, – но пясть слишком тонка». Персидская лошадь, стоившая 7000 рупий, тоже показалась Муркрофту «никуда не годной». При этом было известно, что Ранджит Сингх командовал лучшей в Азии кавалерией и что в его конюшнях содержались сотни прекрасных лошадей. «Каждый сикх в стране, – сообщал Муркрофт, – держит племенную кобылу и выращивает жеребят для себя или на продажу», причем лучших из этих жеребят получал в подарок махараджа[791]. Возможно, Муркрофт критиковал сикхских лошадей, чтобы оправдать свою рискованную экспедицию так далеко на север. Ранджит Сингх не упустил возможности проконсультироваться с Муркрофтом о состоянии своего здоровья: западная медицина пользовалась большим авторитетом в Индии в XIX в. Махараджа пожаловался, что уже не может употреблять столько крепких напитков, сколько пивал раньше. Ветеринарный врач Муркрофт не постеснялся прописать сикху лекарство и заодно рискнул порекомендовать ему отказаться от алкоголя. Махараджа хотел подарить ему лошадь, но британец попросил попридержать такие подарки до его возвращения из Бухары. В погоне за мечтой Муркрофт проявил недюжинное присутствие духа. Пересекая земли афганского клана Вазири[792], который и тогда был не менее кровожадным, чем во времена кушанов и Бабура, он положился на защиту одного-единственного досточтимого отшельника-суфия. Обезопасив себя таким образом от столь типичного для этих мест разбоя, он улучил минутку полюбоваться просторами: «Во время нашего визита в марте пустыня была покрыта богатым ковром пестрой расцветки, сотканным из фиолетовых соцветий дикого эспарцета, желтых ноготков и воловиков». Ему понравились поджарые местные лошади, и он купил двух, одну за 150 рупий, другую за 200. «Последняя по внешнему виду была точно как арабская, и в Калькутте под видом арабской ее можно было бы продать за 1000 рупий»[793], – хвастал он. Его энтузиазм в отношении местных пород рос прямо пропорционально расстоянию и возрастающей опасности путешествия. Кабульские пастбища, где паслась 20-тысячная афганская конница, тоже заслужили его одобрение[794]:Я видел, как косят клевер на семена, и никогда не видел, чтобы земля была так плотно покрыта всякого рода сеном. Оставшуюся после обмолота семян мякину мешают с пшеницей и ячменем и дают лошадям зимой. Почти все кабульские боевые лошади зимуют на майдане [то есть на лугу] и питаются этим кормом и еще люцерной, что обходится в две с половиной рупии за голову, и к весне благодаря такому корму они приходят в наилучшую кондицию[795].В том-то и крылся секрет превосходства центральноазиатской кавалерии над индийской и ключ к победе афганцев при Панипате: разведение крупных и сильных боевых коней обходилось им очень дешево. Муркрофт написал в Калькутту, советуя сделать Афганистан британской колонией – стратегия, которая 20 лет спустя привела к Первой англо-афганской войне, закончившейся катастрофическим провалом. Спустя два года после отъезда из Лахора Муркрофт наконец добрался до места назначения. Бухарский эмир Хайдар принял его настороженно. Эмир опасался британских интриг и не хотел ставить под угрозу свои торговые отношения с Россией и Китаем. В конце концов, русские торговали с Бухарой со времен Ивана Грозного, а китайцы – с эпохи «потеющих кровью» лошадей. Новичок приступил к закупке коней, не встретив ни одобрения, ни возражений со стороны эмира. Дело оказалось ничуть не легче, чем предупреждал его персидский секретарь. Русские и китайцы закупали крупным оптом, и в свободную продажу поступало очень мало хороших животных. Вдобавок восстание узбекских коневодов против эмира, их номинального владыки, прервало поставки лошадей на рынок[796]. Чтобы скоротать время между неудачными вылазками за покупками, Муркрофт вел дневник, благодаря которому обессмертил свою безграничную любознательность. Он оставил нам описания армянской винокурни, шелкоткачества, знаменитого бухарского винограда и гранатов. Естественно, он подробно описывал бухарские методы разведения, кормления и тренировки знаменитых лошадей, в частности, он рассказал о диковинном методе, при помощи которого коневоды поддерживали своих животных в наилучшей форме:
Ставится козел… и по сигналу всадники скачут вперед, чтобы схватить его. Тот, кто первым добирается до козла, склонившись к земле, подхватывает его и, перекинув через седло, на полном скаку мчится к далекой цели, достигнув которой, изо всех сил несется к точке, с которой стартовал[797].Это первое описание игры бузкаши на английском языке. Свой интерес к Бухаре Муркрофт, конечно, удовлетворил, но вряд ли это могло компенсировать неудачу по части приобретения высококачественных лошадей. Проторчав в Бухаре пять месяцев, он отправился в обратный путь в Индию с самой малостью животных, но среди них не было ни одного того роста и с такой родословной, о которых он так долго мечтал. Добравшись до афганской границы, Муркрофт безуспешно попытался раздобыть хотя бы менее ценных узбекских коней, но и в этом не преуспел. Как бесстрашный ветеринар отнесся к своим последним неудачам, неизвестно; он подхватил лихорадку и скоропостижно скончался в Андхое, на севере Афганистана. Весьма малые шансы предприятия Муркрофта на успех с самого начала наводили некоторых историков на мысль, что истинной целью его путешествия был шпионаж. Русские, несомненно, так и думали, потому что были столь же обеспокоены планами британцев на Окс, как Британия – продвижением русских к Инду[798]. Но учитывая эксцентричный характер Муркрофта, его злополучная экспедиция вполне могла быть вдохновлена исключительно любовью к приключениям и горячим интересом к хорошим лошадям. Как бы то ни было, поездка Муркрофта в Бухару часто считается первым раундом Большой игры[799].
Китай терпит поражение на море, но удерживает степь
Неспособность Муркрофта обеспечить армию готовой конной силой из Центральной Азии увеличила военные расходы Британии. Правительство неохотно продолжало оплачивать дорогой импорт и неэффективный конный завод в Пусе. Тем временем армия Британской Индии весь XIX в. вела внешние войны: три англо-бирманские, первую и вторую англо-афганские, Первую и Вторую опиумные войны против цинского Китая[800]. Британия аннексировала Бирму, навязала свою опеку Афганистану[801] и потребовала от Китая торговых привилегий. В 1793 г. британское посольство к Цяньлуну не вызвало в Китае тревоги по поводу уязвимости ее морской границы протяженностью в 18 000 км, хотя никакими достойными упоминания военно-морскими силами государство Цин не располагало[802]. В 1860 г., во время Второй опиумной войны эта брешь в обороне Цин позволила 2000 британских и союзных французских солдат высадиться в Тяньцзине, откуда от Запретного города интервентов отделяло всего несколько дней марша. На мосту Балицяо (его называли «мост восьми ли»), в 16 км от стен Пекина, их ожидало зрелище, достойное гравюр Кастильоне: плотные ряды маньчжурских и монгольских «знаменных» в стальных доспехах, вооруженных копьями, саблями и луками. По прикидкам европейцев, им противостояла конница из 12 000 всадников. На самом же деле их было 30 000[803]. Их командир, Сэнгэринчен, в 26-м колене был потомком брата Чингисхана. Когда он выстраивал своих степных всадников полумесяцем, чтобы окружить и уничтожить пришельцев, из сомкнутых рядов не доносилось ни звука: офицеры отдавали приказы, поднимая и опуская развевающиеся флажки. Всадники обрушились на европейцев, демонстрируя полное безразличие к смертоносным ружейным залпам. Но степная тактика Сэнгэринчена не могла сработать на узком фронте на болотистой местности, пересеченной каналами. Его людям просто не хватало пространства для маневра. Понеся ужасные потери, они стройными рядами отошли и больше не вступали в бой с противником. Марш союзников на Пекин продолжился. Император бежал в Мулань, оставив брата выслушивать ультиматум европейцев, требовавших открыть китайский рынок для западной торговли. Конные силы династии Цин не могли защитить страну от врагов, приходящих с моря. Атака Сэнгэринчена была больше похожа на попытку сохранить лицо, а его отступление – на признание жестокой реальности. В прибрежных провинциях Китая, где бушевали опиумные войны, лошади никогда не играли в сражениях решающей роли. Династия Цин неохотно шла на все большие – временные, как она считала, – уступки морским державам. Они действовали на протяжении 85 лет, зато Цин сохранила свою «знаменную» кавалерию, оборонявшую степную границу, над которой нависла уже новая угроза. Новости о поражении Цин от британцев и французов подтолкнули русских к вторжению в Синьцзян[804]. Одновременно в провинции вспыхнуло восстание под предводительством некоего Якуб-бека, утверждавшего, что он потомок Тимура, и объявившего себя эмиром независимого государства. Цинские военачальники бросили против него летучие отряды первоклассных «знаменных», действовавших с той же смертельной эффективностью и решительностью, что и армии Цяньлуна столетием ранее. Успех цинских армий, врывавшихся в города Синьцзяна, отбил у русских охоту признавать режим Якуб-бека[805]. Цин быстро удалось сломить местное сопротивление. В Санкт-Петербурге решили, что разумнее будет договориться с Китаем и держать под контролем мятежных степных подданных по обе стороны границы, чем рисковать войной с неопределенным исходом против «знаменных» войск[806]. В итоге две державы договорились провести в степи первую в истории официальную границу. Топографические работы проходили недалеко от Баласагуна, столицы древней центральноазиатской тюркской империи. Теперь о древних тюрках там напоминали лишь развалины башни Бурана. Когда-то она возвышалась на 45 м, была видна караванам за день пути и привлекала путешественников со всей степи. Соседнее с башней пастбище, поросшее высокой травой, было усеяно камнями с выгравированными на них древними тюркскими рунами. Эта земля тысячи лет служила местом встреч и захоронений. Теперь в тени полуразрушенной старой башни русские и китайские уполномоченные похоронили политическую независимость степных народов, скрепив дело Петербургским договором 1881 г.Сумерки повинда
Раздел степи между Россией и Китаем сократил поток лошадей из Центральной Азии в Индию до тонкого ручейка; в отдельные годы в страну попадало не более 1500 животных[807]. И все равно они пользовались бешеным спросом у индийских покупателей, поскольку притягательность этих животных и окружавшая их таинственная аура со времен Муркрофта ничуть не ослабели. Этот спрос поддерживал бизнес афганцев-повинда, исторические корни которых теряются во временах кушанского царя Канишки, жившего во II в. до н. э. Роман Редьярда Киплинга «Ким», написанный в 1901 г., воспевает эту историческую традицию. Киплинг намеренно рисует образ, неподвластный времени:[…у высоких ворот] обширного квадратного двора, расположенного против вокзала и окруженного сводчатыми аркадами, где приставали верблюжьи и конские караваны на обратном пути из Центральной Азии… встречались северяне всех племен. Они ухаживали за привязанными лошадьми и заставляли верблюдов опускаться на колени, грузили и разгружали тюки и узлы, при помощи скрипучих лебедок черпали из колодца воду для ужина, бросали охапки травы ржущим дикоглазым жеребцам, пинали ногой угрюмых караванных собак, расплачивались с погонщиками верблюдов, нанимали новых конюхов, ругались[808][809].Здесь, в Лахоре, на оживленном рынке Кашмирского караван-сарая, герой Киплинга, полуирландец-полуиндиец Ким, встречает патана[810] Махбуба Али:
…барышник лежал на паре шелковых ковровых седельных сумок, распустив широкий вышитый бухарский кушак, и лениво покуривал огромную серебряную хукку.Его впечатляющая наружность и ветхозаветные черты говорили о принадлежности к племени гильзаев, а точнее, к клану сулейманхель. Киплинг описывает его так: «Один из крупнейших пенджабских торговцев лошадьми, богатый и предприимчивый купец, чьи караваны проникали в самые глухие углы далеких стран»[811] – то есть Центральной Азии. Проститутка, промышлявшая у кашмирских ворот, от него не в восторге. «Северные области кишат барышниками, как старый халат вшами», – говорит она[812]. Но Махбуб Али успешен и имеет связи повсюду. Он поставляет лошадей британской армии и делает большие деньги, продавая пони обожающим поло офицерам, которые влезают в долги из-за своей страсти к игре. Махбуб Али пренебрежительно отзывается о способности британцев заключать выгодные сделки на конных рынках. Есть разница между воином, покупающим коня, который может спасти ему жизнь, и ремонтером из службы снабжения, торгующимся за лошадей в рамках своего ограниченного бюджета. Индийцы – будь то простой чабук савар (хороший ездок) или знатный махараджа – почти не торговались, приобретая лошадей; ожидалось, что они и так знают истинную цену коню. Местные рынки поразили английского путешественника Чарльза Дэвидсона. «Я скажу тебе правду, бхай [брат], – передает Дэвидсон слова индийского покупателя, – я дам тебе 100 рупий». После короткого обсуждения покупатель и продавец сходятся на 150 рупиях и отправляются искать шроффа, или менялу, чтобы разменять деньги и ударить по рукам[813]. Британцы же прослыли в Индии скрягами. Еще один британский знаток лошадей, Джон Пиготт, признавал:
Из-за высокой оценки и большого уважения, которое питают к этой породе туземцы, туркменских коней редко приобретают европейцы, которые, как правило, отказываются покупать их по той цене, которую купец может легко получить от богатого туземца[814].Торговцы не желали даже тратить время на демонстрацию своего товара британским покупателям[815]. Кроме того, британцы столкнулись и с другой трудностью: индийские покупатели и продавцы в процессе торга часто подавали друг другу тайные знаки руками или использовали словесный код для обозначения цифр, так что следить за рыночными ценами могли только посвященные[816]. Некомпетентность британских покупателей давала возможность заработать доверенным дилерам вроде Махбуба Али[817], хотя британцев, поклонников прогресса, раздражала необходимость зависеть от людей и культуры, которых они считали отсталыми[818]. Афганские торговцы лошадьми, постоянно курсировавшие между Афганистаном и Индией, нередко исполняли роль двойных или тройных агентов в Большой игре, работая на Кабул, Бухару, Калькутту или Санкт-Петербург. Правительственные чиновники Британской Индии, как она называлась с 1858 г. вплоть до обретения Индией независимости в 1947 г., боялись их и время от времени пытались притеснять[819]. Они знали, что в прошлом барышники вроде киплинговского Махбуба Али не раз конвертировали успехи в торговле лошадьми в высокое положение или даже в очередную индийскую империю[820]. И все-таки эти торговцы были для них незаменимым источником ценных сведений о политике Афганистана и снабжали их актуальной информацией о продвижении русских к Оксу. Действие романа «Ким» разворачивается во время второй англо-афганской войны (1878–1880), когда посягательства русских на Центральную Азию не давали британцам спать по ночам. В 1875 г. генерал Генштаба Российской империи М. И. Иванин подогрел опасения британцев, опубликовав исследование о походах Чингисхана, Тимура и Надир-шаха, в котором показал, как армия из Центральной Азии может завоевать Индию[821]. В том же году правительство в Калькутте узнало о меморандуме, подготовленном лихим русским генералом Михаилом Скобелевым, в котором он предлагал «…организовать массы азиатской кавалерии, которую во имя крови и грабежа направить в пределы Индии, в виде авангарда, возобновив времена Тимура! <…> дальнейшие действия собственно русского отряда из Кабула… могли бы окончиться присутствием русских знамен в Бенаресе»[822]. Хотя переброска армии с тяжелым вооружением и припасами через степь была бы непростой – и потребовала бы до 30 000 верблюдов, – кавалерия вроде той, что была у Тимура, все же могла взять Индию штурмом. В Калькутте не знали, решится ли северный соперник на столь дерзкую атаку, но видели явные признаки того, что русские вознамерились захватить последний сохранивший независимость резерв конной силы в Центральной Азии.
Последний бой туркмен
В 1875 г. независимость от великих оседлых империй сохранял последний участок степи – Туркменистан. Здесь лошади, столь же необычные, как «потеющие кровью» лошади У-ди, запустили финальный раунд Большой игры. Туркменистан – одна из самых негостеприимных территорий на планете. Рукав реки Окс, впадавший в Каспийское море, веком ранее пересох, и земля на многие километры вокруг превратилась в бесплодную пустыню. Туркмены специально сделали ее своим домом, чтобы не платить налогов ни правителям Хорезма, ни шахам Ирана. В таких условиях единственным источником обогащения для них стала работорговля. Они отправлялись в соседний Иран или в Россию, похищали крестьян, привязывали пленников к лошадям и тащили на невольничьи рынки в Хорезм, сельское хозяйство и ремесленные мастерские которого в значительной мере зависели от рабского труда[823]. Для того чтобы заниматься этим жестоким делом, все туркменские кланы – эрсари, йомуды и текинцы – выращивали собственных удивительных лошадей. Самой известной из них была ахалтекинская. Путешественники, приезжавшие в Центральную Азию, думали, что эти лошади произошли от «потеющих кровью» лошадей Ферганы[824]. Разводили их туркмены-текинцы в оазисе Ахал, недалеко от иранской границы. Согласно описанию, данному венгерским исследователем Арминием Вамбери, который в 1860 г. посетил степь под видом турецкого дервиша, эти необычные животные отличались «втянутым животом, тонким хвостом, красивой головой и шеей (жаль только, что ей обрезают гриву), а особенно тонкой лоснящейся шерстью»[825][826]. Русский знаток лошадей отзывался о них так: «Они – чистый продукт пустыни, отличаются благородством, красотой линий, хорошо сложены, с отличными конечностями; мускулистые, высокие, от 15 до 16 ладоней, и прекрасно работают под седлом»[827]. Их глянцевитая шерсть в сочетании с плавными очертаниями и стройной шеей приводила на ум борзую или гепарда – грациозных охотничьих животных. Поскольку лошади этой породы очень поджары, много корма им не требовалось. Ахалтекинцы хорошо переносили экстремальный климат пустыни Каракумы, где температура опускалась до минус 30 °C и подымалась до плюс 50 °C. Эти лошади, выращиваемые в семейном шатре, «ценимы сынами пустыни дороже жен, дороже детей, дороже собственной жизни», добавляет Вамбери. Высокосоциализированные ахалтекинцы были преданы своим хозяевам. На Востоке рассказывали истории о том, как раненый конь уносил на себе двух взрослых седоков через ползучие пески. Во время скачек это животное даже пыталось укусить и повалить на землю соперников[828]. На ахалтекинцах туркмены пересекали безводную степь, проникали на территории России и Ирана и ускользали с пленниками, не дожидаясь, пока кто-нибудь бросится за ними в погоню. Это с лихвой компенсировало туркменам деньги и усилия, потраченные на выращивание такой лошади[829]. Стройное телосложение ахалтекинской лошади позволяет ей прекрасно чувствовать себя в условиях пустыни
Стройное телосложение ахалтекинской лошади позволяет ей прекрасно чувствовать себя в условиях пустыни
Перед лицом логистических трудностей и опасностей, связанных с ведением военной кампании в туркменской пустыне, Россия лет десять колебалась, прежде чем принять меры против работорговцев-туркмен. К активным действиям русских подтолкнуло беспокойство по поводу продвижения Британии на север. Они знали, что британская военная миссия в 1873 г. прямо рекомендовала распространить британский протекторат на туркмен-текинцев, дабы обеспечить индийскую кавалерию превосходными лошадьми[830]. Более того, в 1878 г. британцы в ходе второй англо-афганской войны вторглись в Афганистан, и теперь вероятность их появления на Оксе стала еще выше[831]. Русская кампания 1881 г., возглавленная лихим Скобелевым, установила новые стандарты жестокости даже по меркам колониальных войн XIX в. Последний бой туркмен превратился в такую кровавую резню, что Скобелева, обласканного героя прежних русских побед, отстранили от командования. И все же русские добились своего: последние степные коневоды утратили независимость. Ахалтекинцы и другие престижные туркменские породы достались России. В этом раунде Большой игры победил великий белый царь. Гибель огромного количества людей и высокая цена побед заставили российское военное командование искать оправданий своим действиям[832]. Алексей Николаевич Куропаткин, генерал-губернатор области, которую тогда называли Русским Туркестаном, утверждал:
Конь [центральноазиатский] будет, я убежден, жемчужиной в короне России и ее армии. Все государства Европы будут завидовать нашему [центральноазиатскому] коневодству, потому что ни одно из них не имеет природных условий, благоприятных для настоящего боевого коня, а наша страна теперь имеет это в изобилии благодаря бескрайним степям[833].Окупятся ли смелые степные авантюры России, как ожидал Куропаткин, окупится ли упорство Британии в поисках лошадей для Индии – ответы на эти вопросы даст только ХХ век, и ответы эти будут неожиданными.
12 Шаг, рысь, галоп, карьер
Последние конные державы, 1890–1919 гг

Породы и племенная работа
В десятилетия, предшествовавшие Первой мировой войне, европейские страны были заняты гонкой разного рода вооружений, в число которых входили военные корабли, стрелковое оружие, артиллерия и, конечно же, лошади – как и раньше, совершенно необходимые для ведения войны и переброски войск и техники. Русские хотели верить, что ахалтекинская лошадь и другие прославленные центральноазиатские породы обеспечат им преимущество в борьбе за лучшую кавалерию, и это их убеждение только крепло, когда они видели, с каким энтузиазмом британцы скупают ахалтекинцев в Иране и Афганистане. Ахалтекинскими лошадьми заинтересовались даже немцы: в 1912 г. они приобрели призового жеребца-производителя для своей кавалерии. Это лишний раз подстегнуло желание русских развивать породу. В 1917 г. князь Щербатов, камергер, управляющий Государственным коннозаводством и автор книги об арабской лошади, составил племенную книгу ахалтекинских лошадей, первую в Азии. Российское военное командование изо всех сил старалось сохранять и развивать ценные породы лошадей, добытые ценой большой крови и больших денег, но сталкивалось на этом пути со множеством препятствий. Начать с того, что, как выяснили еще британцы, подчинив себе катхияварских всадников, умиротворение воинственных коневодов неизбежно вело к деградации выращиваемых ими пород. Россия покорила туркмен отчасти для того, чтобы положить конец угону людей в рабство. Но как только возможности для похищения людей иссякли, исчезли и основания для разведения превосходных туркменских коней. Один русский специалист по животноводству писал по этому поводу:Только хищному, разбойничьему племени необходимо воспитать такого скакуна… он спасет жизнь своему наезднику, даст ему силу, влияние, средства к безбедной жизни. Когда же умиротворится край, уже не оказывается такой крайней необходимости в быстрых, неутомимых скакунах. Мирно живущее племя не прилагает таких забот к поддержанию чистокровности своих коней, как какой-нибудь вагабит-араб или туркменец-тенке[834].Кроме того, русские вывозили огромное количество центральноазиатских лошадей в Европу. С появлением железной дороги транспортные расходы снизились, и к 1900 г. на Запад ежегодно отправлялось 360 000 лошадей из Центральной Азии[835]. Российские купцы предлагали цену втрое выше, чем на местных рынках, и за такие деньги многие ханы готовы были расстаться с любимым скакуном. Такой высокий спрос быстро истощал ресурс хороших степных лошадей и грозил погубить местные породы. К тому же, несмотря на то, что еще Екатерина проводила политику, направленную на сохранение образа жизни коневодов, русские колониальные порядки XIX в. систематически его подрывали. Сельскохозяйственные колонии постепенно наползали на степные земли, точно так же как за 100 лет до того это происходило на Дону и Волге. Цена на фураж росла. После особенно сильного «дзуда», который привел к массовой гибели скота, многие ханы, не имея возможности прокормить свои табуны, продали лучших лошадей. Перед лицом всех этих опасностей, нависших над новообретенными породами, русским военным властям пришла в голову идея, как сохранить и приумножить поголовье хороших степных коней. Они придумали скрещивать редких ахалтекинцев и других туркменских жеребцов с гораздо более многочисленными казахскими кобылами. Эти кобылы, полудикие, малорослые, с длинной шерстью, толстыми шеями и неуклюжими ногами, походили на выносливую монгольскую лошадь. «Ее редко кормят, обычно она зимой и летом сама ищет себе пропитание на пастбище», – писал о таких лошадях Вамбери[836][837]. Но улучшить казахскую породу на деле оказалось гораздо труднее, чем на бумаге. Вначале правительство основало на реквизированных у казахов землях племенные станции и предложило табунщикам приводить туда своих кобыл. Однако станций было мало, и находились они далеко друг от друга – неудивительно, что казахи не горели желанием ездить на такие расстояния. Кроме того, они не доверяли программе разведения, которая так сильно отличалась от привычного им уклада. Они не хотели, чтобы их кобыл покрывали чистокровные жеребцы (продукт близкородственного скрещивания), опасаясь, что прокормить жеребят-полукровок будет труднее, а сами они будут менее устойчивы к болезням[838]. Правительство сначала предложило плату за каждую кобылу, что результата не дало, а затем просто приказало местным ханам приводить на каждую станцию определенное количество кобыл. Ханы подчинились, но, чтобы выполнить план, кобыл стали приводить всех подряд – и уже беременных, и слишком молодых. Мало того, овулирующие кобылы настолько не привыкли спариваться в конюшне, что просто не подпускали к себе жеребцов. Коэффициент рождаемости на племенных станциях составлял всего 5%, в то время как на воле, в степи, – все 50%[839]. Тогда русские попробовали приводить жеребцов к кобылам на пастбища, но эти усилия оказались столь же безрезультатными. Выросшие в конюшнях жеребцы, непривычные к открытым пространствам, дрались друг с другом и теряли в весе, будучи вынуждены добывать себе пищу самостоятельно. К тому же казахи отказывались подкармливать их зимой, поскольку это тоже шло наперекор их традициям[840]. Русские дали волю горькому разочарованию, приписав свои неудачи «низкому уровню цивилизованности» татар[841]. Когда правительство задумало в целях разведения реквизировать лошадей у туркмен-йомудов, йомуды взбунтовались и бежали в Иран, где живут и по сей день[842]. Вскоре правительство решило взяться за дело с другой стороны и основать собственные конные заводы. «Устройство этих конюшен, – писал граф Воронцов-Дашков, генерал от кавалерии и действительный тайный советник, – имеет целью улучшить местные породы путем спаривания кобыл с подходящими жеребцами. За счет этих кобыл и пристрастия, которое казахи питают к лошадям, мы можем надеяться быстро получить новый источник ремонтных лошадей для нашей кавалерии»[843]. Русские устроили конный завод в Ашхабаде, столице современного Туркменистана, поставив перед собой задачу сохранить ахалтекинскую породу, которой грозила опасность исчезнуть вследствие беспорядочного скрещивания и неконтролируемого экспорта. В это время британцы к югу от Памира, десятилетиями экспериментировавшие с собственными программами по разведению лошадей для нужд армии, окончательно в них разочаровались. Своим неудачам они в немалой степени были обязаны предрассудкам, связанным с популярной в XIX в. расовой теорией. Британцы истово верили, что лошадь английской чистокровной породы – это высшая степень конского совершенства. Считалось, что все лошади английской чистокровной, чьи племенные книги были закрыты еще в XVIII в., происходят всего лишь от трех знаменитых арабских и берберийских жеребцов. Англичане скрещивали жеребцов английской чистокровной, которых ценили за красоту, ум и скорость, с выносливыми кобылами, чтобы получить обычных рабочих лошадок вроде хакнэ, и не сомневались, что капля крови чистокровной лошади может улучшить любую породу. Теории наследования, популярные в XIX в., утверждали, что «активные» жеребцы передают потомству больше своих черт, чем «пассивные» кобылы, и что хорошая кавалерийская лошадь наследует горячий нрав чистокровного жеребца-производителя. Иностранные покупатели из Франции, Германии и даже России платили большие деньги за английских и ирландских скаковых лошадей, что только убеждало англичан в их превосходстве. Старые служаки из британцев, еще помнившие прежнюю Индию, знали, что махараджи сикхов и маратхов не считали, будто их лошади в чем-то уступают заморским. В 1839 г. британский генерал-губернатор лорд Окленд попросил управляющего государственными конными заводами Э. Гваткина подыскать подходящий подарок для Ранджита Сингха, махараджи сикхов и самого тонкого ценителя лошадей во всей Индии. Просьба поставила Гваткина в трудное положение, поскольку вкусы сикхов и британцев в отношении лошадей сильно различались. Чиновник изучил вопрос, просмотрев индийские руководства по конному делу, среди которых, скорее всего, был и популярный труд «Фараснаме», или «Книга о лошади», написанная в 1795 г. Саадатом Ярханом Рангином, кавалерийским офицером и по совместительству поэтом. Гваткин, вероятно, принял во внимание мысль Рангина: у разных народов свои предпочтения в отношении лошадей. Например, моголы опасались «перьев» (завитков) на лбу, считая их плохим знаком, но «перышко» на горле считали знаком в высшей степени удачным. Раджпуты избегали лошадей с «перьями» под седлом, а маратхи считали несчастливой лошадь с «перьями» в подбрюшье[844]. Разобравшись в теме, Гваткин выбрал двух лошадей из порученных его заботам конных заводов, объяснив Окленду, что у одной из лошадей есть «перья», «которым туземные джентльмены придают большое значение». О втором кандидате Гваткин сообщил, что у того «имеется джуваб [родинка] у ноздри… которая делает его ценным». Гваткин опасался, что без таких подробных объяснений Окленд сочтет предложенных им кандидатов совершенно неподходящими для дипломатических подарков, поскольку грудь у них была недостаточно широка, а передние ноги недостаточно длинны[845]. Сбитый с толку непонятными индийскими критериями Окленд решил, что проще всего будет подарить Сингху дорогих английских упряжных лошадей. Махараджа сикхов пришел в восторг от огромных размеров этих коней, звал их своими маленькими слонами и с радостью приглашал приближенных прийти и полюбоваться ими[846]. Но если индийцы отдали должное новизне столь экзотических подарков, то британцы так и не научились по достоинству ценить замечательные индийские породы вроде марварской лошади или лошади из Лакхи. Гваткин даже опубликовал научную статью, в которой описал недостатки индийских лошадей по сравнению с английскими[847]. О том, что при помощи лошадей из Лакхи Ранджит Сингх создал империю, он либо не подумал, либо умолчал об этом факте, чтобы не нервировать британских читателей. Справедливости ради следует отметить, что британским офицерам индийской кавалерии действительно нужны были лошади покрупнее, как и всем чинам европейских полков[848], расквартированных в Индии. Европейские кавалеристы и сами по себе были крупнее индийских, и носили на себе больше снаряжения: европеец в полном снаряжении весил не менее 117 кг, а индиец – 90 кг[849]. Кроме того, британцы ездили верхом с почти прямыми ногами, так что на маленькой лошади рисковали только что не волочить их по земле. А индийские всадники ездили, сильно согнув ноги, как жокеи на скачках, поэтому для них размер лошади был не столь важен[850]. Британские офицеры, которым приходилось самим покупать себе лошадей, часто влезали в долги, чтобы раздобыть лошадь подходящего размера. Британский лейтенант, чье жалованье составляло 273 фунта в год, должен был отдать 50 фунтов, или 800 рупий, за коня, при этом одной лошадью дело часто не ограничивалось. Что касается подразделений, которые набирались на месте, то всадники из коневодческих кланов ездили на собственных лошадях[851], как это делалось, например, в возрожденном полку Скиннера. Так что перед ними вопросы размера и стоимости этих животных не стояли. Сохранение дорого обходившихся британских полков было вопросом не столько расизма, сколько внутренней безопасности; их существование, однако, было постоянным напоминанием о том, что Индии не хватает своих крупных коней. На протяжении всего XIX в. чиновники Британской Индии старались внедрять в стране усовершенствования на британский манер, и животноводство не стало исключением. Полковник ветеринарной службы Дж. Г. Б. Халлен успешно справился с эпидемией, охватившей стада крупного рогатого скота в Бомбее, поэтому в 1876 г. армия Индии доверила ему должность суперинтенданта по коневодству, поставив перед чиновником задачу усовершенствовать по-прежнему неэффективную и дорогостоящую программу разведения. План Халлена, что неудивительно, вторил плану русских. Единственный государственный конный завод в Пусе он хотел заменить сетью местных заводчиков, рассредоточенных по субконтиненту. Лошадей в этом случае можно было бы выращивать поближе к местам расквартирования войск, а не возить их из Пусы в далекий Бихар. Что ни говори, а афганская граница, например, находилась в 1500 км от конного завода. Такой подход позволил бы британцам использовать в качестве маток лошадей индийских пород – катхияварской, марварской из Раджастхана и лакхийской из Пенджаба. Жеребцов, разумеется, использовали бы крупных британских – хэкни или чистокровных, которых одалживали бы индийским заводчикам. Результаты этой задумки оказались совершенно неудовлетворительными. Местные деятели, ответственные за управление государственными станциями разведения, не уделяли должного внимания тому, какие кобылы будут к нему допущены. Знатный раджпутский землевладелец всегда мог злоупотребить своим влиянием и на время позаимствовать станцию разведения. Индийские заводчики с опаской относились к идее сводить крупных жеребцов с мелкими кобылами: чтобы беременность протекала благополучно, кобыле обыкновенно подбирают жеребца ниже ее ростом. К тому же англичане за качественный товар больше денег не платили. В итоге они получили по заслугам: индийцы сотрудничали неохотно, да и сами британцы разочаровались в работе с местными коневодами. Пристыженный Халлен в научной статье, опубликованной в 1887 г., признал, что вся эта затея была не более чем неразумной борьбой с природой, а природа всегда побеждает[852]. В общем, чиновники Британской Индии годами продолжали за огромные деньги ввозить в страну английских коней и не прекращали бесполезных попыток скрещивать их с лошадьми местных пород. Им не мешало бы вспомнить наблюдения Марко Поло, сделанные еще в XIII в., о том, чтоиндийское потомство высоких чужеземных коней часто едва достигало среднего роста. Это было связано с наследованием по линии кобыл, которое ветеринарная наука того времени упускала из виду, а также с рационом питания и с традициями объездки, принятыми в Индии. Расистские представления британцев об Индии и ее лошадях мешали им эффективно использовать местную лошадиную силу. Спасение пришло неожиданно. Еще в 1830-х гг. военные Британской Индии разузнали, что жители Нового Южного Уэльса в Австралии разводят лошадей, обладающих качествами, прекрасно подходящими для патрулирования засушливых окраин Пенджаба. Австралийские лошади были потомками английских, в том числе чистокровных и хакнэ, костям их шли на пользу богатые селеном почвы Нового Южного Уэльса, к тому же они могли долгое время обходиться без воды[853]. Поначалу уолеры, как их стали называть, были столь же дороги в доставке, как и прочие импортные лошади. Но когда во второй половине XIX в. было налажено регулярное пароходное сообщение между Австралией и Индией, уолеры стали надежным и, при цене от 600 до 700 рупий за голову, конкурентоспособным ресурсом[854], тем более что по результатам аудита выяснилось: реальная стоимость лошади с государственного завода приближалась к 3000 рупий за голову[855]. Объем импорта уолеров в Индию вырос с 1000 голов ежегодно в десятилетие перед 1870 г. до 5000 ежегодно в последнее десятилетие перед Первой мировой войной. Уолеров холостили, что упрощало их транспортировку. Послушные австралийцы переносили долгое морское путешествие, не жалуясь, не кусаясь и не лягаясь. На суше их не нужно было стреноживать, и кормить их можно было, не распрягая: удила во рту им не мешали. Но ездить на уолерах соглашались только белые кавалеристы; местные отказывались пересаживаться на меринов – они считали, что это недостойно настоящего мужчины, позабыв, вероятно, о победах, которые одерживала на таких лошадях армия Чингисхана[856]. Уолеры стали основой британской кавалерии в Индии, решив наконец застарелую проблему местного разведения. В каком-то смысле, даже без учета расистских представлений, русские и степные народы, британцы и индийцы при разведении лошадей всегда преследовали разные цели. Туркмены и маратхи высоко ценили своих коней, поскольку те могли впроголодь преодолевать большие расстояния. От европейской кавалерии таких подвигов не ожидалось, зато ей нужны были тяжелые, сильные и быстрые кони для решающего удара кавалерийской атаки – этого почти священного события в жизни каждого кавалериста. Надо понимать, что кавалерия почти никогда не обрушивалась на линии обороны; она пыталась сломить боевой дух противника одной только демонстрацией превосходящей силы. А для этого нужны были тяжелые лошади и идеально ровные ряды. Европейская кавалерия стремилась к тому, чтобы ее полки состояли из лошадей только одной масти. В линейной кавалерии этот обычай не соблюдался, но в элитных подразделениях кони одного окраса придавали атакующим вид грозной и непобедимой силы природы[857]. И конечно, вопрос размера никогда не терял актуальности[858]. Европейцам нужны были лошади не менее 15 ладоней высотой, а большинство казахских и марварских лошадей не достигали и 13. Попытки колонизаторов использовать конную силу Азии провалились по той же причине, что и сам колониализм. Колониальным державам не хватало мудрости киплинговского Махбуба Али:
Мудрый человек знает, что лошадь – хорошая скотина, из каждой можно извлечь пользу. Ясное дело, что катхлаварская кобыла, оторванная от песков ее родины и приведенная в западный Бенгал, захромает: даже балхский жеребец никуда не будет годиться в великих северных пустынях. Поэтому в сердце своем я говорю, что… каждая годится для своей родины[859].
Момент истины для империй
К 1900 г. Россия оставалась крупнейшей конной державой Азии, да и всего мира, несмотря на сомнительную выгоду дорогостоящего завоевания туркменов с их лошадьми. В этом отношении опыт русских не сильно отличался от опыта У-ди, чья погоня за «потеющими кровью» лошадьми не дала реального преимущества в виде лучших племенных кобыл, но свидетельствовала скорее о его решимости утвердить свою власть. И все-таки никто из тех, кому выпала возможность увидеть императорскую лейб-гвардию, восседавшую на таких редких и желанных ахалтекинцах, не усомнился бы в силе русской конницы. Численность европейской кавалерии Российской империи составляла 200 000 всадников, и еще 200 000 состояло в кавалерии степной: казачьей и татарской. Со времен Цяньлуна, Акбара и Тай-цзуна никто не имел такого количества конных войск. Регулярная кавалерия могла рассчитывать на 700 000 лошадей плюс еще 1000 ремонтных в год. За 50 лет, что прошли с тех пор, как Россия взяла степь под контроль, это число более чем удвоилось, а значит, степные завоевания по крайней мере компенсировали количеством то, что знатоки лошадей считали потерей качества. Один из крупнейших российских знатоков лошадей, Клыч Султан-Гирей, потомок Чингисхана, похвалялся непревзойденными результатами скрещивания степных пород с английской чистокровной лошадью. Это было преувеличение, однако оно отражало уверенность в непобедимости русской кавалерии, которую питали ее офицеры. Британская армия в Индии готовилась сдерживать ту часть превосходящей по численности русской армии, которая могла быть переброшена через Афганистан в случае, если Большая игра перерастет в большую войну[860]. В распоряжении британцев было 60 000 сабель и около 100 000 лошадей, причем ежегодно кавалерия пополнялась еще десятком тысяч ремонтных животных – половина из них поступала из Австралии. Индийская кавалерия состояла из 29 регулярных полков, командовали которыми британские офицеры; 20 полков, сформированных бывшими противниками Британии, в том числе Гвалиором, Индором, Бародой и сикхским княжеством Патиала; еще 20 вспомогательных полков, в основном занятых полицейскими операциями. К ним добавлялись подразделения конной артиллерии и британские и ирландские полки, находившиеся на ротации в Индии. Уверенные в своей способности противостоять русскому вторжению[861], британские власти Индии на рубеже XIX и ХХ вв. не жалели усилий, чтобы утвердить свои притязания на наследие Великих Моголов[862]. Они восстановили Тадж-Махал, превратившийся за 100 лет запустения в руины, и тем самым дали понять, что новая империя – преемница старой. Они перенесли столицу Британской Индии из торговой Калькутты в Дели, откуда правил Шах-Джахан. И наконец, в 1911 г. они организовали государственный визит короля Георга V, гвоздем программы которого стал дурбар – придворная церемония в могольском стиле, на которую, дабы присутствовать «при стремени» и приветствовать Георга как императора Индии, съехались 300 махараджей и набобов. Король-император въехал в Красный форт Шах-Джахана на вороном уолере. Кое-кто из зрителей, ожидавших, что монарх приедет верхом на слоне, как могольский падишах в старину, вообще пропустил его появление[863]. Индийские князья прибыли со своими кавалерийскими полками: эти полки входили в состав Британской армии, но махараджи набирали и комплектовали их самостоятельно. В общей сложности 10 000 всадников, включая возрожденный полк Скиннера, а также «Индорских уланов» Холкара и «Гвалиорских уланов» Шинде, «полностью облаченные в кольчужные доспехи и, словно рыцари древности, вооруженные копьями», поднимали клубы пыли на площади, где проходил дурбар. Марш-парад дал публике возможность полюбоваться тем, как прекрасно выглядела кавалерия индийских князей, разодетая в яркие курты и тюрбаны. Местные породы лошадей, марварские и лакхийские, на которых ездили эти полки, щеголяли самыми разными окрасами: пегими, белыми с розовыми крапинками и черными с белым подпалом, и это отличало их от британских частей, укомплектованных однообразными гнедыми и каштановыми уолерами[864]. Кавалеристы шли рысью бригада за бригадой, их сабли сверкали, перья на копьях развевались. Потом отдельные подразделения проскакали галопом в духе «каждый за себя, и к черту отстающих». Это могло бы привести к серьезным травмам, но, к счастью, споткнулись только две лошади. Толпа приветствовала юного махараджу Джодхпура, который верхом на своей белой марварской лошади продемонстрировал высокое мастерство езды в раджпутском стиле. На следующий день состоялись матчи поло и скачки, в которых части под командованием британских офицеров состязались с кавалеристами индийских князей. Британцы одержали верх в поло, но в скачках на четыре с половиной мили по пересеченной местности победил один из сикхских уланов махараджи Патиалы. От зрителей не ускользнула ирония происходящего: предки индийских махараджей и их всадники не играли с британцами в поло, а вели с ними кровопролитные сражения. Но хотя Даулат Рао Шинде, прадед махараджи Шинде из Гвалиора, был злейшим врагом британцев, сам махараджа носил теперь алый мундир британского генерал-майора. Императорский адъютант набоб Рампура вел свое происхождение от индо-афганцев, совершавших грабительские набеги на империю Моголов. Когда всадники проходили парадом перед королем Георгом, махараджа маратхов Гаеквад из Бароды резко повернулся спиной к монарху, как будто бы демонстрируя затаенное недовольство британским правлением. Британская Индия была шокирована, и позже от Гаеквада потребовали письменных извинений. Однако все большее число индийцев сочувствовало в этой ситуации махарадже[865]. Они не могли взять в толк, почему британская армия обходится Индии в 27 млн рупий в год, почти вдвое больше, чем 20 лет назад. «Самая дорогая в мире армия для самого бедного в мире народа» – как выразилась оппозиция Его Величества в Вестминстере[866][867]. Уже в 1903 г. премьер-министр Артур Бальфур признал, что Большая игра была всего лишь игрой: «Я думаю, что война между Россией и Великобританией в высшей степени маловероятна»[868]. Возможно, индийская общественность задавалась вопросом: для чего все-таки нужна эта демонстрация конной мощи?Первая мировая война
Ответ не заставил себя ждать. К 1914 г. события в Европе подтолкнули Россию и Великобританию к альянсу против Германии и ее союзницы Австрии. Азиатские конницы двух стран будут действовать не друг против друга на Хайберском перевале, но на полях сражений далеко от Центральной Азии: в Пруссии, Галиции, Фландрии, в Ираке и Палестине: последние два театра военных действий возникли из-за того, что Османская Турция связала свою судьбу с Германией. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, обе империи по-прежнему считали лошадей в высшей степени важным ресурсом. Несмотря на прогнозы, предрекавшие, что пулемет, магазинная винтовка и скорострельная шрапнельная артиллерия вытеснят лошадь с поля боя, опыт сражений на рубеже веков говорил о том, что для лошадей дело на войне найдется. Война Британии с бурами в Южной Африке в 1899–1902 гг. и Русско-японская война 1904–1905 гг. показали, что кавалерия все еще может участвовать в боях, хотя уже, скорее, как средство передвижения, чем как ударные войска: теперь, чтобы вступить в бой, солдаты спешивались[869]. Кроме того, армиям, вооруженным артиллерией и пулеметами, не обойтись было без огромных обозов с лошадьми, которые тянули повозки с боеприпасами. Для передвижения армейского корпуса из 70 000 солдат требовалась 21 000 лошадей. В 1914 г. русские мобилизовали в общей сложности более миллиона лошадей, причем более половины поступило от казаков и со степных территорий[870]. Численность этой кавалерии и татарских войск в ее составе не давали покоя генералам в Берлине и Вене: они не могли отделаться от мыслей о монгольском нашествии, случившемся за 700 лет до того, и со страхом говорили о «русском паровом катке». Но русским не удалось раскатать немцев и австрийцев, и вины лошадей в этом не было. Ирония заключалась в том, что конные силы России идеально подходили для стремительной кампании в Германии и Австрии, но, чтобы добраться до театра военных действий, им потребовалось слишком много времени. Русская армия потратила недели, чтобы собрать кавалерию из всех удаленных мест, где та квартировала, и перебросить ее на границу с Германией. Например, для доставки полка с 1000 лошадей по железной дороге с Волги требовалось столько же вагонов, сколько для переброски целой пехотной дивизии в 20 000 солдат. Поражение русских в Мазурском сражении в начале войны отчасти объясняется тем, что их армия вступила на вражескую территорию до появления кавалерийского прикрытия, которое было необходимо армии во времена, когда еще не было авиационной разведки, позволяющей «видеть» врага. Даже полностью сформированным полкам требовалось не менее полугода, чтобы лошади и всадники достигли полной готовности. Великий завоеватель степей Чингисхан отправлялся на войну, когда его лошади были к ней готовы; к тому времени, когда была готова русская кавалерия, шансов на быстрый прорыв не осталось. Неудовлетворительные результаты, продемонстрированные кавалерией в Первой мировой войне, во многом объяснялись тем, что ее слишком долго держали в резерве и она так и не достигла необходимой физической формы. В Западной Европе, в отличие от степных территорий, лошадей было не так просто прокормить; к тому же эти расходы только возрастают, если животных должным образом тренировать. Война повысила спрос на лошадей, а вместе с ним выросли цены: в частности, в России они поднялись с 50 до 2000 рублей за голову, что дополнительно затруднило снабжение кавалерии лошадьми в необходимом количестве. Британская индийская кавалерия в Первую мировую войну проявила себя несколько лучше. Поскольку изначально она создавалась для защиты Индии от русского или афганского вторжения, размещать эти силы за пределами субконтинента не предполагалось. Однако зимой 1914/15 г., когда надежды на быструю победу над Германией растаяли, индийская армия получила приказ отправить кавалерийский контингент во Францию. Немцы попытались спровоцировать нападение афганцев на Индию с целью связать эти экспедиционные силы, но безуспешно, хотя симпатизировавший британцам эмир Афганистана Хабибулла был убит враждебными группировками. Поскольку Западный фронт уже был защищен траншеями протяженностью около 700 км и колючей проволокой, не говоря уже о грязи и дождях, возможности для кавалерийского прорыва там были ограниченны. Через несколько месяцев окопных боев индийская кавалерия получила приказ переместиться в Ирак и Палестину, где должна была действовать против Османской Турции. На обоих фронтах, где имелось пространство для маневра и подходящий для лошадей климат, индийская кавалерия оказалась в высшей степени полезна. Самую славную победу она одержала в 1918 г. в Палестине, когда индийская и австралийская кавалерии прорвались через османские линии в битве при Мегиддо, проскакали около 60 км без остановки, окружили врага и триумфально вошли в Дамаск[871]. Эта битва, увековечившая название расположенного неподалеку местечка, где 3400 лет тому назад одолели врага египтяне на колесницах, стала одним из последних решающих кавалерийских сражений в истории (ее еще называют Армагеддонской битвой). Союзник Британии эмир Фейсал из Мекки отправил на помощь имперской кавалерии – для разведки, диверсий и преследования турок – бедуинские отряды верхом на лошадях и верблюдах. Помогал им и консультировал полковник Т. Э. Лоуренс. Как это ни странно для древней степной нации, турецкая кавалерия почти не принимала участия в этих кампаниях. Надо сказать, что палестинская кампания примечательна событием гораздо более значительным, чем эта последняя конная битва, – событием, к которому Лоуренс тоже приложил руку (как и к арабскому восстанию против турок), событием, которое просигналит боевому коню отбой. Хотя Лоуренса Аравийского часто представляют отставшим от жизни мечтателем, скачущим на турецкие линии на своей белой кобыле, сам он искренне восхищался современными технологиями. Он экспериментировал с использованием самолетов для разведки позиций противника, а затем научился координировать бомбардировки с воздуха и кавалерийские атаки – позже такие операции стали называть комбинированными или блицкригом. Он даже научился летать. Самолеты ему предоставляли Королевские военно-воздушные силы. После битвы при Мегиддо ВВС атаковали бегущих турок с воздуха. На турецкие колонны было сброшено девять тонн бомб. «Когда дым рассеялся, стало видно, что в рядах неприятеля исчезли всякие следы военной организации, – писал Лоуренс в своих мемуарах "Восстание в пустыне". – Они превратились в отряд трепещущих беглецов, спасающих свою жизнь, прячась за каждым выступом обширных холмов»[872][873]. Новатор Лоуренс также пересадил часть своего Арабского корпуса на бронированные автомобили. Палестина, с ее пустынями и чистыми небесами, больше подходила для внедрения новых технологий, чем Западный фронт, где из-за грязи, дождей и туч первые энтузиасты блицкрига выглядели оторванными от реальности фантазерами[874]. Позже Лоуренс рекомендовал Министерству по делам колоний использовать для охраны азиатской империи Британии не сухопутные войска, а Королевские ВВС. Власти приняли это к сведению.Сигнал отбоя на Хайберском перевале
Едва на Ближнем Востоке смолкли пушки, как конному полку Скиннера пришлось отражать вторжение афганцев-гильзаев, в 1919 г., впервые за более чем 100 лет, хлынувших через Хайберский проход. Полк Скиннера был не в лучшей форме. Слишком много в нем было неиспытанных новобранцев – результат тяжелых потерь во Франции и Ираке. Афганцы об этом знали и именно по этой причине решили действовать. Гильзаев интересовали прежде всего грабежи и возможность потешить молодецкую удаль, а новопровозглашенный король Афганистана Аманулла надеялся воспользоваться слабостью Британской Индии, чтобы перекроить политическую карту Азии и избежать участи своего отца Хабибуллы, жизнью поплатившегося за симпатии к британцам. Амануллу поддерживала Советская Россия: он сообщил советскому послу, что и сам, потомок Ахмад-шаха, в душе большевик. Кроме того, Кабул пользовался поддержкой пограничных племен, которые исторически контролировали доступ к Хайберскому проходу и регулярно совершали набеги на подконтрольные Британии территории. К тому же Аманулла надеялся, что этнические афганцы, служившие в британских вспомогательных войсках, перейдут на его сторону, как это делали их предки в войнах XVIII в.[875] В Кабуле считали: если своим вторжением они смогут разжечь на границе антибританские волнения, то сумеют достичь и своих целей – избавиться от британского влияния в Кабуле, вернуть территории, захваченные британцами в XIX в.[876], и, возможно, даже спровоцировать всеиндийское восстание против британского правления. Из лагеря, расположенного в сотне километров к востоку от Хайберского прохода, навстречу афганцам выдвинулся конный полк Скиннера. Британская Индия, сотню лет ожидавшая вторжения через северо-западную границу, наконец-то готовилась дать бой потомкам Ахмад-шаха, Надир-шаха, Бабура и Тимура. Однако со времен этих великих завоевателей Азии роль лошади изменилась. Афганцы больше не могли нахлынуть на Индию подобно неудержимой волне. Во времена Ахмад-шаха 200 000 всадников следовали за своим командиром верхом на великолепных туркменских конях. Но с тех пор, как Россия аннексировала Центральную Азию, благосостояние афганцев, веками державшееся на торговле лошадьми, пошло на убыль[877]. Из 50 000 солдат регулярной армии только половина ехала верхом, да и то на плохих лошадях. Сражались они в основном пешими: такой способ ведения боя подходил для гористой местности Хайберского прохода, но вряд ли позволял рассчитывать прорваться на равнины. Афганцы не сталкивались с организованным противником со времен второй англо-афганской войны, закончившейся 40 лет тому назад, поэтому и дисциплина, и подготовка их армии хромали. Надеяться на безоговорочную победу, подобную тем, что одерживали их предки при Панипате, они не могли. Лучшим вариантом было бы заставить британцев серьезно потерять лицо, а еще можно было надеяться, что начнутся всеобщие беспорядки, которые ослабят Британскую Индию. И это им почти удалось. Поначалу британцы сумели оттеснить гильзаев назад через границу, но их базовый лагерь располагался на открытой позиции ниже Хайберского перевала, откуда афганская армия могла обрушивать на противника артиллерийский огонь. Прижатые к земле, британские войска не могли нанести ответный удар, но и отступить на более безопасную позицию для них было немыслимо. На карте стояла честь. Лояльность пограничных народов, живших на подконтрольной британцам территории, пошатнулась. Несмотря на тактические успехи британцев, положение было критическим. Чтобы одержать победу в этом конфликте, Британия не стала полагаться ни на холодную сталь, ни на конную силу, хотя кавалерия все же смогла похвастаться тем, что напоследок сходила в атаку[878]. Королевские ВВС, следуя рекомендациям Т. Э. Лоуренса, перебросили в Индию несколько эскадрилий B.E.2[879], и теперь они бомбили афганцев, засевших в горах вокруг Хайберского прохода[880]. Бомбардировки препятствовали подвозу оружия, которым кабульское правительство снабжало гильзаев, и те отказывались сосредотачивать силы, что снижало их боевую эффективность. Налеты на Джелалабад деморализовали афганцев окончательно. Солдаты, чиновники и мирные граждане покидали разрушенный город. Время от времени метким афганским стрелкам удавалось сбивать В.Е.2 ружейным огнем, предвосхищая подвиги внуков в борьбе с советскими и американскими вертолетами. Однако худшее для афганцев было еще впереди: британские ВВС, преодолев 480 км, отделявших их базу от Кабула, разбомбили королевский дворец. Пусть афганские войска добились некоторого успеха на других участках фронта, но бомбардировкам с воздуха им нечего было противопоставить, и это заставило короля Амануллу призадуматься. Посредством этой войны он хотел утвердить свой престиж и подорвать престиж британцев. Теперь же, когда его дворец пылал на глазах у жителей Кабула, трон под ним зашатался. Король и его советники запросили мира. Мирный договор, которым завершилась третья англо-афганская война, привел к очень незначительным политическим и территориальным изменениям, хотя Британия и отказалась от какого-либо вмешательства в дела Афганистана[881]. Афганистан ответил тем, что запретил экспорт лошадей в Британскую Индию, однако эта отрасль торговли находилась в упадке еще с мировой войны и захвата большевиками Центральной Азии. Так и случилось, что к 1920-м гг. знаменитый Кашмирский караван-сарай в Лахоре превратился в бледное подобие места, которым он был во времена Киплинга[882]. Путешественник, которого занесло в Лахор примерно в описываемое время, рассказывал, что афганские барышники, как и прежде, сидели в тени стен караван-сарая, поближе к своим лошадям, привязанным во дворе, но продавались там уже только местные породы. Один из внуков настоящего Махбуба Али вернулся из Кембриджа, где изучал ветеринарную науку, и занялся семейным бизнесом, однако вскоре его фирма разорилась. Ему остались одни только байки о былом богатстве семьи, прославленной Киплингом[883]. 20 лет спустя, в 1941 г., конный полк Скиннера преодолел 3500 км, отделяющих Хайберский проход от Бирмы, где солдаты помахали на прощание своим лошадкам и пересели на новых, механических коней – боевые машины и танки. Эпоха лошадиной силы подошла к концу, и нефть, а не травяные угодья, стала тем стратегическим ресурсом, что создавал империи и был необходим для их обороны. Уже в 1912 г. первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль принял решение перевести Военно-морской флот Британии с угля на нефть, чем связал страну необходимостью контролировать мировые запасы нефти. Вот почему он был полон решимости сражаться с турками за контроль над нефтяными месторождениями Ирака в Первой мировой войне и защищать Бирму от японцев, чтобы сохранить за собой нефтяные ресурсы Юго-Восточной Азии во Второй. Чингисхан, Тимур и Надир-шах вдруг стали казаться такими же далекими, как палеозойские леса. По иронии судьбы, геологи нашли новое черное золото под старыми степными землями в Ираке, на Аравийском полуострове, в Иране, Казахстане и Азербайджане. Дети ХХ в. с трудом представляют себе отказ от нефти, чье господство, похоже, продлится не более 150 лет. Мы же, в свою очередь, не можем и вообразить, каким потрясением стало в свое время исчезновение нашей трехтысячелетней зависимости от лошади. Лошадь приводила в движение империи Персии, Индии, Китая и России. Торговля лошадьми объединяла народы Евразии на огромном рынке домашнего скота. Пастухов и аристократов со всех концов Азии связывал культ лошади. Теперь же поток караванов, пересекающих степи, иссяк. Центральная Азия, некогда богатейший из рынков, превратилась в один из самых изолированных и бедных регионов на планете. Аристократам-лошадникам вроде Султан-Гирея и князя Щербатова не нашлось места в Советской России. Восьмизнаменные войска Цин канули в безвестность в коммунистическом Китае. В 1971 г. премьер-министр Индии Индира Ганди отправила на свалку истории махараджей Индора, Гвалиора и Майсура. Только в одной стране лошадь сохранила свою социальную значимость и экономическую ценность: в стране всадников – Афганистане.Эпилог
Королевская игра бузкаши, 1950–1973 гг

Несмотря на элегантный офицерский мундир в британском стиле, король Афганистана Захир-шах, в очках с толстыми стеклами в тонкой металлической оправе, больше походил на выпускника Института Пастера, коим он и являлся, чем на тех степных воинов, от которых унаследовал свой трон. Он сидел в первом ряду на королевской трибуне в окружении придворных в каракулевых шапках и солнцезащитных очках, улыбаясь и поглядывая на спортивное поле. Члены дипломатического корпуса привели с собой жен: их обнаженные руки и яркие платья резко контрастировали со скромными шинелями зрителей на королевской трибуне, среди которых женщин не было. Кабульцы всех мастей толпились у барьера по обе стороны трибуны, стараясь получше разглядеть открытое игровое поле. Большинство зрителей были в традиционной одежде: просторных рубахах и шароварах, хотя государственные служащие и школьные учителя надевали поверх рубахи пиджак. Повезло тому, кто стоял позади какого-нибудь узбека в четырехгранной, плотно надвинутой на голову тюбетейке, а не за пуштуном в огромном тюрбане[884]. Все они пришли посмотреть на конную игру, которую король специально привез в Кабул с севера. Из степной страны игроков и их лошадей доставили автобусами. Игроки-узбеки, умелые наездники, заводчики прекрасных коней, бежавшие из родной Бухары, когда туда пришла советская власть, привезли игру и лошадей с собой в Афганистан. Кабульцам этот вид спорта был незнаком, но так как в 1950-е и 1960-е гг. с публичными развлечениями было негусто, а присутствие короля придавало игре престижа, жаждущие зрелищ зеваки осаждали входные ворота. Это была та самая игра, которую 130 лет тому назад видел в Бухаре Уильям Муркрофт, – бузкаши. Король любил посмотреть на ловких наездников. В поездке на север традиционная степная игра так его очаровала, что он пригласил игроков в Кабул на празднование своего дня рождения в октябре. Игра, которую король там видел, была больше похожа на жестокую драку с участием сотен всадников за обладание тушей животного – обычно теленка, а не козла. Эта версия игры зрителей не предусматривала, потому что правил в ней не было и игрового поля тоже. Не было в ней ни призов, ни даже команд. В нее играли как в детскую игру вроде «Царя горы», выясняя, кто из всадников сильнее всех и чья лошадь резвее. Король, сам игравший в поло, и его двор разработали правила, подходящие для спорта, которым сможет наслаждаться более утонченная публика[885]. Игровое поле, разбитое на территории Кабульского гольф-клуба, представляло собой квадрат со стороной около 90 м, что почти вдвое больше площади поля футбольного. На одной его стороне из камней было выложено кольцо высотой по щиколотку: называлось оно «круг истины». На противоположном конце поля на мачте реял черно-красно-зеленый флаг Афганистана. Цель игры заключалась в том, чтобы подхватить из круга истины лежащую на земле 55-килограммовую тушу, перекинуть ее через седло, оторваться от преследователей, проскакать вокруг флага и, вернувшись, сбросить тушу обратно в круг. Так можно было заработать очко. Две команды по пять всадников отбирали тушу друг у друга при помощи плеток, лошадиных зубов и копыт. Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам двух таймов по 45 минут каждый, объявлялась победившей и получала от короля щедрые призы: седла, уздечки и прочую роскошную конскую амуницию.
 Захир-шах верхом на коне, 1940 г.
Захир-шах верхом на коне, 1940 г.
Игроки сперва не поняли новых, незнакомых им правил. Само ограничение игрового поля казалось им странным, потому что в степи игра велась без всяких границ. Поэтому и на этой игре в присутствии короля всадники перемахивали через барьеры и прокладывали себе путь в толпе зрителей, и тщетно королевские слуги взывали к ним, предупреждая об опасности и неприглядности такого поведения на глазах у короля и иностранных гостей. В форменной одежде наездники чувствовали себя неловко, им не нравилась идея объединять усилия с другими членами команды, с которыми они обычно сражались до победного конца, устраивая кучу-малу – именно так выглядела эта забава в их родной степи. Игра на поле для гольфа, свод правил, форма, да еще и женщины в числе зрителей – все это говорило о том, что Захер-шах надеялся произвести на свой народ впечатление, будто ему с успехом удается соединять традиции с современностью. До него на троне, впервые занятом Ахмад-шахом Дуррани в XVIII в., побывал 21 правитель, и не многим удавалось задержаться надолго. Политическая культура страны была столь же жестокой и непредсказуемой, как перетягивание козла. Теперь королевский трон колебался между настойчивым желанием сельских племенных вождей и религиозных лидеров ничего в Афганистане не менять и стремлением многих городских кабульцев изменить буквально все. С помощью таких зрелищ, как игра бузкаши, король надеялся привести страну к согласию на основе общего представления об Афганистане и его богатом прошлом, красотой и доблестью которого могли бы восхищаться все. Афганцы стали называть бузкаши своей национальной игрой, хотя в нее никогда не играл никто, кроме узбеков на севере[886]. Захер-шах выбрал ее потому, что при всех противоречиях, которые раскалывали и продолжают раскалывать эту страну с ее семью основными языками, клановыми вендеттами и все более непримиримыми политическими ориентациями, афганцев всегда объединяла любовь к лошадям. Ведь в конце концов именно афганцы, в самом широком историческом и географическом смысле, были древними ашвака, знатоками лошадей. В ХХ в. одна только игра бузкаши выражала эту 2000-летнюю традицию. Геополитика ХХ в. привела Афганистан к изоляции и сделала его последним прибежищем степных коневодов. На некогда знаменитые рынки Кабула больше не стекались барышники из Бухары, Турфана и Лахора. В 1919 г. британские бомбы разрушили древние караван-сараи. Исчезли и сами торговые пути. Советский Союз вдоль реки Окс, Китайская Народная Республика по ту сторону Памира и Пакистан на Инде позакрывали свои границы с Афганистаном. Страна, которая веками процветала благодаря тому, что служила перевалочным пунктом для лошадей, пересекавших Гиндукуш вместе с мигрирующими грабителями, правителями и торговцами, превратилась в захолустье. Закрытию границ сопутствовало подавление скотоводства. Новые советские республики Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подталкивали коневодов к оседлому образу жизни. Стада животных переходили в собственность государства, и, чтобы присматривать за ними, много людей не требовалось. Советские власти считали, что в отсутствие конфликтов между кланами нет никакой необходимости в большом количестве пастухов. В рамках новых масштабных ирригационных проектов бывших скотоводов отправляли в поля выращивать товарные культуры, в первую очередь хлопок. Нужда в лошадях отпала, и их погнали на убой. Семьям, которые прежде занимались разведением лошадей, пришлось учиться жить без них – и это там, где раньше никто никуда пешком не ходил. Советский эксперимент по коллективизации оказался столь же неудачным для скотоводства, как и для сельского хозяйства в целом. В отсутствие бдительного ока конного пастуха, охраняющего свое семейное стадо, животные начали пропадать. Их съедали волки. Советско-американский антрополог Анатолий Хазанов рассказывает о казахской бригаде, которая получила премию за то, что сумела перегнать большое стадо, используя для этого четыре грузовика. Хазанов напомнил бригадиру, что до коллективизации со стадом такого же размера справлялся один всадник с сыном. Бригадир, не моргнув глазом, ответил: «Но в те времена это было его стадо»[887]. Теперь, когда животные принадлежали всем, а значит, никому, пастухи тоже забивали лошадей на мясо. Водить животных старыми дорогами без лошадей было трудно, численность стад неумолимо сокращалась, а после очередного «дзуда» не было никакого стимула их восстанавливать. Общая численность поголовья скота в Казахстане упала с 36 млн голов в 1928 г. до 3 млн в 1932 г.[888] По милости советских консультантов Монголия столкнулась с такой же ситуацией. Центральноазиатские породы лошадей – киргизская, туркменская, ахалтекинская и карабаирская – захирели как в количественном, так и в качественном отношении, и никому не было до этого дела. Новый режим в Иране, основанный иранскими националистами, тоже попытался принудить коневодов к оседлости, но не столько для того, чтобы провести коллективизацию, сколько для того, чтобы лишить их политического влияния. Ханов арестовывали, оружие коневодов конфисковывали, а скудные сельскохозяйственные земли второпях передавали семьям скотоводов для распашки. Результаты напоминали советские. Скотоводы обнищали, а Иран лишился промышленного животноводства. Туркмены бежали из Ирана и Советского Союза; узбеки и киргизы – из Советского Союза и Китая[889]. Афганистан предложил им убежище. Из всех упомянутых здесь стран только Афганистан не ставил социальных экспериментов над скотоводами – по крайней мере, до вдохновленной коммунистами революции 1978 г. На пограничные провинции власть короля почти не распространялась. Беженцы-узбеки отыскали своих собратьев-всадников в степях Северного Афганистана, и те их встретили радушно. Прихватив с собой дорогостоящих лошадей, они стали зарабатывать на жизнь их разведением и тренировкой. Лошадей у них покупали уже не индийские махараджи, а богатые землевладельцы, ханы и беи, которые извлекали все больше денег из зарождающейся современной экономики Афганистана: прекрасные лошади служили им драгоценным напоминанием о степных традициях. Богатейшие люди на севере соревновались в умении выращивать лучших лошадей[890]. Эти лошади были похожи на прекрасных туркменских, которых нахваливал Вамбери в 1860-х гг. Ростом они доходили до 1,8 и даже 1,9 м – настоящие гиганты. Цены на них достигали таких же заоблачных высот: 100 000 рупий (около 20 000 долларов в 1960-х гг.; в 2018 г. цена взлетела до 100 000 долларов)[891]. Состоятельные заводчики порою держали до сотни таких животных. Как и знаменитых «потеющих кровью» лошадей У-ди, как ахалтекинцев, этих коней холили и лелеяли, словно детей в любящей семье. Преданный сиче, или грум, каждый день выводил их на прогулку, следил за питанием, охлаждал после изнурительных тренировок и успокаивал после боя. Чапандаз, или игроки в бузкаши, тренировали коней не менее дотошно, чем футбольный тренер команду, и примерно теми же методами. Лошади отрабатывали финты, повороты, защиту и нападение. Иногда чапандаз направляли лошадей в рощу и галопом гнали их прямо на деревья, в самую последнюю секунду сворачивая то вправо, то влево. Подготовка лошади для бузкаши занимала семь лет, после чего она еще лет 20 участвовала в соревнованиях. (Считалось, что чапандаз достигает пика своей спортивной формы только в возрасте 40 лет, что нетипично для спортсмена.) Летом и весной лошади нагуливали жирок, и выезжали их нечасто. Осенью лошадей переводили на жесткую диету и, чтобы нарастить мускулатуру, подвергали ежедневным четырехчасовым изнурительным тренировкам. После тренировки им не давали пить и есть, пока они полностью не остынут. Такая подготовка делала лошадей настоящими атлетами, и в бузкаши они играли с тем же напором и желанием победить, что и их чапандаз. Игра бузкаши пережила изгнание Захер-шаха в 1973 г., вторжение советских войск в 1979 г., американскую оккупацию в 2001 г. и возвращение талибов в 2022 г.[892] В стране всадников лошади для игры бузкаши, аргамаки, «потеющие кровью» лошади и лошади «тысячи ли» сохраняют такую прочную связь с человеком, что мы, глядя со стороны, и представить себе не в силах. Мы можем попытаться прикоснуться к афганским конным традициям, но это проще сказать, чем сделать. Если житель какой-нибудь западной страны скажет вам, что играл в Афганистане в бузкаши, в большинстве случаев это означает, что он смотрел, как играют другие. В сельской местности, где нет спортивных полей и «кругов истины», единственный способ наблюдать за игрой – присоединиться к ней верхом на лошади. Разница между зрителем и игроком заключается в том, насколько близко каждый из них сможет подобраться к туше. В эпицентре бури лошади весом под 450 кг бросаются на вас, лягаются и кусаются, а возбужденные всадники хлещут друг друга и чужих лошадей кожаными плетками. В этой разновидности игры цель всадника, завладевшего тушей, – вырваться из кучи-малы и оторваться от преследователей, а затем объявить о своей победе, сбросив тушу наземь. Игра продолжается до тех пор, пока всадники остаются в седле: в течение многих часов или даже дней. Поскольку иностранцы не в состоянии угнаться за стремительными скакунами, им остается лишь наблюдать, как участники игры устремляются к горизонту в облаках пыли, в вихре из мелькающих копыт и свищущих плеток, и исчезают в бескрайних просторах степи.
Благодарности
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Питера и Эми Бернстайн, которые с самого начала неустанно поддерживали этот проект, Питера Гордона, который первым предположил, что эта тема может лечь в основу содержательной книги, а также Ричарда Бернстайна, который не дал мне подражать в стиле письма Чарльзу Доути. Джейми Гринбаум, Джули Салливан, Ло Ци, Дэниел Поттс и Уилер Тэкстон оказали мне неоценимую помощь в работе с китайскими и персидскими текстами и историческими данными. Александр Моррисон поделился своим мнением о российской экспансии в Центральной Азии. Майк Барри напомнил мне, что название Афганистан означает «страна всадников». Лерке Рехт, Кэтрин Канне и Игорь Чечушков заразили меня своим энтузиазмом в отношении лошадей бронзового века, а Араз Имамов, Омер Карабей и Аяко Кайхо передали мне увлечение лошадьми, на которых ездят сегодня. Внимательными читателями и вдумчивыми критиками этой книги были Джо Колман, Чарльз Трухарт, Джордж Фой и Уайли Вуд, которые отложили в сторону собственные проекты ради того, чтобы оценить мой. Сотрудники Британской библиотеки, библиотеки Восточного фонда в Лиссабоне, Университетской библиотеки языков и цивилизаций (Париж), Национальной библиотеки Франции и Американской библиотеки в Париже делали то, что библиотекари умеют делать лучше всех: помогали найти нужные книги. Мне везло с эрудированными спутниками, в частности, в 2018 г. мне выпала возможность отправиться в путешествие в Синьцзян вместе с членами Королевского общества по делам Азии. Некоторых уже нет с нами: Роджера Кови, основателя Исследовательского фонда Танга, вместе с которым я надеялся исследовать Центральную Азию; Деррика Вонга, неутомимого путешественника по Азербайджану и Узбекистану; и, что самое печальное, Маргариты Йетс, моей хаят йолдасим – спутницы на жизненном пути.Приложение: замечание о деньгах
В Индии, на крупнейшем рынке лошадей, расчеты веками велись в серебряных рупиях – монетах весом около 10 г, или 0,35 унций. Обычная лошадь продавалась за 200 рупий, и, исходя из этого, мы можем рассчитать ее цену следующим образом: ● 70 унций, или 2 кг серебра; ● 1400 долларов США (с учетом цен на серебро на момент написания книги); ● чуть меньше двойного годового дохода семьи городского рабочего в те давние времена (1200 г серебра). По паритету покупательной способности такому же домохозяйству в современной Индии обычная лошадь обошлась бы в сумму, равную примерно 5000 долларов США. В Китае эпохи Тан лошадей покупали в обмен на шелк. Обычную лошадь можно было приобрести за 20 стандартных шелковых отрезов. Но у шелкового отреза был металлический, монетарный эквивалент, составлявший около 20 г серебра. Следовательно, китайская лошадь стоила: ● 14 унций, или 400 г серебра; ● 276 долларов США (с учетом текущих цен на серебро); ● чуть меньше половины годового дохода семьи городского рабочего (744 г серебра). Денежный доход в Китае был гораздо ниже, чем в Индии, поэтому лошадь, даже по более низкой цене, все же обходилась очень дорого. По паритету покупательнойспособности такому же домохозяйству в современном Китае обычная лошадь обошлась бы в сумму, равную примерно 4400 долларов США. В России XVI в. лошадь стоила 20 рублей; в те времена рубль содержал 68 г серебра, следовательно, лошадь стоила: ● 48 унций, или 1360 г серебра; ● 947 долларов США (с учетом текущих цен на серебро); ● сумму, примерно равную годовому заработку городского ремесленника. С учетом текущей покупательной способности это эквивалентно 10 000–12 000 долларов США.Источники
Ban Gu, Food and Money in Ancient China: The Earliest Economic History of China to A.D. 25. Trans. Nancy Lee Swann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950). Haider, Najaf. "Prices and Wages in India (1200–1800): Source Material, Historiography and New Directions." Paper presented at Towards a Global History of Prices and Wages, Utrecht, August 2004 (New Delhi, 2004). http://www.iisg.nl/hpw/papers/haider/pdf. 2004. Mironov, Boris N. "Wages and Prices in Imperial Russia, 1703–1913." Russian Review 69, no. 1 (January 2010): 47–72. Naqvi, Hamida Khatoon. "A Study of Urban Centres and Industries in the Central Provinces of the Mughal Empire Between 1556 and 1803." PhD diss., University of London, School of Oriental and African Studies, 1965. ProQuest Dissertations Publishing; https://doi.org/10.25501/SOAS.00033929. van Leeuwen, Bas, Jieli van Leeuwen-Li, and Reinhard Pirngruber. "The Standard of Living in Ancient Societies: A Comparison Between the Han Empire, the Roman Empire, and Babylonia." Working Papers, Utrecht University, Centre for Global Economic History, 0045. 2013.Хронология




Места, упомянутые в тексте
Азербайджан. Исторический регион, включающий в себя Азербайджанскую Республику и одноименную иранскую провинцию. Аксу. Один из «шести городов» Таримского бассейна. Алтай. Горная цепь, разделяющая западную и восточную степь; сегодня это Кыргызстан, Казахстан, граница с Китаем. Алти Шахр. «Шесть городов» Таримского бассейна; традиционно Кашгар, Хотан, Яркенд, Йени Хисар, Аксу и Турфан. В некоторых списках фигурируют Куче или Хами. Амударья. Греческие географы называли эту реку Окс; течет с Памира в Аральское море. См. Трансоксиана. Анатолия. Полуостров, соединяющий Азию со Средиземноморьем; большая часть Восточной Анатолии естественным образом подходит для скотоводства. Аньян. Место археологических раскопок у Желтой реки. Афрасиаб. Археологический памятник VII в.; согласно легенде, дворец царя Афрасиаба; в пригороде Самарканда. Ахал. Местность в Туркменистане, где туркмены-текинцы разводили знаменитых ахалтекинских коней. Ашхабад. Город в Туркменистане. Багдад. Столица Аббасидского халифата; поблизости располагается множество древних столиц, в том числе доисламского Ирана. Баласагун. Местность в Кыргызстане, бывшая степная столица нескольких народов, место, где стоит башня Бурана. Балх. Древний город в Северном Афганистане. Бамиан. Долина в горах Гиндукуша, где в скалах были высечены гигантские Будды. Бенгалия. Реки Ганг и Брахмапутра сделали эту провинцию очень богатой; сейчас она разделена между Индией и Бангладеш. Биджапур. Султанат в Декане, теперь штат Карнатака. Бихар. Историческая провинция Бенгалии, теперь индийский штат. Бурана. Башня или минарет в Баласагуне. Бухара. Город в Трансоксиане; в XVI в. из Самарканда сюда была перенесена столица региона. Внутренняя Азия. Обычно относится к Западному Китаю, Монголии и Тибету – то есть к степным землям к востоку от Алтая; см. восточная степь. Восточная степь. Включает Монголию и китайские провинции Внутренняя Монголия, Синьцзян и Ганьсу. Газни. Некогда столица империи, теперь город на юго-западе Афганистана. Ганьсу. Самая западная провинция ханьского Китая; отправная точка ханьских походов в западные регионы. Герат. Город в Западном Афганистане; исторически важный рынок скота. Гильменд. Река в Южном Афганистане. Гилян. Иранская провинция у Каспийского моря. Гиндукуш. Горная цепь, высящаяся над Афганистаном. Голконда. Султанат в Декане, неподалеку от нынешнего Хайдарабада в штате Телангана. Горган. Историческая область Ирана на границе с Туркменистаном, географы Античности называли ее Гирканией. Гуджарат. Провинция в Западной Индии с прочными торговыми связями с Ираном и Персидским заливом. Датун. Китайский город, выросший из заставы у Великой стены. Декан. Буквально «юг» Индии, в отличие от Индостана и Бенгалии. Дели. Столица Мамлюкского султаната, время от времени столица Великих Моголов; столицей Британской Индии город стал в 1911 г. Деште-Кевир. Солончаковая пустыня в Центральном Иране, 24-я по величине в мире; деште означает «пустыня». Деште-Лут. Солончаковая пустыня в Центральном Иране, 23-я по величине в мире. Джазира. Верховья Тигра и Евфрата в современной Турции. Джалалабад. Город в Восточном Афганистане по пути к Хайберскому проходу. Джехоль. Летняя столица империи Цин, в 160 км к северо-востоку от Пекина, теперь Чэндэ. Джодхпур. Город в Раджастхане, резиденция махараджей, родина марварской лошади. Джунгли Лакхи. Некогда покрытая кустарником местность, славившаяся своими лошадьми. Днепр. Река, впадающая в Черное море; место, где жили многие коневодческие народы, последними были казаки. Дунай. Вторая по протяженности река в Европе, издавна указывавшая путь вторгавшимся в Европу степным народам, в том числе хунну, аварам, мадьярам, кипчакам и монголам. Желтая река. На китайском языке называется Хуанхэ; историческая граница между земледельческим Китаем и скотоводческой Внутренней Азией. Забулистан. Древняя область в Иране; место, где располагался Газни. Сегодня находится в Афганистане. Загрос. Горная цепь на юго-западе Ирана. Западная степь. Украина, Южная Россия и Западный Казахстан; включает Понтийскую степь (к северу от Черного моря) и Кипчакскую степь, а также Поволжье; тянется до Алтайских гор. Зарафшан. Река, текущая с Памира в Самарканд и Бухару; ранее была притоком Окса (Амударьи). Или. Река в Казахстане и Северо-Западном Китае. Индостан. Традиционно относится к Северной Индии. Индрапрастха. Древнее поселение, упомянутое в Махабхарате, неподалеку от современного Дели. Ирак. Относится и к современному государству Ирак, и к Юго-Западному Ирану, который раньше называли Персидским Ираком, а также к Иранскому Курдистану. Иссык-Куль. Озеро в Кыргызстане. Йени Хисар. Один из «шести городов» Таримского бассейна. Кабулистан. Историческая область, включающая Кабул и соседний Гиндукуш. Казань. Город на Верхней Волге, бывшая татарская крепость. Камбей. Современный Камбат в штате Гуджарат, Северная Индия. Каракорум. Столица монголов. Каракумы. «Черные пески», пустыня в Туркменистане между Ираном и рекой Окс (Амударья). Катхиявар. Полуостров в Гуджарате, родина одноименной породы лошадей. Кашгар. Один из «шести городов» Таримского бассейна. Кашмир. Область на самом севере Индийского субконтинента, исторически важный торговый путь во Внутреннюю Азию и Китай. Керманшах. Город в Западном Иране. Киев. Город, основанный небесными тюрками; столица Древней Руси. Константинополь. Столица Восточной Римской империи, а позже Османской империи; нынешний Стамбул. Конья. Город в Западной Анатолии, столица государства сельджуков. Куньлунь. «Облачные горы», отделяющие Тибет от Таримского бассейна. Кхаджурахо. Храмовый комплекс в Центральной Индии, построенный в правление династии Пратихаров. Кызылкум. «Красные пески», пустыня между реками Окс (Амударья) и Яксарт (Сырдарья). Ладакх. Гималайское царство, часть империи сикхов. Лахор. Культурная и экономическая столица Пенджаба. Лоян. Одна из четырех древних китайских столиц на Желтой реке. Мадхья-Прадеш. Штат в Центральной Индии. Майсур. Султанат на юге Индии, в нынешнем штате Карнатака. Манцикерт. Местность в Восточной Анатолии. Маньчжурия. Лесистый, гористый регион на северо-востоке Китая. Марвар. Область в Раджастхане, известная своими лошадьми; также называется Джодхпур. Махараштра. Штат в Западной Индии, родина маратхов. Мегиддо. Место сражения, названного в Библии «Армагеддонским». Меймене. Город на севере Афганистана. Мерв. Древний город на Амударье. Муган. Богатые пастбища, которые делят между собой современные Иран и Азербайджан. Мулань. Охотничьи угодья империи Цин неподалеку от Джехоля, нынешнего Чэндэ. Мултан. Важный центр торговли лошадьми в Пенджабе; резиденция клана Ахмад-шаха. Мургаб. Река на севере Афганистана. Окс. Река, см. Амударья. Ормуз. Остров в Персидском заливе; важный центр торговли. Орхон. Река в Монголии. Отрар. Город на юге Казахстана. Пазырык. Археологический памятник IV–II вв. до н. э. в Уральских горах. Памир. Горная цепь, которая отделяет Таримский бассейн от Индийского субконтинента. Панипат. Местность к югу от Дели. Пенджаб. География региона определяется пятью реками, впадающими в Инд; сейчас он поделен между Индией и Пакистаном. Пуса. Раньше на этом месте в предгорьях Гималаев находилось британское коневодческое хозяйство, а затем – сельскохозяйственный исследовательский центр. Пустыня Тар. Пустыня, занимающая большую часть территории современного штата Раджастхан. Пушкар. Город на берегу озера в засушливом Раджастхане; некогда важный рынок скота, теперь место паломничества. Пушта. Степь в Центральной Венгрии. Раджастхан. Штат на северо-западе Индии; родина раджпутов. Регистан. Пустыня на юго-востоке Афганистана. Самарканд. Древний город в Трансоксиане, столица империи Тимура, теперь принадлежит Узбекистану. Сарай. Столица ханов Золотой Орды на Нижней Волге, разрушена Тимуром; ей на смену пришла Астрахань. Саяны. Горы на территории России и Монголии. Сиань. Современной название Чанъаня. Синд. Провинция, названная в честь Синда (реки Инд), которая по ней протекает; расположена в современном Пакистане. Синташта. Археологический памятник II тыс. до н. э. к югу от Уральских гор. Сиркеджи. Главный железнодорожный вокзал Стамбула; место, где во времена Византии располагалось поле для игры в поло. Систан. Провинция в Восточном Иране, на границе с Пакистаном; древний Сакастан, страна скифов. Солютре. Археологический памятник во французском департаменте Сона и Луара. Сырдарья. Греческие географы называли ее Яксарт; река, берущая начало в Тянь-Шане и впадающая в Аральское море. Такла-Макан. Пустынная зона в Таримском бассейне. Таримский бассейн. Впадина между хребтами Тянь-Шаня и Памира, место, где находятся Алти Шахр и пустыня Такла-Макан. Трансоксиана. Земля за рекой Окс (Амударьей); сегодня это Узбекистан. Турфан. Один из «шести городов» Таримского бассейна. Тянь-Шань. Горная система в Центральной Азии на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и китайской провинции Синьцзян, отделяющая Таримский бассейн от Джунгарии. Улан-Батор. Столица современной Монголии. Фарс. Провинция на юго-западе Ирана. Ферганская долина. Долина между Тянь-Шанем и Памиром, большая часть которой сегодня принадлежит Узбекистану. Хаджипур. Конный рынок и место паломничества в Бихаре. Халчаян. Археологический памятник в Узбекистане, эпоха кушанов. Хами. Один из «шести городов» Таримского бассейна. Ханбалык. Название, которое хан Хубилай дал Пекину. Хангай. Горный хребет в Центральной Монголии. Хардвар. Место, где Ганг выходит из Гималаев; раньше это был важный рынок скота, а теперь место паломничества. Хастинапур. Древнее поселение, упоминаемое в Махабхарате; «город слонов». Хива. Город на Амударье; древний Хорезм. Хинган. Горный хребет во Внутренней Монголии. Хорасан. «Страна восходящего солнца»; относится к Западному Афганистану и граничащей с ним иранской провинции. Хорезм. Древний город на Амударье; нынешняя Хива. Хотан. Один из «шести городов» Таримского бассейна. Хэнтэй. Горный хребет в Северо-Восточной Монголии. Центральная Азия. Обычно понятие относится к Казахстану, Узбекистану, Туркменистану, Афганистану, Кыргызстану и Таджикистану. Цинхай-Тибетское нагорье. Обширный высокогорный регион, где занимаются разведением яков, расположенный между современным Тибетским автономным районом и провинцией Сычуань. Чанъань. Современный город Сиань в провинции Шэньси; столица империй Цинь, Хань и Тан. Чжунду. Старое название Пекина; «центральная столица». Чэндэ. Летняя столица Цин, которая тогда называлась Джехоль. Шанду. Летняя столица хана Хубилая; Марко Поло называл ее Ксанаду. Юймэнь. Нефритовые ворота, часть оборонительных сооружений ханьской границы в провинции Ганьсу. Юйчжоу. Старое название Пекина. Юхуаньмяо. Археологический памятник периода Сражающихся царств к югу от Пекина. Яксарт. Ныне Сырдарья, река, протекающая в основном по Узбекистану. Яркенд. Один из «шести городов» Таримского бассейна.Люди, упомянутые в тексте
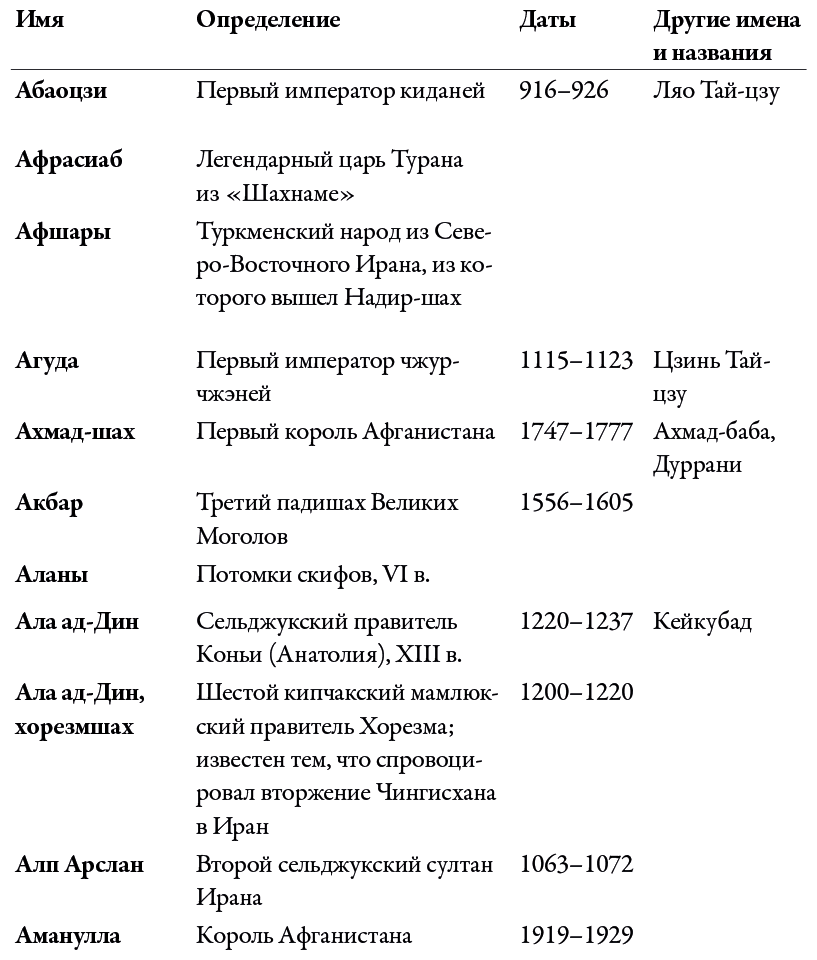
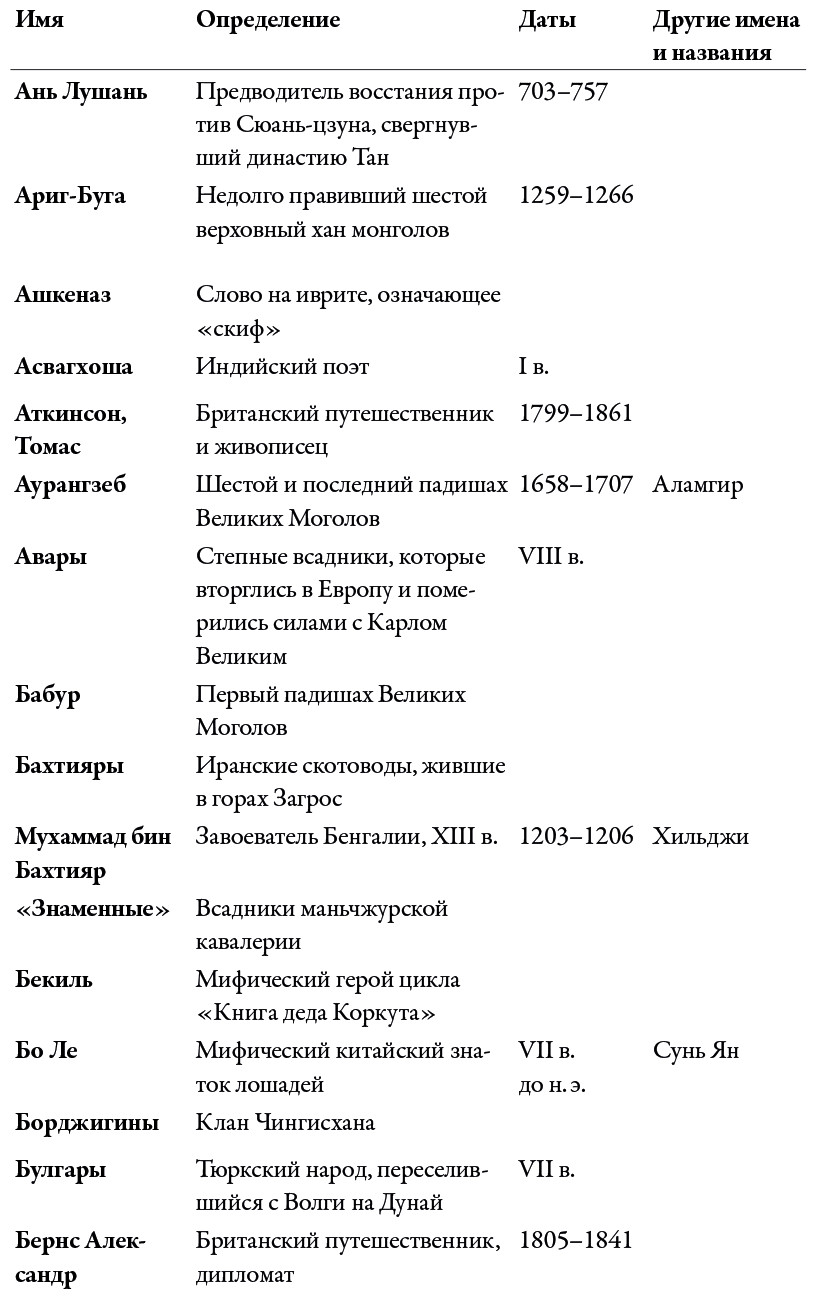
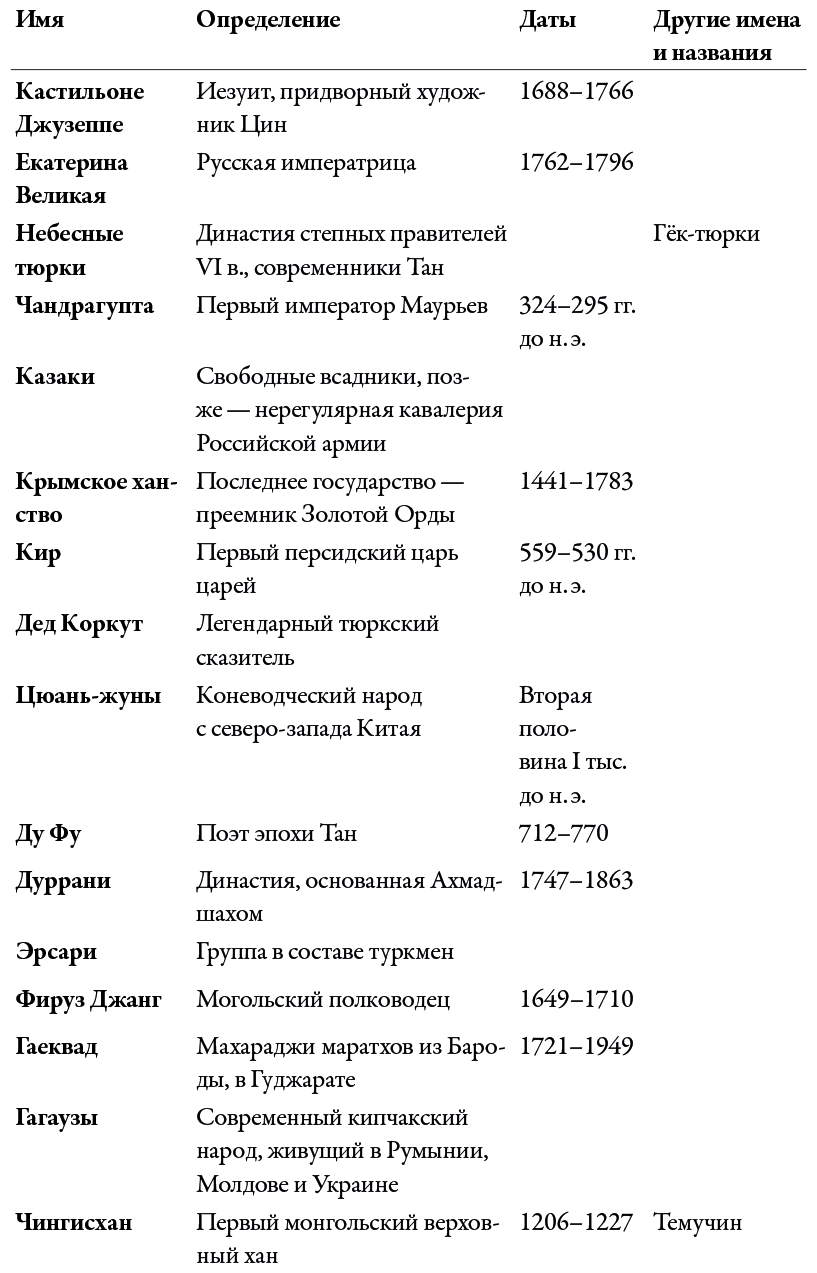

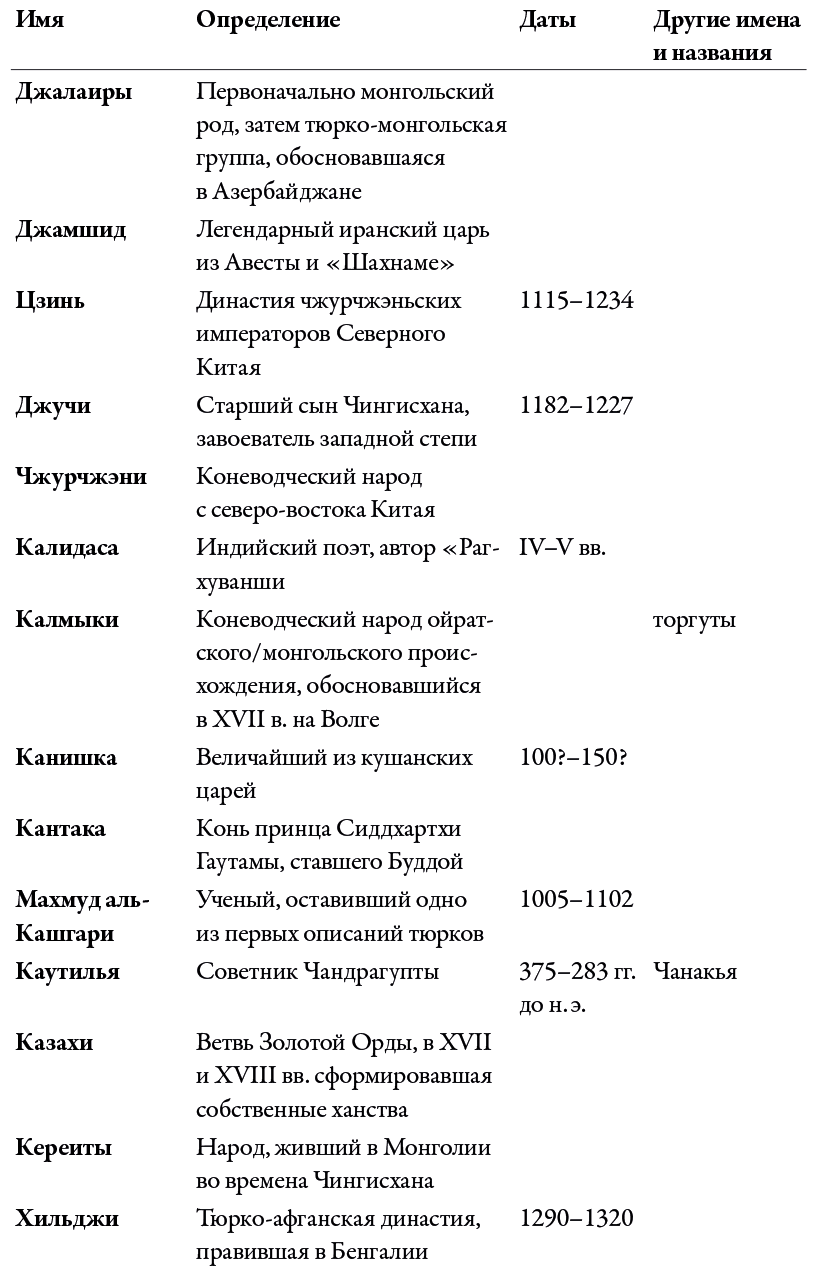
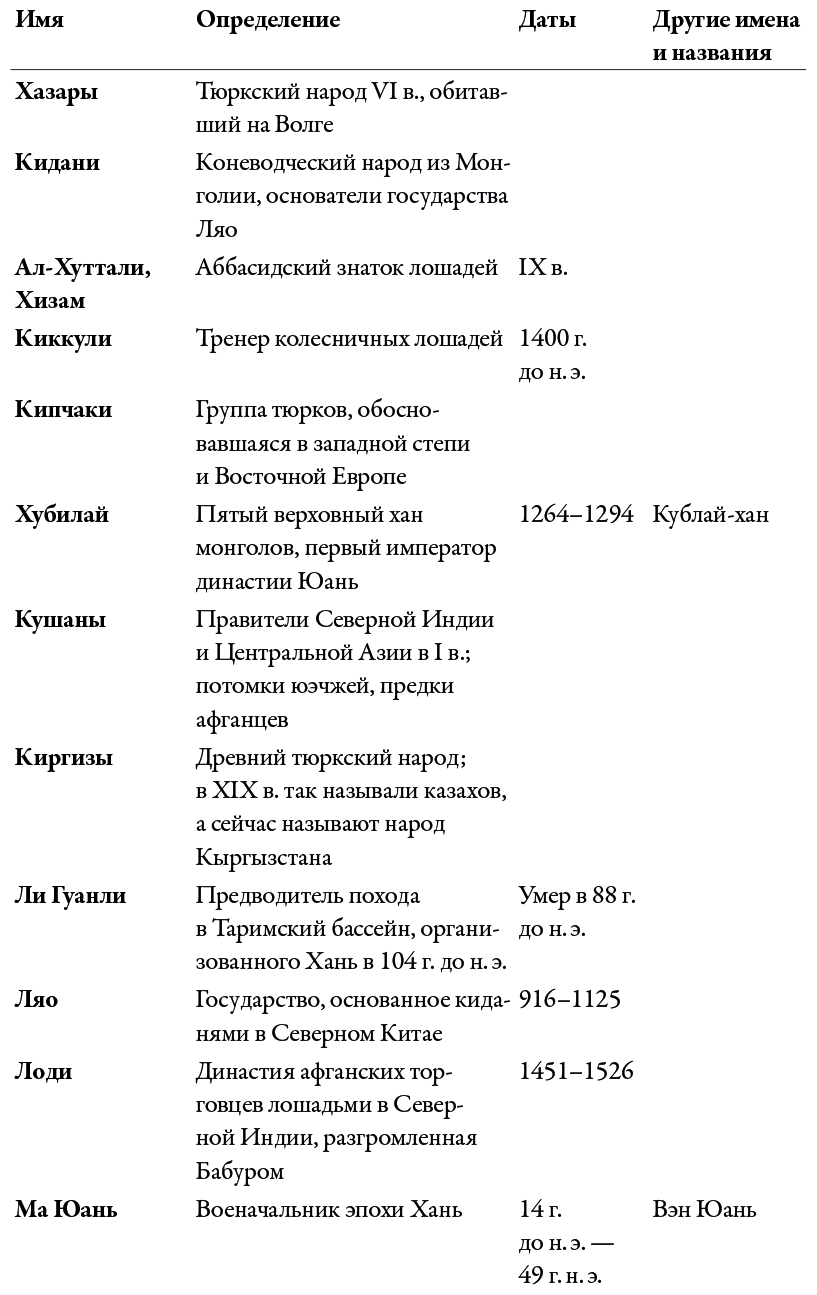

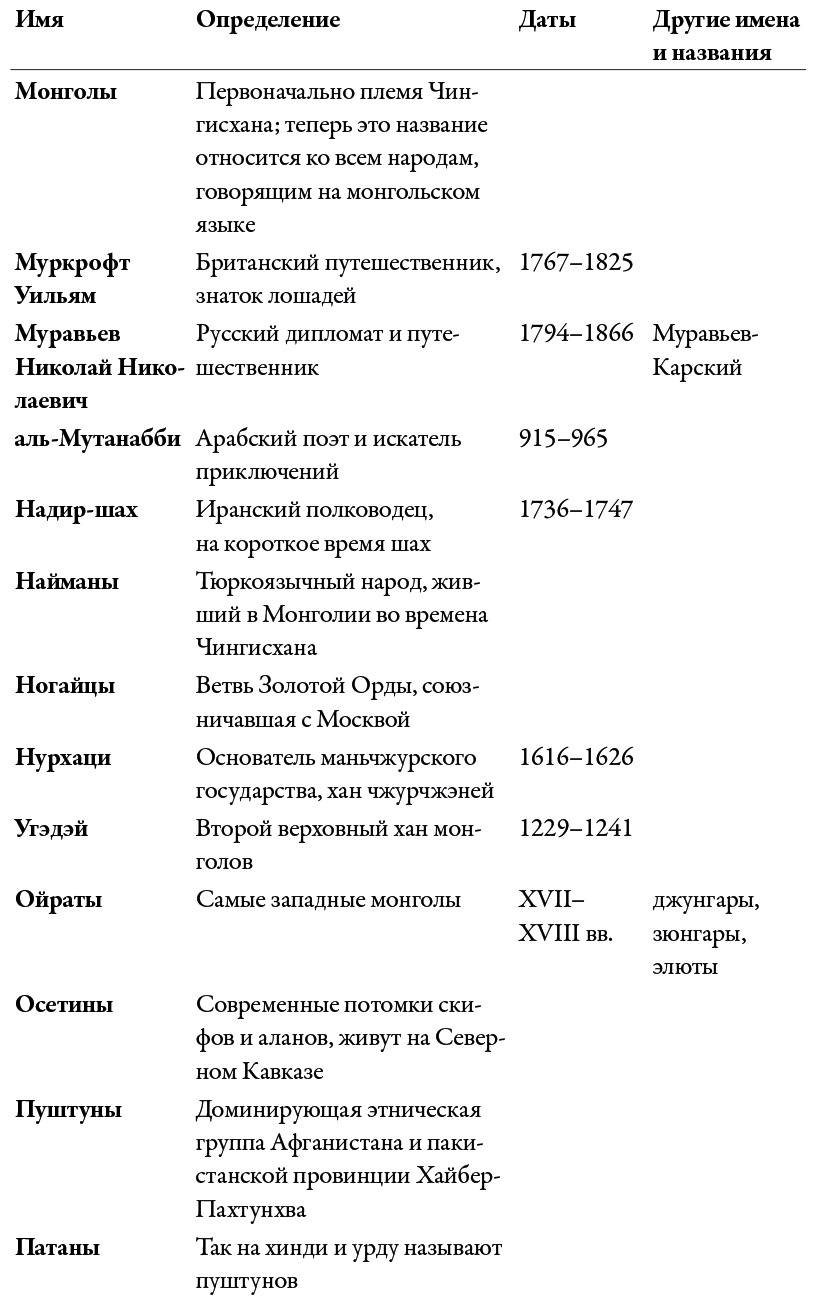
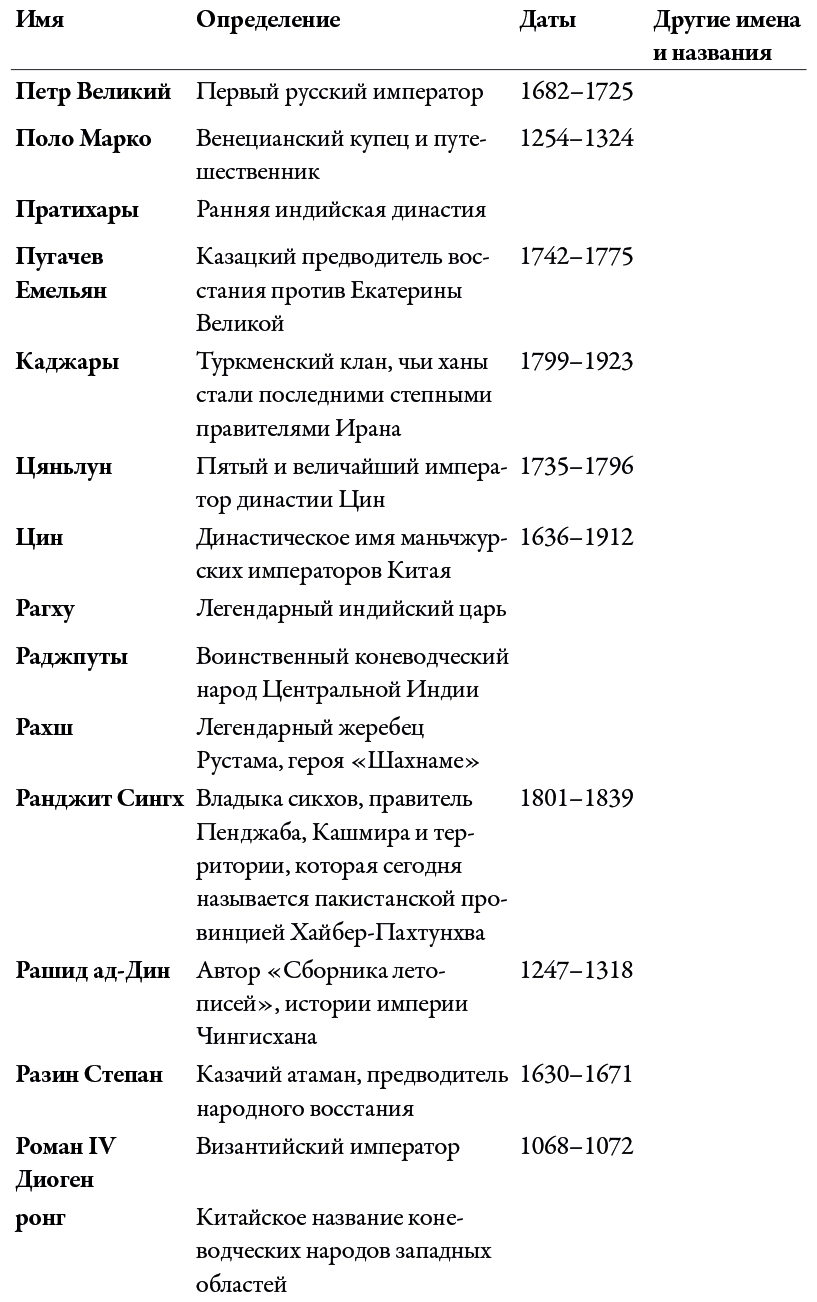
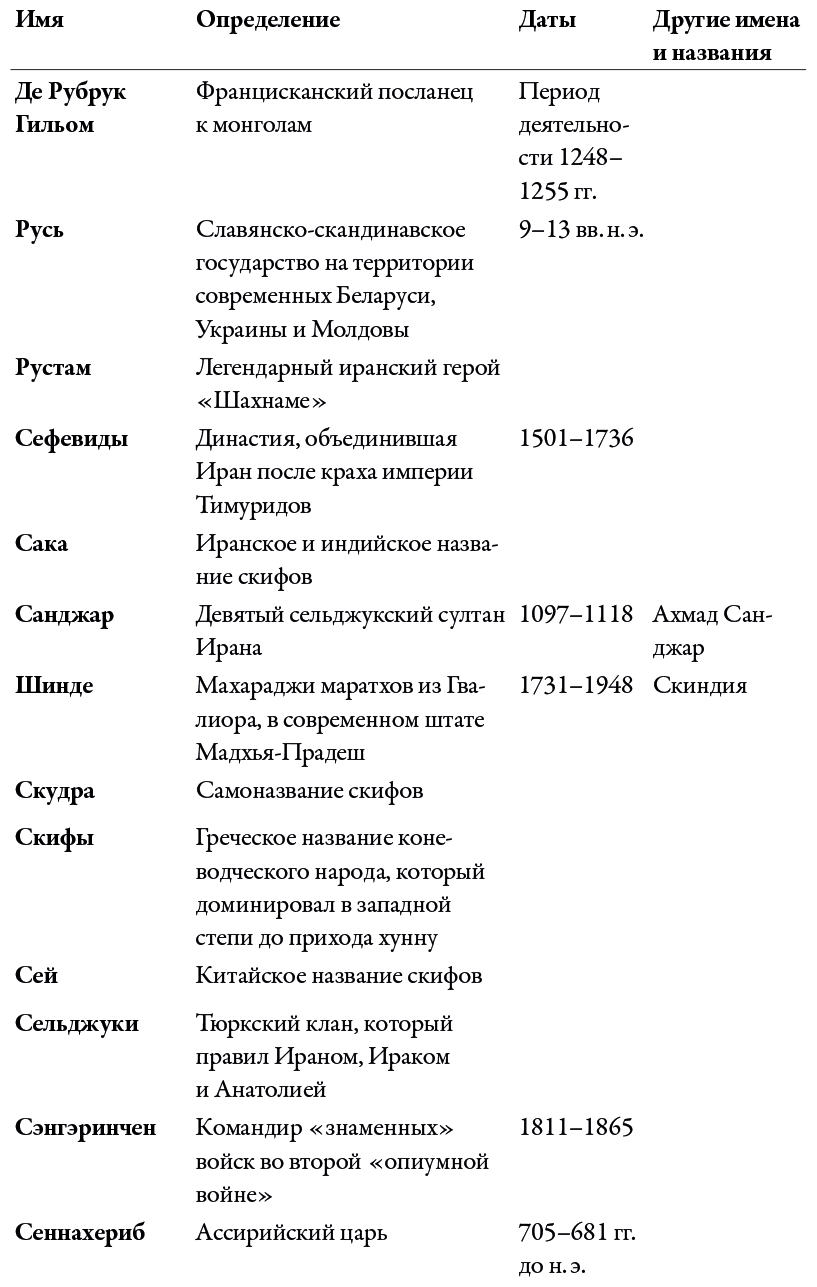

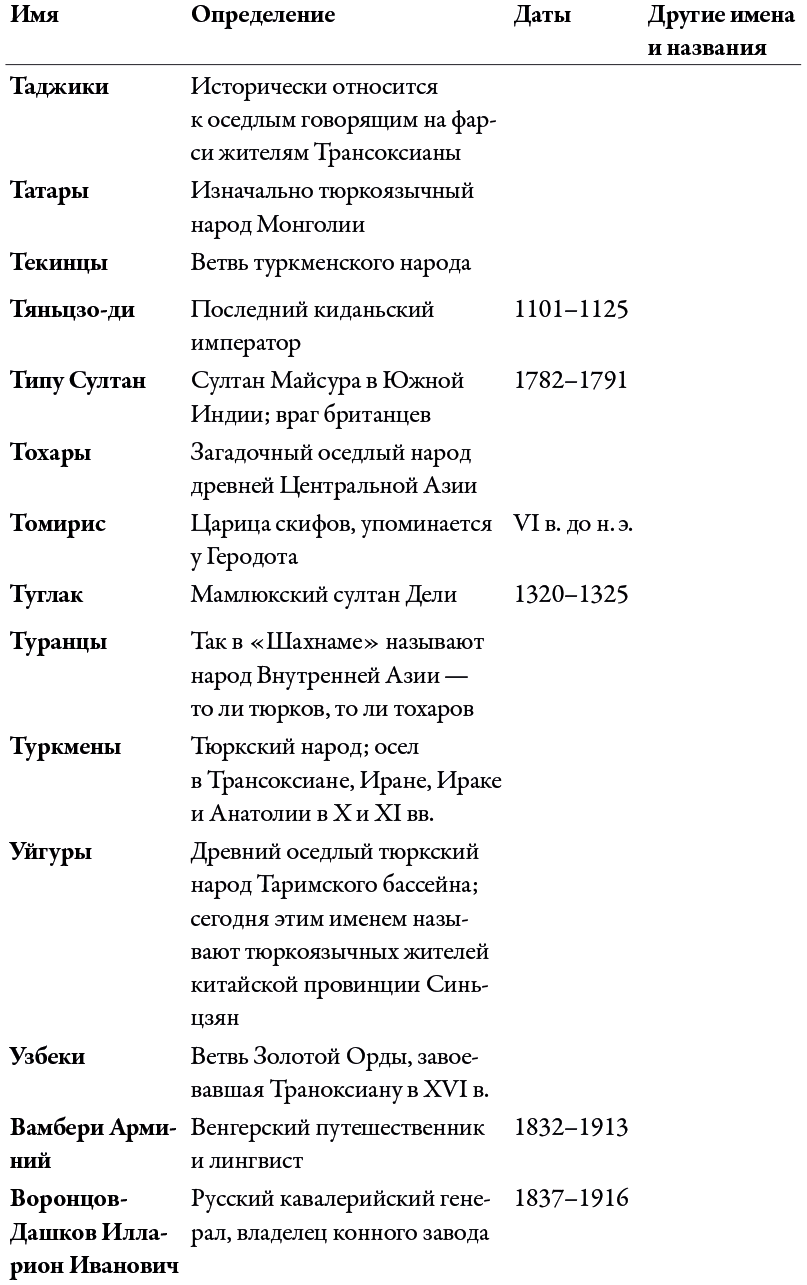
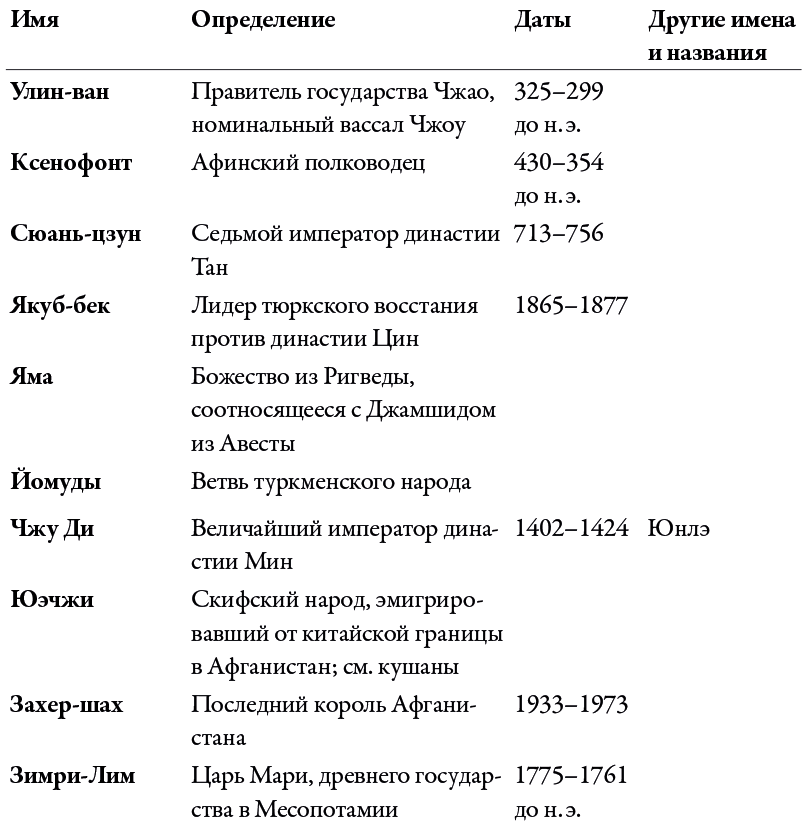
Использованные в тексте иностранные слова

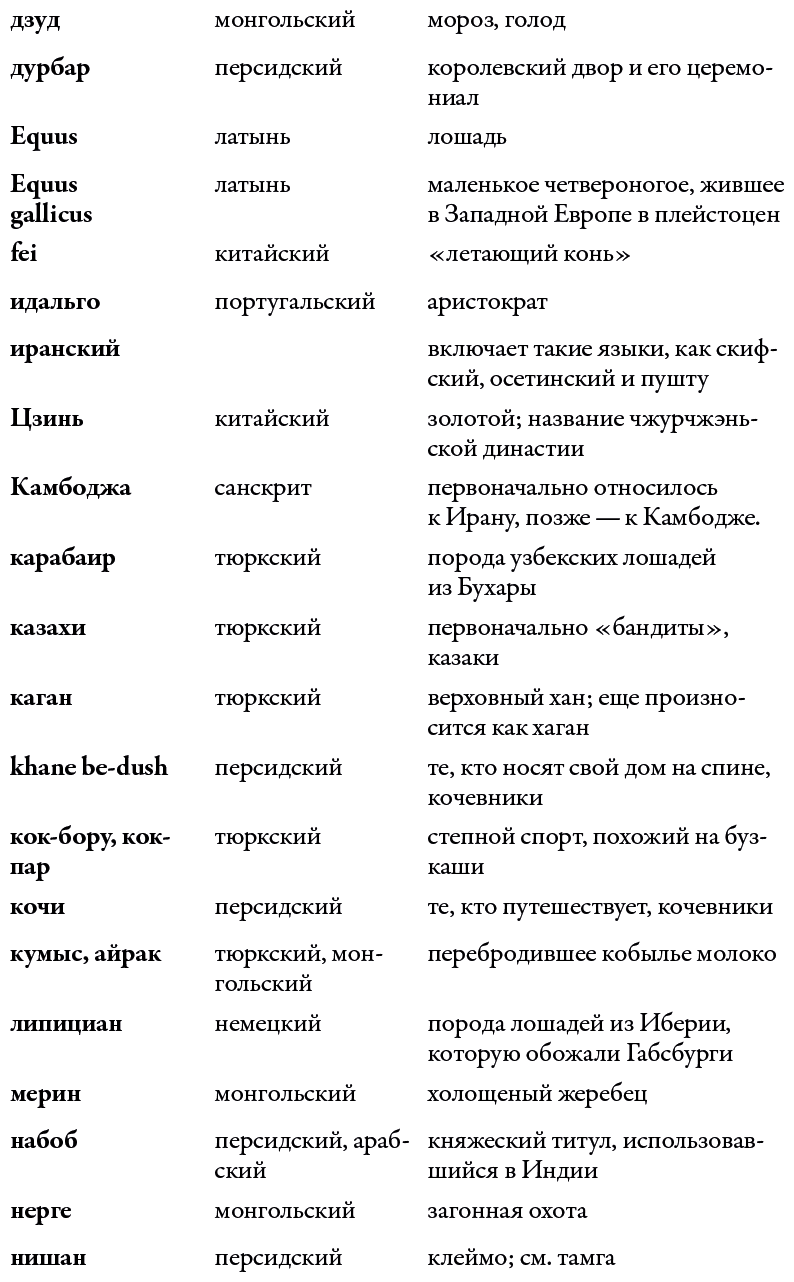
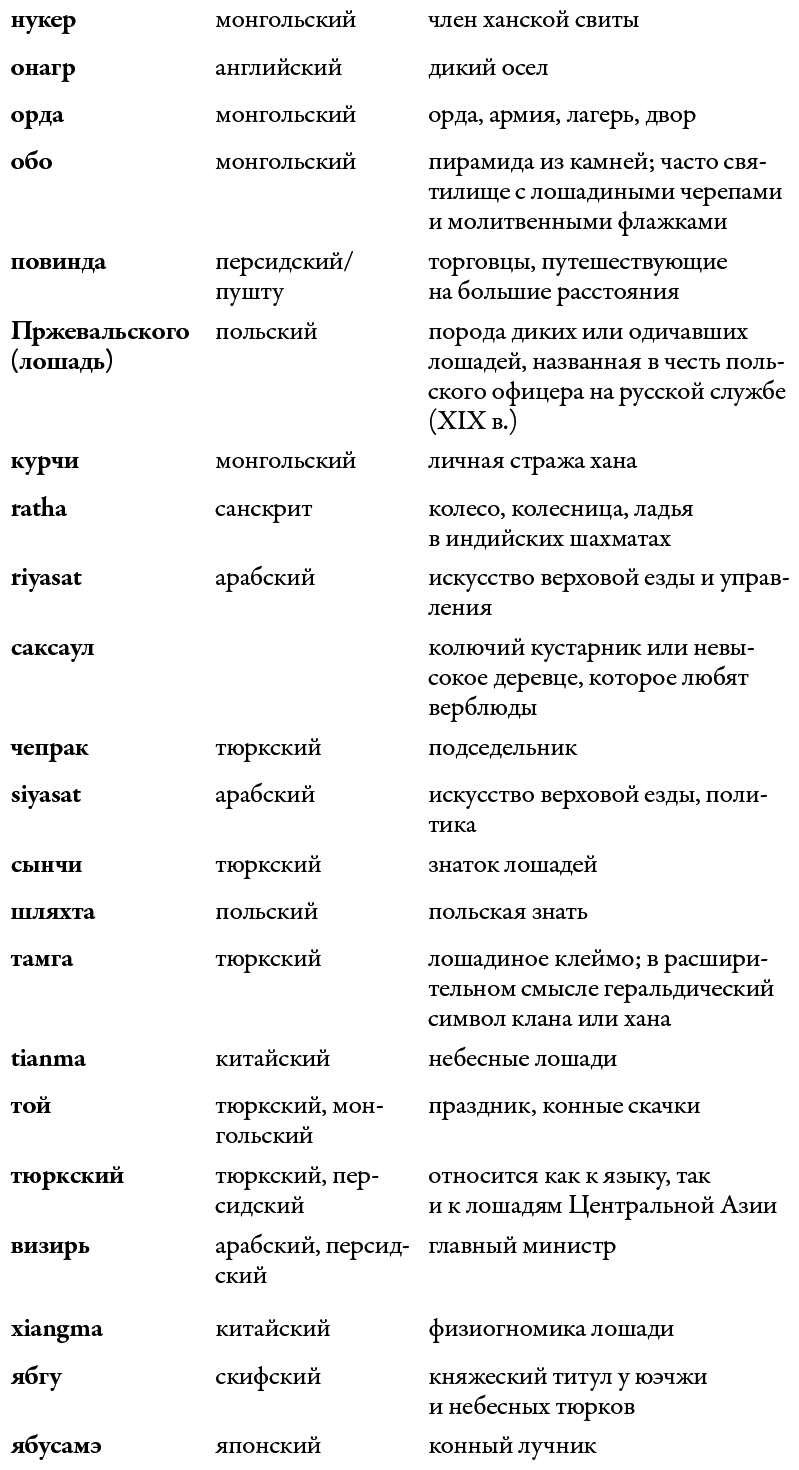
Источники иллюстраций
Эволюция лошади. MCY Jerry. Лошадь, пасущаяся в снегу в Кыргызстане. Jamie Greenbaum. Петроглифы с изображением степных колесниц. Монголия. Esther Jacobson-Tepfer 2012, fig. 5. Золотая игрушечная колесница из Амударьинского клада, 200 г. до н. э. © Trustees of the British Museum. Церемониальная погребальная маска лошади. The State Hermitage Museum. Photo by Vladimir Terebenin. Скифы пытаются надеть тетиву на лук. Изображение на золотой чаше. The State Hermitage Museum. Photo by Vladimir Terebenin. Ассирийские боевые кони на фризе из дворца в Ниневии. © Trustees of the British Museum. Рельеф с изображением боя лошадей и слонов. Храм в Махешваре. Mayur Sherkhane/Alamy. Скаковая лошадь и всадник. Государство Гуптов. Art Institute of Chicago. Терракотовые лошади из гробницы Первого императора, II в. до н. э. Сиань, провинция Шэньси. Gary Lee Todd. Бронзовая колесница династии Хань Провинция Хэнань. Gary Lee Todd. Иппологическая диаграмма по мотивам Бо Ле. CPA Media Pte Ltd./Alamy. «Летящая лошадь из Ганьсу». Gary Lee Todd. Юэчжи в бою. Изображение на Орлатской пластине, Uzbekist2an National Museum. Nadeem Ahmad. Любимый боевой конь императора Тай-цзуна. Мавзолей Чжао Лин, Шэньси. Gary Lee Todd. Позолоченное седло в тюркском стиле. Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art (MTW 795). Придворные дамы эпохи Тан, играющие в поло. © Trustees of the British Museum. Знаменитый портрет «Сияния Ночи» кисти Хань Ганя. Metropolitan Museum of Art. Танский конь и чужеземный конюх. Courtesy of Vanderven Oriental Art, the Netherlands. Киданьский охотник, преследующий добычу. Metropolitan Museum of Art. Знамена киданьского хана. Metropolitan Museum of Art. Загонная охота. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris)/Michel Urtado. Чингисхан осаждает Пекин. Bibliothèque Nationale de France (Supplement oriental 1113 fol. 65v). Чаби, императрица Юань, на охоте. Wikimedia. Эмир Тимур в погоне за Золотой Ордой. The John Work Garrett Library, Sheridan Libraries, Johns Hopkins University. Страница из «Шалихотра-самхита». Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art (MSS 475). Конный портрет могольского падишаха Шах-Джахана. Metropolitan Museum of Art. Могольская пара наслаждается совместной верховой прогулкой. Metropolitan Museum of Art. Юный Аурангзеб сражается со слоном на глазах у всего двора. Royal Collection Trust/© His Majesty King Charles III 2023. Конный портрет императора Цяньлуна. Джузеппе Кастильоне. Beijing Palace Museum. Император Цяньлун принимает в подарок лошадей от степных послов. Photo © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris)/image RMN. Цинские войска побеждают ойратов. Гравюра из серии «Завоевания императора Китая». Photo © Musée du Louvre, Dist2. RMN-Grand Palais/Michel Urtado. Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею. Mikhailovski Palace. Военачальник Амир-хан. Victoria and Albert Museum, London. Ранджит Сингх, основатель империи сикхов. Victoria and Albert Museum, London. Ахалтекинская лошадь. Irina Kazaridi. Уланы на параде во время дурбара 1911 г. Royal Collection Trust/© His Majesty King Charles III 2023. Захир-шах верхом на коне. Universal Images Group North America, LLC/Alamy. Игроки в бузкаши. Kevin Kelly.Примечания
1
Слово «Украина», например, происходит от слова «край», то есть граница степи. Украинские всадники назывались казаками. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и венгры предстанут на этих страницах в качестве могущественных коневодческих народов. (обратно)2
Булгары – это тюркоязычные всадники, перенявшие южнославянский язык завоеванного народа, который, в свою очередь, стал называть себя болгарами. Слова «серб» и «хорват» изначально были скифскими этнонимами. Венгры – уникальный случай – сохранили свое название (мадьяры) и свой степной язык, хоть и живут теперь в самом центре Европы. (обратно)3
Jurgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014), 303. (обратно)4
Andrew Curry, «Horse Nations», Science 379, no. 6639 (2023): 1288–93. (обратно)5
Tang Shu, 36 3718d, цит. в: Edward H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T'ang Exotics (Berkeley: University of California Press, 1985), 58. (обратно)6
Цит. в: R. B. Azad Choudhary, «Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature: Tarjamah-i-Saloter-i-Asban and Faras-Nama-i-Rangin», Social Scientist 45, nos. 7–8 (July-August 2017): 60. (обратно)7
Commandant Emile Bouillane de Lacoste, Au pays sacre des anciens Turcs et Mongols (Paris: Emile Paul, 1911), выдержки приводятся в: Le Voyage en Asie Central et au Tibet, ed. Michel Jan (Paris: Robert Laffont, 1992), 1048. (обратно)8
Хорошие краткие обзоры сведений о лошадях в доисторическую эпоху: Jean-Pierre Digard, Une histoire du cheval: Art, techniques, societe (Arles: Actes Sud, 2004); Susanna Forrest, The Age of the Horse: An Equine Journey Through Human History (New York: Atlantic, 2017). (обратно)9
Digard, Une histoire du cheval, 15, 18. (обратно)10
Marsha A. Levine, «Eating Horses: The Evolutionary Significance of Hippophagy», Antiquity (March 1998). См. также: Carole Ferret, «Les avatars du cheval iakoute», Etudes mongoles et siberiennes, centrasiatiques et tibetaines (2010): 42. (обратно)11
Thomas Rowsell, «Riding to the Afterlife: The Role of Horses in Early Medieval North-Western Europe» (master's diss., University College London, 2012), 7. (обратно)12
Digard, Une histoire du cheval, 25. (обратно)13
Vera Eisenmann, «L'evolution des equids», Etudes centrasiatiques et tibetaines, 41 (2010): 11. (обратно)14
Ludovic Orlando, «Ancient Genomes Reveal Unexpected Horse Domestication and Management Dynamics», Bioessays-journal.com (2019): 3. (обратно)15
Pablo Librado et al., «The Evolutionary Origin and Genetic Makeup of Domestic Horses», Genetics 20, no. 4 (October 2, 2016): 423–34. (обратно)16
Vera Warmuth et al. «Reconstructing the Origin and Spread of Horse Domestication in the Eurasian Steppe», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109, no. 2 (May 22, 2012): 8202–06. (обратно)17
Marsha A. Levine, «Botai and the Origins of Horse Domestication», Journal of Anthropological Archaeology 18 (1999): 29–78. Дэвид Энтони с коллегами оспаривают выводы Левин в работе «Early Horseback Riding and Warfare, the Importance of the Magpie Around the Neck», in Horses and Humans: The Origins of Human-Equine Relationships (Oxford: Archaeopress, 2006). Ученые продолжают обсуждать свидетельства одомашнивания лошади около 3000 г. до н. э. (обратно)18
В октябре 2022 г. газета The Washington Post рассказала, как в штате Юта верховая лошадь присоединилась к табуну мустангов (одичавших лошадей) и вернулась к своим хозяевам спустя восемь лет жизни в дикой природе; см.: Maria Luisa Paul, «A Horse Ran Away with Wild Mustangs», October 10, 2022. (обратно)19
Digard, Une histoire du cheval, 13. (обратно)20
Anatoly M. Khazanov, Nomads and the Outside World (Madison: University of Wisconsin Press, 1994), 28. (обратно)21
Так был зачат волшебный жеребенок из турко-иранского эпоса «Кёроглы». См.: Alexander Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia (London: W. H. Allen, 1842), 14. (обратно)22
«The Horse in Turkic Art», Central Asiatic Journal 10, nos. 3–4 (1965): 92. (обратно)23
Martha Levine, George Bailey, K. E. Whitwell, Leo B. Jeffcott, «Palaeopathology and Horse Domestication: The Case of Some Iron Age Horses from the Altai Mountains, Siberia», in Human Ecodynamics: Symposia of the Association for Environmental Archaeology, ed. George Bailey (Barnsley: Oxbow, 2000), 123–33; Fiona B. Marshall, Keith Dobney, Tim Denham, and Jose M. Capriles, «Evaluating the Roles of Directed Breeding and Gene Flow in Animal Domestication», Proceedings of the National Academy of Sciences 111, no. 17 (April 29, 2014): 6153–58. Более поздние исследования Людовика Орландо позволяют предположить, что современные лошади произошли от небольшого числа диких предков. В этом случае жеребцы, не принадлежавшие к табуну, могли быть не дикими, а одичавшими. (обратно)24
A. Turk: «A Scientific and Historical Investigation on Mongolian Horses», История: факты и символы, no. 11 (2017): 24. Турк ошибочно утверждает, что лошадь Пржевальского – предок монгольской лошади. (обратно)25
Charleen Gaunitz et al., «Ancient Genomes Revisit the Ancestry of Domestic and Przewalski's Horses», Science 360. no. 6384 (2018): 111–14; Orlando, «Ancient Genomes», 2. В последней работе Орландо утверждает, что лошадь Пржевальского – одичавший потомок лошадей, одомашненных в ходе предыдущей попытки, следы которой найдены в районе стоянки Ботай, упомянутой в примечании 10. См. его книгу: La conquete du cheval (Paris: Odile Jacob, 2023), 30. (обратно)26
Piet Witt and Inge Bouman, The Tale of Przewalski's Horse: Coming Home to Mongolia (Utrecht: KNNV, 2006). (обратно)27
William Timothy Treal Taylor et al., «Early Pastoral Economies and Herding Transitions in Eastern Eurasia», Scientific Reports 10, no. 1001 (2022); Shevan Wilkin et al., «Dairying Enabled Early Bronze Age Yamnaya Steppe Expansions", Nature 598 (September 15, 2021): 629–33. Более широкое обсуждение взаимозависимости между человеком и лошадью см. в: Gala Argent and Jeannette Vaught, eds., «Introduction: Humans and Horses in the Relational Arena», in The Relational Horse (Leiden: Brill 2022). (обратно)28
Ewa Jastrze˛bska et al., «Nutritional Value and Health-Promoting Properties of Mare's Milk: A Review», Czech Journal of Animal Science 62, no. 12 (2017): 512; Massimo Malacarne, «Protein and Fat Composition of Mare's Milk: Some Nutritional Remarks with Reference to Human and Cow's Milk», International Dairy Journal 12 (2002): 875–875. (обратно)29
О применении кастрации см.: William Taylor, «Horse Demography and Use in Bronze Age Mongolia», Quaternary International (2016): 10; Marsha Levine, «The Origins of Horse Husbandry on the Eurasian Steppe", in Prehistoric Steppe Adaptation and the Horse, ed. Marsha Levine, Colin Renfrew, and Katherine V. Boyle (Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2003), 22. (обратно)30
Orlando, «Ancient Genomes», 6. (обратно)31
Чтобы узнать больше о глубине отношений между лошадью и человеком см.: Laerke Recht, The Spirited Horse: Equid-Human Relations in the Bronze Age Middle East (London: Bloomsbury, 2022). О собаках рассказывается на с. 27. (обратно)32
Recht, The Spirited Horse, 32–33. (обратно)33
Gala Argent, «Watching the Horses: The Impact of Horses on Early Pastoralists' Sociality and Political Ethos in Inner Asia», in Hybrid Communities Biosocial Approaches to Domestication and Other Trans-species Relationship, ed. Charles Stepanoff and Jean-Denis Vigne (Milton Park, Abingdon: Routledge, 2018), 145. (обратно)34
Paul Sharpe and Laura B. Kenny, «Grazing Behavior, Feed Intake, and Feed Choices», in Paul Sharpe's Horse Pasture Management (New York: Academic Press, 2019), 126. (обратно)35
Khazanov, Nomads and the Outside World, 46. (обратно)36
Taylor, «Early Pastoral Economies». (обратно)37
«Nomadic Empires in Inner Asia», in Complexity of Interaction Along the Eurasian Steppe Zone in the First Millennium AD, ed. Jan Bemmann and Michael Schmauder (Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat, 2015), 17. (обратно)38
Joel Berger, Bayarbaatar Buuveibaatar, and Charudutt Mishra, «Globalization of the Cashmere Market and the Decline of Large Mammals in Central Asia», Conservation Biology 27, no. 4 (August 2013): 684. (обратно)39
Natalia M. Vinogradova and Giovanna Lombardo, «Farming Sites of the Late Bronze and Early Iron Ages in Southern Tajikistan», East and West 52, nos. 1–4 (December 2002): 100. (обратно)40
Philip L. Kohl, «The Early Integration of the Eurasian Steppes with the Ancient Near East: Movements and Transformations in the Caucasus and Central Asia», in Beyond the Steppe and the Sown, ed. David Peterson, Laura Popova, and Adam T. Smith (Leiden: Brill, 2006), 15. (обратно)41
Khazanov, Nomads and the Outside World, 38. (обратно)42
Levine, «The Origins of Horse Husbandry». (обратно)43
Harold B. Barclay, «Another Look at the Origins of Horse Riding», Anthropos 77 (1982): 245. (обратно)44
Martin Trautmann, Alin Frinculeasa, Bianca Preda-Balanica, Marta Petruneac, Marin Focsaneanu, Stefan Alexandrov, Nadezhda Atanassova, et al. «First Bioanthropological Evidence for Yamnaya Horsemanship», Science Advances 9, no. 9 (2023). В этой недавно вышедшей статье предпринята попытка связать распространение коневодческих культур в степи с первыми попытками верховой езды. Авторы утверждают: «Трудно представить, как такая экспансия могла произойти без усовершенствования транспорта». Но этим усовершенствованным транспортом не могла быть лошадь. Древние скотоводы передвигались на повозках, в которых перевозили свои домашние вещи. Лошади тогда не использовались в качестве тягловой силы. Более того, как отмечается в статье, из всех исследованных скелетов лишь несколько имели признаки верховой езды. Это означает, что среди древних скотоводов, в отличие от более поздних скотоводческих групп, верховая езда не была массовой. Вероятно, верхом ездили пастухи, отвечавшие за конские табуны, поскольку трудно пасти лошадей, не оседлав одну из них. Одомашнивание лошадей действительно привело к экспансии скотоводов в степь, но не верховая езда тому причиной. Скорее, экологические требования лошадей – им нужно гораздо больше места для выпаса, чем жвачным животным, – заставили людей следовать за ними. В конце концов верховая езда стала массовым и широко распространённым явлением, но произошло это не менее чем на 1000 лет позже. Хорошее обсуждение этой статьи см.: Victor Mair, «The Earliest Horse Riders», in The Language Log (March 5, 2023 @ 10:40 am). (обратно)45
Wilkin et al., «Dairying». Людовик Орландо указывает на то, что датировка молочных жиров в древних сосудах для приготовления пищи может быть ошибочной, и утверждает, что не доение как таковое, а селекция может объяснить растущую покорность лошадей. См. его работу: Conquete, 60, 75. (обратно)46
E. T. Shev, «The Introduction of the Domesticated Horse in Southwest Asia», Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia 44, no. 1 (2016): 133. Ianir Milevski and Liora Kolska Horwitz, «Domestication of the Donkey (Equus asinus) in the Southern Levant: Archaeozoology, Iconography and Economy", in Animals and Human Society in Asia, ed. R. Kowner et al. (New York: Springer, 2019). (обратно)47
Joachim Marzahn, «Training Instructions for Horses from Cuneiform Texts", in Furusiyya, ed. David Alexander (Riyadh: King Abdulaziz Public Library, 1996), 1:22. (обратно)48
Как отмечалось выше, Энтони относит одомашнивание и верховую езду к более ранним периодам, а Левин – к более поздним. Для меня главное, что широкое распространение верховой езды произошло только после появления колесниц. Так же считает и Роберт Древс, см.: Early Riders: The Beginnings of Mounted Warfare in Asia and Europe (New York: Routledge, 2004). (обратно)49
Marsha Levine, G. Bailey, K. E. Whitwell, et al., «Palaeopathology and Horse Domestication: The Case of Some Iron Age Horses Horn the Altai Mountains, Siberia», in Human Ecodynamics: Symposia of the Association for Environmental Archaeology, ed. G. Bailey, R. Charles, and N. Winder (Barnsley: Oxbow, 2000), 125. (обратно)50
Diana K. Davis, «Power, Knowledge, and Environmental History in the Middle East and North Africa», International Journal of Middle East Studies 42, no. 4 (November 2010): 657–59, and Mehdi Ghorbani et al., «The Role of Indigenous Ecological Knowledge in Managing Rangelands Sustainably in Northern Iran», Ecology and Society 18, no. 2 (June 2013): 1. (обратно)51
Sharpe and Kenny «Grazing Behavior», 130. (обратно)52
Wilkin et al. «Dairying», 632; P. Librado, N. Khan, A. Fages, et al., «The Origins and Spread of Domestic Horses from the Western Eurasian Steppes», Nature 21 (October 2021). Орландо (Conquete, 55) утверждает, что скотоводы добрались до Центральной Европы лет за двести, а до Китая – за пятьсот с момента одомашнивания лошади, и если так, то это действительно очень быстро. (обратно)53
Philip L. Kohl, The Making of Bronze Age Eurasia (Cambridge: Cambridge University Press 2007), 159; Wilkin et al., «Dairying», 629; Philip L. Kohl, «Culture History on a Grand Scale: Connecting the Eurasian Steppes with the Ancient Near East ca. 3600–1900 BC», in Beyond the Steppe and the Sown, ed. David Peterson, Laura Popova, and Adam T. Smith (Leiden: Brill 2006), 27. (обратно)54
E. N. Chernykh, «Formation of the Eurasian "Steppe Belt" of Stockbreeding Cultures: Viewed Through the Prism of Archaeometallurgy and Radiocarbon Dating», Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 35, no. 3 (2008): 49–50. (обратно)55
Laurent Touchart, «La steppe russe», in Les milieux naturels de la Russie: Une biogeographie de l'immensite (Paris: L'Harmattan, 2010), 306. (обратно)56
См.: Recht, The Spirited Horse, 137. (обратно)57
Alexandra Brohm, «The World Map of a Trace Element», Horizons: The Swiss Research Magazine, March 4, 2017. (обратно)58
D. M. Olson et al., «Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth", Bioscience 51, no. 11 (2001): 934. (обратно)59
Robert N. Taaffe, «The Geographic Setting», in The Cambridge History of Early Inner Asia, ed. Denis Sinor (Cambridge: Cambridge University Press 1990), 20. (обратно)60
Strabo, The Geography, trans. Horace Leonard Jones (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1924), vol. 3, book 7, chapter 4, paragraph 6. Также размещено на сайте: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7D*.html. (обратно)61
J. M. Suttie, S. G. Reynolds, C. Batello, Grasslands of the World (Rome: FAO, 2005), 1111. (обратно)62
Hortobagy National Park Directorate, «Grazing Animal Husbandry on the Puszta», https://www.hnp.hu/en/szervezeti-egyseg/CONSERVATION/oldal/grazing-animal-husbandry-on-the-puszta-i. (обратно)63
Emily Kwong, «The Deadly Winters That Have Transformed Life for Herders in Mongolia», Morning Edition, National Public Radio, July 29, 2019. (обратно)64
Seitkassym Aouelbekov and Carole Ferret, «Quand une institution en cache une autre… Abigeat et mise a sac chez les Kazakhs», Etudes mongoles et siberiennes, centrasiatiques et tibetaines 41 (2010): 13. (обратно)65
Charlotte Marchina, «The Skull on the Hill: Anthropological and Osteological Investigation of Contemporary Horse Skull Ritual Practices in Central Mongolia», Anthropozoologica 52, no. 2 (December 2017): 174. (обратно)66
Laszlo Bartosiewicz, «Ex Oriente Equus: A Brief History of Horses Between the Early Bronze Age and the Middle Ages», Studia Archaeologica 12 (2011): 2, 6. (обратно)67
Ryan Platt, «Hades' Famous Foals and the Prehistory of Homeric Horse Formulas», Oral Tradition 29, no. 1 (2014): 139. (обратно)68
William Taylor et al., «Horse Sacrifice and Butchery in Bronze Age Mongolia», Journal of Archaeological Science: Reports 31 (June 2020). Исследования Виктории Пимот среди тувинцев показывают, что можно одновременно ощущать привязанность к какой-нибудь лошади и с удовольствием есть ее мясо. V. Peemot, «Emplacing Herder-Horse Bonds in Ak-Erik, South Tyva», in Multispecies Households in the Saian Mountains: Ecology at the Russia-Mongolia Border, ed. Alex Oehler and Anna Varfolomeeva (Cheltenham, UK: Rowman and Littlefield, 2019), 162. См. также: Argent, «Watching the Horses», 150. (обратно)69
Philippe Swennen, «L'asvamedha de Rama a-t-il echoue?», in Equides: Le cheval, l'ane et la mule dans les empires de l'Orient ancien, ed. Delphine Poinsot and Margaux Spruyt (Paris: Routes d'Oriente Actes, 2022), 222. (обратно)70
Laura Battini, «Le cheval, 2e partie», Societes humaines du Proche-Orient ancien (November 12, 2018). (обратно)71
Veronika Veit, «The Mongols and Their Magic Horses: Some Remarks on the Role of the Horse in Mongol Epic Tales», in Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur / Horses in Asia: History, Trade and Culture, ed. Bernd Fragner et al. (Wien: Osterreiche Akademie der Wissenschaften, 2009), 101. (обратно)72
John Andrew Boyle, «Form of Horse Sacrifice Amongst the 13th-and 14th-Century Mongols», Central Asiatic Journal 10, nos. 3–4 (December 1965): 46. (обратно)73
Thomas William Atkinson, Travels in the Region of the Upper and Lower Amur (London: Murray, 1860), loc. 1142, Kindle; Fridrik Thordarson, «Bax Faldisin», Encyclopaedia Iranica Online, http://dx.doi.org/10.1163/2330–4804_EIRO_COM_6744. (обратно)74
Recht, The Spirited Horse, 115. (обратно)75
Recht (The Spirited Horse, 109–10). Рехт есть что сказать по поводу степенности и надежности ослов, мулов и кунгов (это гибрид осла и кулана). См. также: Cecile Michel, «The Perdum-Mule, a Mount for Distinguished Persons in Mesopotamia During the First Half of the Second Millennium BC», Man and Animal in Antiquity: Proceedings of the Conference at the Swedish Institute in Rome (September 9–12, 2002). (обратно)76
British Museum, museum no. EA 121201. (обратно)77
Drews, Early Riders, 36, and Recht, The Spirited Horse, 93. (обратно)78
Пер. М. И. Стеблин-Каменского. (обратно)79
Julio Bensezu-Sarmiento, «Funerary Rituals and Archaeothanatological Data from BMAC Graves at Ulug Depe (Turkmenistan) and Dzharkutan (Uzbekistan)», in The World of the Oxus Civilization, ed. Bertille Lyonnet and Nadezhda A. Dubova (London: Routledge, 2021), 405. (обратно)80
В коллекции Лувра имеется такой обод эпохи иранской династии Суккаль-махи, датируемый 2000 г. до н. э. (inventory no. SB 6829). (обратно)81
David W. Anthony and Nikolai B. Vinogradov, «Birth of the Chariot», Archaeology 48, no. 2 (March-April 1995): 36–41. (обратно)82
Gian Luca Bonora, «The Oxus Civilisation and the Northern Steppe», in The World of the Oxus Civilisation (New York: Routledge, 2020), 752. (обратно)83
Об охоте на колесницах см.: Recht, The Spirited Horse, 92, а также: Esther Jacobson-Tepfer, «The Image of the Wheeled Vehicle in the Mongolian Altai: Instability and Ambiguity», Silk Road 10 (2012): 3. (обратно)84
Этим представлением я обязан личному общению с Кейт Канне и Игорем Чечушковым. Канне изучала древних конных скотоводов, живших на территории Венгрии, и не обнаружила никаких свидетельств ведения ими боевых действий. (обратно)85
Gail Brownrigg, «Harnessing the Chariot Horse», in Equids and Wheeled Vehicles in the Ancient World, ed. Peter Raulwing, Katheryn M. Linduff, and Joost H. Crouwel (Oxford: BAR, 2019), 85. (обратно)86
См.: Recht, The Spirited Horse, 77, 119, 137. Рехт подчеркивает, что упряжь не обязательна для езды на дальние расстояния, но с колесницей в бою без нее не управишься. (обратно)87
Jean Spruytte, Attelages antiques libyens (Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme 1996), http://books.openedition.org/editionsmsh/6368. (обратно)88
Edward L. Shaughnessy, «Historical Perspectives on the Introduction of the Chariot into China», Harvard Journal of Asiatic Studies 48, no. 1 (June 1988): 189–237. (обратно)89
Xiang Wan, «The Horse in Pre-Imperial China» (doctoral diss., University of Pennsylvania, 2013), 80, http://repository.upenn.edu/edissertations/720. (обратно)90
Ирландские легенды тоже прославляют героев, разъезжающих на колесницах, – вспомните Кухулина и Фергуса; см. стихотворение У. Б. Йейтса «Кто нынче с Фергусом умчит?». (обратно)91
Лошади обычно ходят (в каждый момент времени три ноги опираются на землю и только одна переставляется) или скачут галопом (лошадь отталкивается двумя задними ногами, пролетает по воздуху и приземляется на передние). Рысь и иноходь (когда одновременно в воздухе могут находиться две ноги) удобнее всаднику, но не все лошади могут бежать иноходью. О галопе колесничных лошадей см.: Igor V. Chechushkov and Andrei V. Epimakhov, «Eurasian Steppe Chariots and Social Complexity During the Bronze Age», Journal of World Prehistory 31 (2018): 473. (обратно)92
Rig Veda 1.163.1, 5, 6, 8–13; см. также: Wendy Doniger O'Flaherty, The Rig Veda (London: Penguin, 1981), 26, and David Anthony and Nikolai Vinogradov, «Birth of the Chariot», Archaeology 48, no. 2 (March-April 1995): 36–41. (обратно)93
Что очень напоминает более известный пример Ганеши, получившего голову слона. (обратно)94
Дергачев В. О скипетрах, о лошадях, о войне: Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас. – СПб.: Нестор-История, 2007. С. 143. Приписывание скипетров аристократии доисторической Европы, ездившей на колесницах, оспаривается другими учеными, в частности Робертом Дрюсом. (обратно)95
Английское слово ass (осел) происходит от латинского asinus, восходящего к неиндоевропейскому источнику, возможно шумерскому anšu, тогда как многие слова для обозначения лошади в европейских языках, включая equus, hippos и архаичное английское eh, связаны с авестийским aspa и риг-ведийским as'va. (обратно)96
Дэниел Поттс уверен, что весь вопрос о заимствованиях и так называемых индийских божествах в хурритском и хеттском языках – это сплошное минное поле. (обратно)97
Современные тренеры лошадей экспериментировали с советами Киккули, чтобы оценить их практичность. Они нашли его рекомендации по интервальным тренировкам и пиковой нагрузке удивительно разумными. После состязаний, например, он рекомендовал поить животных пивом, что полезно для восстановления электролитного баланса. Recht, The Spirited Horse, 124. (обратно)98
Recht, The Spirited Horse, 98. (обратно)99
Benjamin S. Arbuckle and Emily L. Hammer, «The Rise of Pastoralism», Ancient Near East Journal of Archaeological Research 27, no. 3 (2019): 391–449. (обратно)100
Xiang Wan, «The Horse in Pre-Imperial China», 33. (обратно)101
Shaughnessy, «Historical Perspectives», 190. (обратно)102
Christopher I. Beckwith, The Scythian Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2023), 254; петроглифы см. в: Shaughnessy, «Historical Perspectives», 202. (обратно)103
Shaughnessy, «Historical Perspectives», 211. (обратно)104
Как случилось с Дарием III в битве при Гавгамелах. См.: Lloyd Llewellyn-Jones, The Persians (New York: Basic Books, 2022), 364. (обратно)105
Tsung-Tung Chang, «A New View of King Wuding», Monumenta Serica 37 (1986–87): 1–12; см. также: Shaughnessy, «Historical Perspectives», 189–237. (обратно)106
Теперь она хранится в Британском музее как часть коллекции Амударьинского клада, приобретенного в 1880-х гг. при неясных обстоятельствах. Inventory no. 123908. (обратно)107
John Colarusso and Tamirlan Salbiev, eds., Tales of the Narts: Ancient Myths and Legends of the Ossetians, trans. Walter May (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), 48. (обратно)108
Markku Niskanen, «The Prehistoric Origins of the Domestic Horse and Horseback Riding», Bulletins et memoires de la Societe d'Anthropologie de Paris 35, no. 1 (2023): paragraph 42; https://doi.org/10.4000/bmsap.11881. (обратно)109
Американские и британские владельцы лошадей часто жалуются, что в наше время трудно найти конюшню, которая согласилась бы принять жеребца. Опасность для других лошадей и для работников конюшни настолько велика, что им сложно купить страховку на этот случай или нанять персонал, готовый пойти на такой риск. (обратно)110
Thomas Jansen, «Mitochondrial DNA and the Origins of the Domestic Horse», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 99, no. 16 (Aug. 6, 2002): 10905–10. (обратно)111
Orlando, «Ancient Genomes», 4. (обратно)112
Gaunitz et al., «Ancient Genomes Revisit the Ancestry». (обратно)113
Julio Bendezu-Sarmiento, «Horse Domestication History in Turkmenistan and Other Regions of Asia», Miras 1 (2021): 22. (обратно)114
Gala Argent, «Do the Clothes Make the Horse? Relationality, Roles and Statuses in Iron Age Inner Asia», World Archaeology 42, no. 2 (2010): 157–74. (обратно)115
Argent, «Do the Clothes Make the Horse?», 18. Сообщения о лошадях, которые бросались в огонь и в воду, чтобы спасти своего седока, см. также в: Samra Azarnouche, «Miracles, oracles et augures: Essai sur la symbolique du cheval dans l'Iran ancien et medieval," in Equides: Le cheval, l'ane et la mule dans les empire de L'Orient ancien, ed. Margaux Spruyt and Delphine Poinsot (Paris: Route de l'Orient Actes, 2022). (обратно)116
James F. Downs, «The Origin and Spread of Riding in the Near East and Central Asia», American Anthropologist, n. s., 63, no. 6 (December 1961): 1194. (обратно)117
Digard, Une histoire du cheval (173–74). Автор подчеркивает, что искусство верховой езды развивалось в течение длительного времени, а свою современную форму обрело лишь в конце XIX в. (обратно)118
Natasha Fijn, «In the Land of the Horse», in Living with Herds (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). (обратно)119
Atkinson, Travels, loc. 4698. (обратно)120
Argent, «Do the Clothes Make the Horse?», 168. (обратно)121
Действительно, в фольклоре осетин, потомков скифов, мертвые в аду ездят на собственных лошадях. См.: John Colarusso and Tamirlan Salbiev, eds., Tales of the Narts. (обратно)122
Argent, «Do the Clothes Make the Horse?», 157–74. (обратно)123
Digard, Une histoire de cheval, 74. (обратно)124
Robert Drews, Early Riders, 139–42. (обратно)125
Argent, «Watching the Horses», 153. (126
Mike Loades, «Scythian Archery», in Masters of the Steppe: The Impact of the Scythians and Later Nomad Societies of Eurasia, ed. Svetlana Pankova and St. John Simpson (Oxford: Archaeopress, 2021), 258–60. (обратно)127
Этот миф проиллюстрирован на золотой чаше IV в. до н. э., найденной в Крыму и хранящейся в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург) (инв. № КО 11). На ней юмористически изображены раненые и воющие старшие братья. (обратно)128
Marco Polo: Le devisement du monde, ed. Rene Kappler (Paris: Imprimerie Nationale, 2004), section LXX, p. 81. (обратно)129
Marina Daragan, «Scythian Archers of the 4th Century BC», Masters of the Steppe, 122. (обратно)130
Термин «ашкеназ» стал ивритским словом, обозначающим Европу, а затем, как следствие, и этнонимом самих европейских евреев. (обратно)131
В своей провокационной книге The Scythian Empire Беквит с этим утверждением спорит. (обратно)132
Natasha Fijn, «Human-Horse Sensory Engagement Through Horse Archery», Australian Journal of Anthropology 32 (2021): 67. (обратно)133
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, trans. Burton Watson (New York: Columbia University Press, 1961), vol. II, part 2, section 110, p. 155. Сыма Цянь обобщил историю Китая вплоть до своего времени, около 94 г. до н. э. Для целей нашего исследования древних коневодов он является чем-то вроде китайского эквивалента Геродота или Страбона. (обратно)134
Пер. В. С. Таскина. (обратно)135
Вот расчеты:
Разумеется, число потомков в каждом поколении будет расти, но в этой таблице показано только то потомство поколений 5 и 6, что родилось в течение жизни кобыл первого поколения. В поколении 6 родится еще больше кобыл, но уже после смерти кобыл первого поколения. (обратно)
136
Strabo, The Geography, vol. 3, book 7, chapter 4, paragraph 8. (обратно)137
Robin Archer, «Chariotry to Cavalry: Developments in the Early First Millennium», in New Perspectives on Ancient Warfare, ed. Garrett Fagan and Matthew Trundle (Leiden: Brill, 2010), 78. Арчер утверждает, что оседлые государства развивали свою кавалерию самостоятельно, упуская из виду роль мидийцев в Ассирийской империи. (обратно)138
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, part 2, section 110, p. 159. (обратно)139
См. похожие пряжки для ремня: British Museum, inventory no. 1945,1017.201. (обратно)140
Zhi Dao, History of Military System in China (DeepLogic, n. d.), unpaginated. (обратно)141
Sophia-Karin Psarras, «Han and Xiongnu: A Re-examination of Cultural and Political Relations», Monumenta Serica 51 (2003): 70. Кристофер Беквит заходит еще дальше и утверждает, что и сам Улин-ван, правитель Чжао, был скифом. См. его книгу: The Scythian Empire, 210. (обратно)142
Иеремия 50:42. (обратно)143
Стихотворение Байрона «Поражение Сеннахирима», пер. В. Рафаилова. (обратно)144
Kees van der Pijl, «Imperial Universalism and the Nomad Counterpoint», in Nomads, Empires, States (London: Pluto, 2007), 64. Dominic Lieven, In the Shadow of the Gods: The Emperor in World History (London: Penguin, 2022), 20–29. Связь между водителями колесниц и империями исследуется также в: Peter Turchin, «A Theory for Formation of Large Empires», Journal of Global History 4, no. 2 (2009): 191–217. (обратно)145
Daniel Potts, «Horse and Pasture in Pre-Islamic Iran» (Jean and Denis Sinor Faculty Fellowship Lecture, Indiana University, Bloomington, April 9, 2019). Кристофер Беквит снова заходит на шаг дальше и утверждает, что и сами мидийцы были скифами. (обратно)146
Robin Archer, «Chariotry to Cavalry», 70. (обратно)147
Potts, «Horse and Pasture in Pre-Islamic Iran», and Karen Radner, «An Assyrian View on the Medes», in Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia, ed. G. B. Lanfranchi, M. Road, R. Rollinger (Padova: Sargon, 2003). (обратно)148
На Ашшурбанапала можно взглянуть в Британском музее: inventory no. BM 124876. Мидийцы демонстрируются в Лувре: inventory no. AO 19887. (обратно)149
Посмотрите на луристанские удила: Louvre Museum, inventory no. AO 25002. (обратно)150
Herodotus, Histories, trans. A. D. Godley (London: Heinemann, 1920), 1.103. (обратно)151
Далее в тексте Персией будет называться только империя, основанная Киром. Страна будет зваться Ираном. (обратно)152
Herodotus, Histories, 1.136. (обратно)153
См. царские надписи Ахеменидов: https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/dpd/. См.: Christopher Tuplin, «All the Kings Horses» in Fagan and Trundle, New Perspectives on Ancient Warfare, 101–82, Beckwith, The Scythian Empire, 176. Эти авторы утверждают, что персы были не так помешаны на лошадях, как мидийцы, но, когда они построили свою империю, их приверженность конному делу усилилась. См. также: Pierre Briant, «L'eau du grand roi», in Drinking in Ancient Societies: History and Culture of Drinks in the Ancient Near East, ed. Lucio Milano; papers of a symposium held in Rome, May 17–19, 1990, History of the Ancient Near East Studies 6 (Padua: Sargon, 1994). За эти ссылки я должен поблагодарить Дэна Поттса. (обратно)154
Azarnouche, «Miracles, oracles et augures», in Spruyt and Poinsot, Equides, 241. (обратно)155
Tuplin, «All the King's Horses», 117. (обратно)156
Ahmad Afshar and Judith Lerner, «The Horses of the Ancient Persian Empire at Persepolis», Antiquity 53, no. 207 (March 1979): 44–47. Эти размеры и вес подтверждаются в: Sandor Bokonyi, «Analysis of Ancient Horse Burials in Western Iran», цит. в: David Stronach, «Riding in Achaemenid Iran, New Perspectives», Archaeological, Historical and Geographical Studies (2009): 216–37. См. также: Marcel Gabrielli, Le cheval dans l'Empire achemenide, vol. 1 of Studia ad Orientem Antiquum Pertinentia (Istanbul: Ege Yayınları 2006). (обратно)157
Shing Muller, «Horse of the Xianbei 300–600 AD: A Brief History», in Fragner et al., Pferde in Asien, 187. (обратно)158
Herodotus, Histories, 5.50–5.5. Археологическое подтверждение содержится в Административном архиве Персеполя; см.: Richard T. Hallock, Persepolis Fortification Tablets (Chicago: University of Chicago Press, 1969), 6, and Daniel T. Potts, «Medes in the Desert: Some Thoughts on the Mounted Archers of Tayna», in Klange der Archaeologie: Festschrift fur Ricardo Eichmann, ed. Claudia Buhrig et al. (Wiesbaden: Hassarowitz, 2021), 339. (обратно)159
Erin Almagor, «The Horse and the Lion in Achaemenid Persia: Representations of a Duality» Arts 10, no. 3 (2021): 41. (обратно)160
Hallock Persepolis Fortification Tablets, 47–48. О люцерне см.: R. Heyer, "Pu, Spreu als Pferdefutter», Baghdader Mitteilungen 12 (1981): 82–83. Рехт (The Spirited Horse, 12) обсуждает бюрократию ранних ближневосточных государств. (обратно)161
J.A.S. Evans, «Cavalry About the Time of the Persian Wars: A Speculative Essay», Classical Journal 82, no. 2 (December 1986–January 1987): 101. (обратно)162
Stronach, «Riding in Achaemenid Iran», 216–37. (обратно)163
Xenophon, Life of Cyrus the Great, trans. Walter Miller (London: Heinemann 1914), VIII:3. (обратно)164
Xenophon, Cyropaedia, trans. Walter Miller (London: Heinemann, 1914) VIII:3. (обратно)165
Evans, «Cavalry About the Time of the Persian Wars», 100. (обратно)166
Пер. В. Державина. (обратно)167
Abolqasem Ferdowsi, Shahnameh: The Persian Book of Kings, trans. Dick Davis (New York: Viking, 2006), 132. (обратно)168
Atkinson, Travels, loc. 4707. В одной из осетинских сказок конь предупреждает нападающих: «Оставьте нас в покое. Если мой хозяин проснется, вы пожалеете» (Colarusso and Salbiev, Tales of the Narts, 49). (обратно)169
Когда Артаксеркс III вторгся в Египет, он привел с собой 30-тысячную конницу, в которой, вероятно, имелось по два или три сменных коня для каждого воина (Tuplin, «All the Kings Horses», 150). См. также: Jeremy Clement, «L'elevage des chevaux de guerre dans le royaume seleucide», in Spruyt and Poinsot, Equides, 127–29. (обратно)170
Marina Vialloni, «Un rare mors de cheval sassanide et son cavecon conserves au Metropolitan Museum of Art», in Spruyt and Poinsot, Equides, chapter 6. (обратно)171
Evans, «Cavalry About the Time of the Persian Wars», 103. (обратно)172
Carole Ferret and Ahmet Toqtabaev, «Le choix et l'entrainement du cheval de course chez les Kazakhs», Etudes mongoles et siberiennes, centrasiatiques et tibetaines 41 (2010): 4. (обратно)173
Azarnouche, «Miracles, oracles et augures», in Spruyt and Poinsot, Equides, 245. (обратно)174
Orlando, «Ancient Genomes», 6. (обратно)175
Carole Ferret, «Des chevaux pour l'empire», in Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres?, special issue of Cahiers d'Asie centrale 17–18 (2009): 220. В пазырыкских захоронениях Ферре отыскала как обычных, так и элитных лошадей. (обратно)176
Современные кыргызские клички лошадей в основном отражают их физические качества, но эти имена очень древние. Zh. A. Tokosheva, «Application of Horse Names in Modern Kyrgyz Language from the Works of Mahmud Kashgari, Divan-i-Lugat At-Turk», Наука, Новые Технологии и Инновации Кыргызстана, 7 (2020). (обратно)177
Latife Summerer, «Picturing Persian Victory: The Painted Battle Scene on the Munich Wood», Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 13 (2005): 3–30. Украшения из разграбленной гробницы теперь находятся в Мюнхене. (обратно)178
Herodotus, Histories, 1.202. В тексте упоминается река Аракс, которую можно спутать с рекой Аракс (современная Арагви) на Кавказе. Из содержания ясно, что река находится в Центральной Азии, но это может быть либо Окс (современная Амударья), либо Яксарт (Сырдарья). (обратно)179
Frantz Grenet, «Types of Town Planning in Ancient Iranian Cities, New Considerations», in The History and Culture of Iran and Central Asia from the Pre-Islamic to the Islamic Period, ed. D. G. Tor and Minoru Inaba (South Bend, IN: University of Notre Dame, 2022), 15. (обратно)180
Неосознанно, потому что иранцы заново открыли для себя историю Кира только в XIX в., когда молодой иранский студент, обучавшийся в Англии, перевел Геродота на персидский язык. (обратно)181
Ferdowsi, Shahnameh, 699. (обратно)182
Irfan Habib, «The Geographical Background» in The Cambridge Economic History of India, ed. T. Raychaudhuri and I. Habib (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 1–13. (обратно)183
Sharpe and Kenny, «Grazing Behavior», 126. (обратно)184
См.: Brohm, «The World Map of a Trace Element». (обратно)185
Wendy Doniger, Winged Stallions and Wicked Mares (Charlottesville: University of Virginia Press, 2021), 13. (обратно)186
«Pastoral Nomadism in the Archaeology of India and Pakistan», World Archaeology 4, no. 2 (Oct 1972): 14. (обратно)187
Thomas Trautman, Elephants and Kings: An Environmental History (Chicago: University of Chicago Press, 2015), 56. (обратно)188
Trautman, Elephants, 290. (обратно)189
Эту историю рассказывают о завоевании Чингисханом Бухары; см. главу 8. (обратно)190
Simon Digby. «Warhorse and Elephant in the Delhi Sultanate: A Study of Military Supplies», Oxford Monographs (1971): 51. (обратно)191
Trautman, Elephants, 86. (обратно)192
Yashaswini Chandra, The Tale of the Horse: A History of India on Horseback (Delhi: Picador, 2021), 71. Эти географические различия вышли на первый план в 1947 г., когда Индия и Пакистан получили независимость от Великобритании. Пакистан унаследовал большую часть земель, подходящих для разведения лошадей, а также лучшие пастбища. Богатые любители скачек в Бомбее и Калькутте беспокоились о будущем скачек в мире, где они больше не смогут посещать свои конные заводы в Синде или Пенджабе. Постепенно правительство Индии облегчило любителям скачек импорт лошадей и кормов. Глобализация, немыслимая в Индии 1950-х гг., означает, что сегодня шикарная конюшня в Мумбаи оснащена и обеспечена всем необходимым, что может потребоваться лучшему тренеру из Англии или Дубая. География больше не определяет судьбу, но в предыдущие тысячелетия было именно так. (обратно)193
Jos J. L. Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 1500–1700 (London: Routledge, 2002), 114. (обратно)194
Jayarava Attwood, «Possible Iranian Origins for the sakyas and Aspects of Buddhism», Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies 3 (2012): 58. Беквит утверждает, что и Будда был скифом. См. его книгу Scythian Empire, 242. Не обязательно соглашаться с этими аргументами, чтобы понять, как повлияли степные всадники на зарождение индийских империй. (обратно)195
Ranabir Chakravarti, «Equestrian Demand and Dealers: The Early Indian Scenario: Trade and Traders in Early Indian Society», in Fragner et al., Pferde in Asien, 150. (обратно)196
Kautilya, Arthashastra, trans. R. Shamasastry (Mysore: 1915), 191. (обратно)197
Kautilya, Arthashastra, 188. (обратно)198
Kautilya, Arthashastra, 191. Персидские цари поили своих лошадей вином. (обратно)199
Блюдо из риса и овощей. – Прим. пер. (обратно)200
Chandra, Tale of the Horse, 104. (обратно)201
Doniger, Winged Stallions, 46. (обратно)202
Vatsyayana, Kamasutra, trans. Richard Burton (London: Sacred Books of the East, 1883), chapter 7. (обратно)203
Plutarch, Life of Alexander, book III, chapter 62, section 2. (обратно)204
Ranabir Chakravarti, «Equestrian Demand and Dealers», 151. См. также: Romila Thapar, A History of India (Harmondsworth, UK: Penguin, 1966), 1:138. (обратно)205
Bimal Kanti Majumdar, «Military Pursuits and National Defence Under the Second Magadhan Empire», Proceedings of the Indian History Congress 12 (1949): 108. (обратно)206
Feng Menglong, Kingdoms in Peril: A Novel of the Ancient Chinese World at War, trans. Olivia Milburn (Oakland: University of California Press, 2021), 69. Хотя труд Фэна – это вымышленный рассказ XVII в. о падении династии Чжоу, он пользуется заслуженной славой благодаря реалистическому изображению Древнего Китая. (обратно)207
Beckwith, The Scythian Empire, 128. (обратно)208
Nicola Di Cosmo, Ancient China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 171. (обратно)209
В древнекитайском произношении это имя, вероятно, звучало скорее как Хона. Некоторые ученые видят в хунну предков монголов или тюрков. Беквит (The Scythian Empire, 180) идентифицирует их как скифов, хотя и с некоторой «креолизацией» (его термин). Недавний анализ ДНК из захоронений позволяет предположить, что они представляли собой смесь западных и восточных, или европейских и монгольских типов. См.: Christine Lee and Zhang Linhu, «Xiongnu Population History in Relation to China, Manchuria, and the Western Regions» in Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia, ed. Ursula Brosseder and Bryan K. Miller (Freiburg: Vor und Fruhgeschichte Archaologe Press, Universitat Bonn, 2011), 48. (обратно)210
Etienne de la Vaissiere, «Central Asia and the Silk Road» in The Oxford Handbook of Late Antiquity, ed. Scott Fitzgerald Johnson (Oxford: Oxford University Press, 2012), 147. Ла Виссьер категорически утверждает, что древние враги Китая были теми же гуннами, что позже отметятся в иранской и римской истории. (обратно)211
Christine Lee, «Who Were the Mongols (1100–1400 CE)? An Examination of Their Population History», Current Archaeological Research in Mongolia (Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat, 2009), 583. (обратно)212
Nicola Di Cosmo, «Aristocratic Elites in the Xiongnu Empire as Seen from Historical and Archaeological Evidence», in Nomad Aristocrats in a World of Empires, ed. Jurgen Paul (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013), 39. (обратно)213
Feng, Kingdoms in Peril, 76. (обратно)214
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. I, section 5, pp. 3–4. (обратно)215
Ladislav Kesner. «Likeness of No One: (Re)presenting the First Emperor's Army», Art Bulletin 77, no. 1 (Mar 1995): 115–32. (обратно)216
Pamela Kyle Crossley, «Flank Contact, Social Contexts, and Riding Patterns in Eurasia, 500–1500», in How Mongolia Matters: War, Law, and Society, ed. Morris Rossabi (Leiden: Brill, 2017), 14. Что касается псалий, см.: Annette L. Juliano, «The Warring States Period – the State of Qin, Yan, Chu, and Pazyryk: A Historical Footnote», Notes in the History of Art 10, no. 4 (1991): 28. (обратно)217
Xiang Wan, «The Horse in Pre-Imperial China», 62. См. также: Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 28, p. 30. (обратно)218
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. I, section 6, p. 63. (обратно)219
Об этих обычаях писал Сыма Цянь, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 28, p. 67. (обратно)220
Xiang Wan, «The Horse in Pre-Imperial China», 119. (обратно)221
Ruth I. Meserve, «Chinese Hippology and Hippiatry: Government Bureaucracy and Inner Asian Influence», Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 148, no. 2 (1998): 283. (обратно)222
H. G. Creel, «The Role of the Horse in Chinese History», American Historical Review 70, no. 3 (April 1965): 670. (обратно)223
Пер. Р. В. Вяткина. (обратно)224
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 30, p. 79. (обратно)225
Yu Xin, «Etude sur la physiognomonie du cheval sous les dynasties des Han et des Tang (IIIe siecle av. e. c. – Xe siecle) a partir de documents archeologiques», Cahiers d'Extreme-Asie 25 (2016): 270. (обратно)226
1000 ли – это примерно 300 миль [480 км]. (обратно)227
Jack Murphy and Sean Arkins, «Facial Hair Whorls (Trichoglyphs) and the Incidence of Motor Laterality in the Horse», Behavioural Processes 79, no. 1 (2008): 7–12; несколько статей в Journal of Equine Veterinary Science также подтверждают корреляцию между окрасом, завитками, поведением и латеральностью. (обратно)228
Morris Rossabi, From Yuan to Modern China and Mongolia (Leiden: Brill 2015), 61. Denis Sinor, «Horse and Pasture in Inner Asian History», Oriens Extremus 19, nos. 1–2 (December 1972): 172. (обратно)229
Ban Gu [Pan Ku], The History of the Former Han Dynasty [漢書, Han Shu], translated by Homer H. Dubs, et al. (Baltimore: Waverly, 1938), 290. Также размещено на сайте: https://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=2003_Q4/uvaGenText/tei/z000000037.xml;query=;brand=default. (обратно)230
Wolfgang Kubin, «Vom Ros zum Schindmare», in Fragner et al., Pferde in Asien, 196. (обратно)231
«Летящая лошадь из Ганьсу», известная как «У Вэй», 武威, была извлечена из раскопок в 1969 г. и сейчас находится в Музее провинции Ганьсу. Китайские ученые считают, что эта лошадь изготовлена непосредственно по заветам Ма Юаня. См.: Yu Xin, «Étude sur la physiognomonie du cheval», 292. (обратно)232
Guo-Xin Sun et al., «Distribution of Soil Selenium in China Is Potentially Controlled by Deposition and Volatilization?», Scientific Reports 6, no. 20953 (2016): 2. (обратно)233
Madeline K. Spring, «Fabulous Horses and Worthy Scholars in Ninth-Century China», T'oung Pao, 2nd ser., 74, nos. 4–5 (1988): 189. (обратно)234
Creel, «The Role of the Horse», 657. (обратно)235
Sid Gustavson, «Equine Behavior Through Time», Horseman's News (December 1, 2022) (обратно)236
Spring, «Fabulous Horses», 190. (обратно)237
Ban Gu, Food and Money in Ancient China: The Earliest Economic History of China to A.D. 25, trans. Nancy Lee Swann (Eastford, CT: Martino Publishing, 2013), 24B:26a/1–2. (обратно)238
Ban Gu, Han Shu, trans. Burton Watson (New York: Columbia University Press, 1974), 177–78. (обратно)239
Di Cosmo, Ancient China, 132–35. (обратно)240
Spring «Fabulous Horses», 29. Китайский текст гласит: 傷我馬詞: 風雨孤征,簡書之威。俾予弗顛,我馬焉依。屑屑其 勞也,非德而何?予至武陵,居沅水傍。或逾月未嘗跨焉,以故莫得伸其所長。蹐顧望兮, 頓其鎖繮。飲齕日削兮,精耗神傷。寒櫪騷騷兮,瘁毛蒼涼。路聞躞蹀兮,逸氣騰驤。朔雲 深分邊草遠,意欲往兮聲不揚。𬯎然自不得其所而死,故其嗟也兼常。初,元宗羈大宛而盡 有其名馬,命典牧以時起居。洎西幸蜀,往往民間得其種而蕃焉。故良毛色者率非中土類 也。稽是毛物,豈祖於宛歟。漢之歌曰:龍為友。武陵有水曰龍泉,遂歸骨於是川。且吊之 曰:生於磧礰善馳走,萬里南來困邱阜。青菰寒菽非適口,病聞北風猶舉首。金台已平骨空 朽,投之龍淵從爾友. (обратно)241
Укрепления на степной границе имелись уже в эпоху Сражающихся царств. Империя Цинь строила и соединяла участки стены между собой с еще большим размахом, подавая пример, которому затем следовали и другие китайские империи, в том числе Хань и Мин. Стена, которую мы знаем сегодня, построена в эпоху Мин. (обратно)242
Di Cosmo, Ancient China, 133. (обратно)243
Di Cosmo, Ancient China, 195. (обратно)244
David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, vol. 2, Inner Eurasia from the Mongol Empire to Today, 1260–2000 (Hoboken: Wiley Blackwell, 2017), 2:65. (обратно)245
Armin Selbitschka, «Early Chinese Diplomacy: Realpolitik Versus the So-Called Tributary System», Academia Sinica, 3rd ser., 28, no. 1 (2015): 99, quoting the Han Shu, 94A, 3886. 今悔過來, 而無親屬 貴人, 奉獻者 皆行賈賤人, 欲通貨市買, 獻為名. (обратно)246
Di Cosmo, Ancient China, 94. Yuri Pines, «Beasts or Humans: Pre-Imperial Origins of the Sino-Barbarian Dichotomy», in Mongols, Turks, and Others, Eurasian Nomads and the Sedentary World, ed. Reuven Amitai and Michael Biran (Brill: Leiden 2005), 80. (обратно)247
Thomas Barfield, «The Hsiung-nu Imperial Confederacy: Organization and Foreign Policy», Journal of Asian Studies 41, no. 1 (November 1981): 56. (обратно)248
William Honeychurch, «Alternative Complexities: The Archaeology of Pastoral Nomadic States», Journal of Archaeological Research 22, no. 4 (December 2014): 308. (обратно)249
Sinor, «Horse and Pasture», 177. (обратно)250
Sinor, «Horse and Pasture», 173. (обратно)251
Беквит (The Scythian Empire, 128) утверждает, что и сам Модэ был скифом и звали его Багатван. (обратно)252
Y Yu, «The Hsiung-nu», in The Cambridge History of Early Inner Asia, ed. Denis Sinor (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 120. (обратно)253
William Honeychurch, «Alternative Complexities: The Archaeology of Pastoral Nomadic States», Journal of Archaeological Research 22, no. 4 (December 2014): 287. Psarras, «Han and Xiongnu: A Re-examination». Утверждается, что шаньюй был ровней императору Китая. (обратно)254
Беквит (The Scythian Empire, 193) проводит сравнение с «Чингис» и предполагает, что это значит «всемирный» правитель. (обратно)255
Barfield, «The Hsiung-nu», 48. (обратно)256
Barfield, «The Hsiung-nu», 54. (обратно)257
Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, 2:12. (обратно)258
Helmut Nickel, «Steppe Nomad Warriors, Their Horses and Their Weapons», in Alexander, Furusiyya, 1:45. Лошади, масть которых соответствовала сторонам света, были найдены при раскопках в вечной мерзлоте в Монголии. См. также: Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 110, pp. 165–66. (обратно)259
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 30, p. 87. (обратно)260
Ban Gu, Han Shu (trans. Watson), 179. (обратно)261
Сегодня в этой пустыне можно увидеть одинокие крошечные китайские хозяйства, где тыквенные бахчи покрыты тонким слоем песчаной пыли. Со времен династии Хань люди упорно пытаются заставить пустыню цвести. И сейчас, спустя 2000 лет, все еще рано говорить о том, кто победил, а кто проиграл в этом противостоянии. (обратно)262
Предполагается, что вручали такие подарки только за выдающиеся достижения, поскольку вес одного катти составлял от одного до двух фунтов [0,45–0,9 кг]. (обратно)263
Psarras, «Han and Xiongnu: A Re-examination», 132. (обратно)264
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 110, pp. 170–72. (обратно)265
В нью-йоркском музее Метрополитен есть несколько прекрасных, выразительных экспонатов, которые попали в коллекцию в качестве дара Джона Пьерпонта Моргана. (обратно)266
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 240. (обратно)267
太一貺,天馬下,沾赤汗,沫流赭,志俶儻,精摧 奇,籋躡浮雲,晻上馳,體容與,迣萬里; 藝文類聚 [A categorized collection of literary writing]. Я благодарен Джейми Гринбауму за эту ссылку и за помощь с переводом этого и других китайских стихов в этой главе. (обратно)268
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 240. (обратно)269
Liu Xiang, Traditions of Exemplary Women, chapter 6, appendix 5. Размещено на сайте: http://www2.iath.virginia.edu/exist/cocoon/xwomen/texts/hanshu/d2.29/1/0/bilingual. (обратно)270
На эту тему существует обширная литература. Китаевед Виктор Мейр приводит две основные версии: либо мелкие кровеносные сосуды под кожей лопались, когда лошади переходили в галоп, либо паразитические черви, распространенные в степи, провоцировали появление кровоточащих узелков на шкуре лошади. В любом случае это выглядело бы так, будто лошадь потеет кровью. См.: Heather Pringle, "The Emperor and the Parasite," The Last Word on Nothing, March 3, 2011. (обратно)271
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 232. (обратно)272
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 242. (обратно)273
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 246. (обратно)274
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 247. (обратно)275
См.: Paul Pelliot, Carnets de Route, 1906–1908 (Paris: Guimet Museum, 2008), 416. (обратно)276
E. Bretschneider, Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources: Fragments Towards the Knowledge of the Geography and History of Central and Western Asia from the 13th to the 17th Century (Strassburg: Trubner, 1888), 63. (обратно)277
Некоторые авторы включают в этот список Хами, Кучар и другие города, в зависимости от эпохи и от того, как менялось значение городов. (обратно)278
Пер. М. А. Салье. (обратно)279
Muhammad Zahiruddin Babur, The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor, trans. Wheeler M. Thackston (New York: Modern Library, 2002), 85. (обратно)280
Zhu Yanshi and Liu Tao, «Looking for the City of the Horse: Mingtepa During the Time of Dayuan Kingdom», in The World of the Ancient Silk Road, ed. Xinru Liu (London: Routledge, 2023), 204. Когда двое этих ученых проводили раскопки городища Мингтепа, идентифицированного ими как крепость, которую осаждал генерал Ли, они отметили, что люцерна там и сегодня растет в изобилии. См. также: Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 245. (обратно)281
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 123, p. 250. (обратно)282
天馬徠,從西極,涉流沙,九夷服。天馬徠,出泉水,虎脊兩,化若鬼。天馬徠,歷無草,徑千里,循東道。天馬徠,執徐時,將搖舉,誰與期?天馬徠,開遠門,竦予身,逝昆侖。天馬徠,龍之媒,游閶闔,觀玉臺. Стихотворение цитирует Сыма Цянь: Shiji, vol. 1, part 4, section 56; авторский перевод с китайского размещен на сайте Chinese Text Project: https://ctext.org/shiji. (обратно)283
В заключительных строках поэмы содержится намек на веру императора в то, что небесные кони доставят его в обитель богов, где он обретет бессмертие. (обратно)284
Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 110, p. 168. (обратно)285
Отождествление китайских хунну с европейскими гуннами с XVIII в. вызывает негодование ученых. Свежий обзор этой темы можно найти в: Alexander Savelyev and Choongwon Jeong, «Early Nomads of the Eastern Steppe and Their Tentative Connections in the West», Evolutionary Human Sciences 2, E20 (2020): 1–17. (обратно)286
Liu Xinru, «Migration and Settlement of the Yuezhi-Kushan: Interaction and Interdependence of Nomadic and Sedentary Societies», Journal of World History 12, no. 2 (Fall 2001): 273. (обратно)287
Ban Gu, Han Shu (trans. Watson), book 94A, line 3757. См. также: Sima Qian, Records of the Grand Historian of China, vol. II, section 110, p. 168. (обратно)288
Henry Falk, «Five Yabgu of the Yuezhi», Bulletin of the Asia Institute, new ser., 28 (2014): 36. (обратно)289
Приводится в: Schafer, Golden Peaches, 137. (обратно)290
Jason Neelis, «Passages to India: Saka and Kushan Migrations in Historical Contexts», in On the Cusp of an Era: Art in the Pre-Kusana World, ed. Doris Meth Srinivasan (Leiden: Brill, 2007), 62. Karl Jettmar, "Exploration in Baltistan," South Asian Archaeology 9, no. 2 (1990): 808. (обратно)291
Muller «Horses», in Fragner et al., Pferde in Asien, 189. (обратно)292
Статуи были разрушены талибами в 2001 г. (обратно)293
Liu Xinru, «Migration and Settlement», 290; Trautman, Elephants, 126. Однажды Асвагхоша излагал принципы дхармы перед толпой в столице, когда царь намеренно предложил еду семи голодным лошадям, чтобы проверить их реакцию на учение Асвагхоши. Лошади страдали от голода, но к еде не притронулись. Они слушали проповедь Асвагхоши. (обратно)294
Liu Xinru, «Migration and Settlement», 290. (обратно)295
См. коллекцию кушанского искусства из парижского Музея восточных искусств; inventories AO, 2907l, D–1790; более известная статуя Канишки хранится в Государственном музее г. Матхура. О раскопках в Халчаяне см.: Galina A. Pugachenkova, Skul'ptura Khalchaiana [The sculpture of Khalchayan] (Moscow: Iskusstvo, 1971). (обратно)296
Ulf Jaeger, «Some Remarks on the Silk Road», in Fragner et al., Pferde in Asien, 78. См. также: Orlando, Conquete, 122. (обратно)297
Muller, «Horses» in Fragner et al., Pferde in Asien, 187. (обратно)298
Thomas Druml, «Functional Traits in Early Horse Breeders of Mongolia, India and China from the Perspective of Animal Breeding», in Fragner et al., Pferde in Asien, 11. (обратно)299
Деление лошадей на три группы: «представительских» (позже названных аргамаками), «спринтеров» и выносливых пони см.: Druml, «Functional Traits», in Fragner et al., Pferde in Asien, 10–11. (обратно)300
Orlando, «Ancient Genomes», 4–5. Naveed Khan, «The Genomic Origins of Modern Horses Revealed by Ancient DNA: From Early Domestication to Modern Breeding» (PhD thesis, Natural History Museum of Denmark, 2019), 59. (обратно)301
Arne Ludwig et al., «Coat Color Variation at the Beginning of Horse Domestication», Science 324, no. 24 (April 2009): 485. (обратно)302
Действительно, более высокая степень селекции, как правило, приводит к выведению однотонных мастей. (обратно)303
Монгольские лошади не являются высокоселекционными: в монгольской породе можно встретить почти все известные варианты окраса. Однако 56,7% поголовья лошадей в Монголии имеют темный окрас благодаря традиционным предпочтениям. A. Turk, «A Scientific and Historical Investigation». (обратно)304
Orlando, Conquete, 146. (обратно)305
Orlando, «Ancient Genomes», 3–4. (обратно)306
Особый ген скорости – MSTN, связанный с большим размером сердца, которое эффективно насыщает кровь кислородом, появится только через 1000 лет, поэтому будет ли жеребенок так же успешен на скачках, как его отец, в древности было делом случая и не гарантировалось родословной, как у современных скаковых лошадей. (обратно)307
Emel Esin, «The Horse in Turkic Art», Central Asiatic Journal 10, no. 3–4 (1965): 170. (обратно)308
Johnny Cheung, «On the Origin of the Name Afghan and Pashtun (Again)», in Studia Philologica Iranica Gherardo Gnoli Memorial Volume, ed. Enrico Morano et al. (Rome: Scienze e Lettere, 2017). Чун считает эту этимологию народной, хотя Майкл Барри (в личном разговоре) живо отстаивал противоположную точку зрения. (обратно)309
Dilnoza Duturaeva, Qarakhanid Roads to China: A History of Sino-Turkic Relations (Leiden: Brill, 2022), 67. (обратно)310
Khazanov, «Steppe Nomads in the Eurasian Trade», Chungara Revista de Antropología Chilena 51, no. 1 (2019): 88. (обратно)311
Joseph Kessel, Le jeu du roi: Reportage en Afghanistan (Paris: Arthaud, 2022), 150. (обратно)312
Эта ситуация упоминается в VI в., еще раз – в документах XVI в. и засвидетельствована англичанами в XIX в. Frantz Grenet, «The Nomadic Element in the Kushan Empire (1st–3rd century AD)», Journal of Central Eurasian Studies 3 (2012): 9. (обратно)313
Jos J. L. Gommans, The Rise of the Indo-Afghan Empire c. 1710–1780 (New Delhi: Manohar, 2019), 21. (обратно)314
Hilda Ecsedy, «Trade-and-War Relations Between the Turks and China in the Second Half of the 6th Century», Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 21, no. 2 (1968): 141. (обратно)315
Chakravarti, «Equestrian Demand and Dealers», 12–15. (обратно)316
Gommans, «Warhorse and Post-Nomadic Empire in Asia, c. 1000–1800», Journal of Global History (2007): 10. (обратно)317
Это описание основано на моих личных впечатлениях и подтверждается воспоминаниями Джона Дэвидсона: C.J.C. Davidson, Diary of Travels and Adventures in Upper India (London: Henry Colburn, 1843), I:94. (обратно)318
Bas van Leeuwen et al., «The Standard of Living in Ancient Societies: A Comparison Between the Han Empire, the Roman Empire and Babylonia», Centre for Global Economic History, Working Paper 45 (University of Utrecht 2013): 8–11. (обратно)319
Я убедился в этом на собственном опыте, когда мне понадобилось продать лошадей в Афганистане. Нас застал врасплох сильный снегопад, мы не могли найти корм для лошадей, они ослабели, и ездить на них было уже невозможно. Больше того – стоимость их только снижалась, и в конце концов нам пришлось продать их себе в убыток. Повинда, купившие лошадей, рассчитывали, что, если никто не будет на них ездить, зиму они переживут. А затем, откормив их на весенней траве, лошадей удастся продать с большой выгодой. (обратно)320
Сейчас лошадей на рынке продается мало, хотя рынок скота весьма оживлен. На смену повинда пришли гуру. В 2021 г., несмотря на COVID–19, фестиваль посетили 9 млн паломников. (обратно)321
Jos J. L. Gommans, The Indian Frontier: Horse and Warband in the Making of Empire (London: Routledge, 2017), chapter 3. (обратно)322
Syed Ejaz Hussain, «Silver Flow and Horse Supply to Sultanate Bengal with Special Reference to Trans-Himalayan Trade (13th–16th Centuries)», Journal of the Economic and Social History of the Orient 56, no. 2 (2013): 265. (обратно)323
И по сей день на севере Афганистана мужчины любят накидывать на плечи эти строгие шелковые халаты, переливающиеся серебряным, зеленым, красным и другими яркими цветами. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай всегда носил такой халат вместе со своей любимой шапкой из овечьей шерсти. (обратно)324
Saglar Bougdaeva, trans., Jangar: The Epic of the Kalmyk Nomads (Oakland: University of California Press, 2022), 12. (обратно)325
Khodadad Rezakhani, «The Road That Never Was: The Silk Road and Trans-Eurasian Exchange», Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 30, no. 3 (2010): 429. (обратно)326
Tim Williams, «Mapping the Silk Roads», in The Silk Road: Interwoven History (Paris: UNESCO, 2015), 7. (обратно)327
Etienne de la Vaissiere, «Trans-Asian Trade, or the Silk Road Deconstructed (Antiquity, Middle Ages)», in The Cambridge History of Capitalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), I:114–15; also Di Cosimo, Ancient China, 183. (обратно)328
Ulf Jaeger, «Some Remarks», in Fragner et al., Pferde in Asien, 82. (обратно)329
Ремонтная лошадь – лошадь, поступившая на пополнение в воинскую часть. – Прим. пер. (обратно)330
David Christian, «Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History», Journal of World History 11, no. 1 (Spring 2000): 7. (обратно)331
Duturaeva, Qarakhanid Roads, 196; La Vaissiere, «Trans-Asian Trade», 113. (обратно)332
Christopher I. Beckwith, «The Impact of the Horse and Silk Trade on the Economies of T'ang China and the Uighur Empire», Journal of the Economic and Social History of the Orient 34, no. 2 (1991): 194. (обратно)333
Suchandra Ghosh, «The Route of Horse Trade Early in India (up to c. 500 AD)», Proceedings of the Indian History Congress, vol. 61, part 1 (2000–2001), 128. (обратно)334
Khazanov, «Steppe Nomads in the Eurasian Trade», 96. (обратно)335
Khazanov, «Steppe Nomads in the Eurasian Trade», 88; Ursula Brosseder, «A Study on the Complexity and Dynamics of Interaction and Exchange in Late Iron Age Eurasia», in Bemmann and Schmauder, Complexity of Interaction Along the Eurasian Steppe Zone, 208. (обратно)336
Этим объясняются эксперименты с бумажной валютой, которые так поразили Марко Поло. (обратно)337
Helen Wang, «Textiles as Money on the Silk Road?» Journal of the Royal Asiatic Society 23, no. 2 (2013): 167. (обратно)338
Tan Mei Ah, «Exonerating the Horse Trade for the Shortage of Silk: Yuan Zhen's "Yin Mountain Route"», Journal of Chinese Studies 57, no. 47 (2013): 64. (обратно)339
Tan, «Exonerating the Horse Trade», 64. (обратно)340
Berit Hildebrandt, «Roman Silk Trade and Markets», in Liu Xinru, The World of the Ancient Silk Road, 499. (обратно)341
Liu Xinru, «Regional Study», in A World with States, Empires and Networks, 1200 BCE–900 CE, ed. Craig Benjamin (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 4:466. (обратно)342
Hildebrandt, «Roman Silk», in Liu, The World of the Ancient Silk Road, 499. (обратно)343
Tan, «Exonerating the Horse Trade», 54. (обратно)344
Chen Zhonghai (陈忠海), «The Southern Song's Tea and Horse Agency», trans. Peter Micic, Tea Horse Road Project, https://teahorseroadproject.wordpress.com/tag/tea-and-horse-agency/. (обратно)345
Сегодняшние любители чая могут увидеть такие же круглые черные штампованные пласты пуэра в форме фрисби в традиционных китайских чайных магазинах. (обратно)346
Jeff Fuchs, «The Tea Horse Road», Silk Road 6, no. 1 (Summer 2008): 63. Тибетцы сильно отличались от своих степных соседей. Они не пили конского молока и не ели конины. Скорее, как и бедуины, они разводили лошадей не только для передвижения, но и для престижа и набегов. См.: Suttie, Reynolds, and Batello, Grasslands, 956. Зажиточная семья скотоводов содержала 4 лошади на 380 жвачных животных и 18 яков. (обратно)347
Paul W. Kroll, «The Dancing Horses of T'ang», T'oung Pao, 2nd ser., 67, nos. 3–5 (1981): 243. (обратно)348
Если говорить о современных конных традициях, то ближе всего к лошадиному балету Сюань-цзуна Испанская школа верховой езды в Вене, чьи жеребцы липицианской породы исполняют караколь под музыку Шуберта. (обратно)349
Thomas O. Hollmann, «On the Road Again: Diplomacy and Trade from a Chinese Perspective», in Bemmann and Schmauder, Complexity of Interaction Along the Eurasian Steppe Zone, 562. (обратно)350
Jonathan Karam Skaff, «Straddling Steppe and Sown: Tang China's Relations with the Nomads of Inner Asia (640–756)» (PhD thesis, University of Michigan, 1998), 36; Hollmann, «On the Road Again», 561. (обратно)351
См.: Curry, «Horse Nations», 1288–93. (обратно)352
Позже этот народ, изгнанный со своей родины, расселился по территориям Ирана, Украины, Румынии, Венгрии, а также Турции. Теперь его знают под множеством других названий: туркмены, кыргызы, казахи, огузы, уйгуры, кипчаки, гагаузы, узбеки, турки. (обратно)353
Zizhi Tongjian, ch. 195, 192, quoted in Jack W. Chen, The Poetics of Sovereignty: On Emperor Taizong of the Tang Dynasty (Leiden: Brill, 2020), 35. (обратно)354
Li Jinxiu, «The Square Matrix, Elite Cavalry and the Modao: On the Military Tactics for Combat with the Turks Adopted by the Sui and Tang Empires», Eurasian Studies 2 (2014): 69. (обратно)355
Jonathan Karam Skaff, Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections, 580–800 (New York: Oxford University Press, 2012), 259. (обратно)356
Peter B. Golden, «The Turk Imperial Tradition in the Pre-Chinggisid Era», in Imperial Statecraft, ed. David Sneath (Bellingham: Western Washington University Press, 2006), 31. (обратно)357
Schafer, Golden Peaches, 148, and Skaff, «Straddling Steppe and Sown» 183–84. (обратно)358
Jonathan Karam Skaff, «Tang China's Horse Power: The Borderland Breeding Ranch System», in Eurasian Empires in Antiquity and the Early Middle Ages: Contact and Exchange Between the Graeco-Roman World, Inner Asia and China, ed. H. Kim, F. Vervaet, and S. Adali (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 38. (обратно)359
Kroll, «The Dancing Horses of T'ang», 182. (обратно)360
Xiuqin Zhou, «Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong», Sino-Platonic Papers 187 (April 2009): 174. (обратно)361
Schafer, Golden Peaches, 155. (обратно)362
Мавзолей был заброшен и разграблен, а в 1912 г. барельефы оттуда вывезли. Четыре из них попали в местный музей, а два – в музей Пенсильванского университета, где они приводят в восторг всех посетителей, за исключением китайцев, которые отчаянно желают вернуть барельефы на родину. (обратно)363
Zhou, «Zhaoling», 137. (обратно)364
Похоже, что добиться почестей при иностранном дворе было проще, чем на родине. Советник римского императора предупреждал: «Не удостаивайте больших почестей иностранцев, не имеющих царского происхождения, и не назначайте их на высокие должности, ибо этим вы непременно навредите себе, а также римлянам, вашим чиновникам»; см.: Charlotte Mary Roueche, «Defining the Foreign in Kekaumenos», Strangers to Themselves: The Byzantine Outsider (Farnham: Ashgate Variorum, 2000), 209. (обратно)365
Irina Dmitrievna Tkacenko, «Riding Horse Tack Among the Cattle-Breeders of Central Asia and Southern Siberia in the First and Second Millennia CE», Etudes mongoles et siberiennes, centrasiatiques et tibetaines 41 (2010): 210. (обратно)366
Даже сегодня вы можете пойти на базар в Кашгаре и купить деревянную раму седла, похожую на седло эпохи Тан, и попросить шорника обшить его кожей и украсить латунью в соответствии с вашими вкусами и толщиной кошелька. Более взыскательный всадник может попросить шорника подогнать раму под спину его лошади. (обратно)367
Digard, Une histoire du cheval, 74. (обратно)368
Thomas Salman, «Combattre a cheval pendant les guerres byzantino-perses», in Spruyt and Poinsot, Equides, 164. (обратно)369
Bartosiewicz «Ex Oriente Equus», 3. (обратно)370
Daniel T. Potts, «The Antiquity and Nature of Horseshoeing in Iran» (unpublished manuscript), 5. (обратно)371
В те времена царские дома часто обменивались заложниками; это было частью дипломатического процесса. Если заложникам везло, они пользовались гостеприимством, соответствующим их положению. (обратно)372
Yves Porter, «Rakhsh et Shabdiz, chevaux heroiques de la literature persane», in Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d'Orient et d'Occident, ed. Jean-Pierre Digard (Paris: Gallimard, 2002), 205. (обратно)373
Johannes Preiser-Kapeller, «Heroes, Traitors and Horses: Mobile Elite Warriors in Byzantium and Beyond, 500–1100 CE» (лекция, прочитанная в Колумбийском университете 25 ноября 2013 г.). См. также: Skaff, Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors, 75, 104; Vitomir Mitevski, «The Akritic Hero in Byzantine and Macedonian Epic Poetry», Colloquia Humanistica 7 (2018). (обратно)374
Thomas Allsen, The Royal Hunt in Eurasian History (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), 223–26; Matthew P. Canepa, The Two Eyes of the Earth (Oakland: University of California Press, 2017), 174–82; V. L. Bower and C. MacKenzie, "Polo: The Emperor of Games," Asian Games: The Art of Contest (New York: Asia Society, 2004), 223–303; V. L. Bower, «Polo in Tang China: Sport and Art», Asian Art 4, no. 3 (1991): 23–45; James T. C. Liu, «Polo and Cultural Change: From T'ang to Sung China», Harvard Journal of Asiatic Studies 45, no. 1 (1985): 203–24. (обратно)375
Позже Кардаг обратился в христианство и принял мученическую смерть от рук того же шаха; за это его и канонизировали. (обратно)376
Joel Thomas Walker, The Legend of Mar Qardagh: Narrative and Christian Heroism in Late Antique Iraq (Berkeley: University of California Press, 2006), 128. (обратно)377
Ferdowsi, Shahnameh, 248. (обратно)378
Matthew P. Canepa, «Distant Displays of Power: Understanding the Cross-Cultural Interactions Among the Elites of Rome, Sasanian Iran and Sui-Tang China», Ars Orientalis 38 (2010): 137. (обратно)379
После революции 1979 г. площадь переименовали. Теперь это площадь Накш-э Джахан, или площадь Имама. (обратно)380
Hollmann, «On the Road Again», 561. (обратно)381
Hu Songmei, Yaowu Hu, Junkai Yang, Miaomiao Yang, Pianpian Wei, Yemao Hou, and Fiona B. Marshall, «From Pack Animals to Polo: Donkeys from the Ninth-Century Tang Tomb of an Elite Lady in Xi'an, China», Antiquity 94, no. 374 (2020): 455–72. См. также: Yin Hung Young, The Horses of China (Paramus, NJ: Homa & Sekey, 2021), 87. Янг рассказывает о том, как единственная женщина-суверен Китая, императрица У Цзэтянь, содержала собственную женскую команду, одетую в красный атлас и золотые ливреи. (обратно)382
Запутанная ситуация: в Китае было как минимум три императора с именем Тай-цзун, по одному в эпохи Тан, Сун и Ляо. (обратно)383
Liu, «Polo and Cultural Change», 203–24. (обратно)384
Crossley, «Flank Contact», in Rossabi, How Mongolia Matters, 139. (обратно)385
John Masson Smith Jr., «From Pasture to Manger: The Evolution of Mongol Cavalry Logistics in Yuan China and Its Consequences», in Fragner et al., Pferde in Asien, 68. (обратно)386
al-Mutanabbi, Poems of al-Mutanabbi, trans. and ed. A. J. Arberry (Cambridge: Cambridge University Press, 967), 73 (poem 12, line 22). (обратно)387
См. исчерпывающее описание бедуинского стиля верховой езды в: Comte Waclaw Seweryn Rzewuski, Impressions d'Orient et d'Arabie (Paris: Jose Corti, 2002), 455–80. (обратно)388
См.: Digard, Une histoire du cheval, 101, а также Digard, «Les cultures equestre a l'origine de l'equitation arabe», in Chevaux et cavaliers arabes, 25. (обратно)389
Esin, «The Horse in Turkic Art», 180. (обратно)390
В записях халифа Хишама рассказывается, как он организовывал конные скачки, в которых одновременно участвовали по 4000 всадников. Alastair Northedge, «Horse Racing at Samarra», in Alexander, Furusiyya, 1:106. (обратно)391
«У каждого конька свой конек». – Прим. пер. (обратно)392
Abu Abdallah Ibn Akhi Hizam al-Khuttalil, Chevaux et Hippiatrie, trans. Abdelkrim El Kasri et Jamal Hossaini-Hilali (Rabat: Association du Salon du Cheval d'El Jadida, 2018). (обратно)393
Слова siyasat (политика) и riyasat (государственное управление) происходят от слов, обозначающих лошадей. В английском языке глагол to govern (управлять) происходит от греческого κυβερναω (рулить, прокладывать курс). Для европейцев метафорой государственного управления стали парусные корабли, а не лошади. (обратно)394
Emel Esin, «At Mitleri», https://www.zdergisi.istanbul/makale/at-mitleri-304. (обратно)395
At kulağın dikmiş de göz süzer Gövel ördek gibi göllerde yüzer Çırpındırır yele, ceyrândir tozar Atin eşkini seldir, yegite gerek (www.zdergisi.istanbul/makale/a-mitleri-304). (обратно)396
Walther Heissig, «A Note on the Custom of Seterleku», Harvard Ukrainian Studies 3–4, part 1 (1979–80): 394–98. (обратно)397
Azarnouche, «Miracles, oracles et augures», in Spruyt and Poinsot, Equides, 241. (обратно)398
Tsangnyon Heruka, The Life of Milarepa, trans. Andrew Quintman (London: Penguin, 2010), 151–52. (обратно)399
Azarnouche, «Miracles, oracles et augures», in Spruyt and Poinsot, Equides, 240. (обратно)400
Esin, «The Horse in Turkish Art», 172. (обратно)401
Fijn, «In the Land of the Horse», 151. (обратно)402
Koydu ayağını rikâbina şâh, Tâ ola suvâr ablaka nâgâh. Gaş olunup sahîl-i ablak-i şâh, Cehsuvâr oluşuğunu bilirdi sipâh. (Mustafa Dariri Erzeni, «Yuz hadisler tercumesi», Ali Emiri Library, manuscript from Cer'iyye no. 1154, fol. 133.) (обратно)403
Процит. в: Esin, «The Horse in Turkish Art», 172. (обратно)404
M. N. Mouraviev, Voyage en Turcomanie et a Khiva, Fait en 1819 et 1820 (Paris: Louis Tenre, 1823), 246. (обратно)405
Esin, «The Horse in Turkish Art», 169. (обратно)406
Ibn Battuta, The Travels, trans. Samuel Lee (London: Oriental Translation Committee, 1828), 238. (обратно)407
См.: Robert Hillenbrand, The Great Mongol Shahname (London: Hali, 2023), 205. (обратно)408
Позже такие знамена стали знаком воинского чина. В Османской империи перед султаном несли шесть или семь знамен с конскими хвостами. У паши, или генерала, мог быть один, два или три флага с хвостами, в зависимости от его влиятельности. (обратно)409
Ferret and Toqtabaev, «Le choix et l'entrainement du cheval de course chez les Kazakhs», 4–6. (обратно)410
Бердалы Оспан. Почему казахи так хорошо знают коней? https://365info.kz/2020/02/pochemu-kazahi-tak-horosho-znayut-. В известном цикле иранских баллад о разбойниках «Куроглу» отец героя, сынчи, выбирает жеребенка для царя. Жеребенок оказывается настолько уродливым, что царь казнит неудачливого эксперта. Убитый горем сын убегает с жеребенком, который превращается в грозного боевого коня. Позже они расправляются с царем и его приближенными. См.: Alexander Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, The Bandit-Minstrel of Northern Persia; and in the Songs of the People Inhabiting the Shores of the Caspian Sea. Orally Collected and Translated, with Philological and Historical Notes (London: W. H. Allen, 1842). (обратно)411
Robert E. Harrist Jr. «The Legacy of Bole: Physiognomy and Horses in Chinese Painting», Artibus Asiae 57, no. 1–2 (1997): 151. (обратно)412
Kubin «Vom Ros zum Schindmare», in Fragner et al., Pferde in Asien, 199. (обратно)413
Сейчас находится в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. (обратно)414
Императорские слуги были удручены тем, что щедрость императора пролилась на художника. Ду Фу, очевидно, считал, что полководец Цао рисует лучше, чем Хань Гань. (обратно)415
Du Fu, «A Painting Song for General Cao Ba», 300 Tang Poems: A New Translation, ed. Yuan-zhong Xu et al. (Hong Kong: Commercial Press, 1987), poem no. 61. Китайский текст, 丹青引, 贈曹將軍霸, см: http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=61. (обратно)416
Похоже, именно так было дело в случае анонимного художника, известного под именем Сиях Калам (Черная Кисть), в чьем этюднике, выполненном в китайском стиле, есть рисунки лошадей; сейчас этот альбом хранится в библиотеке музея дворца Топкапы в Стамбуле. (обратно)417
E. Denison Ross, «The Orkhon Inscriptions: Being a Translation of Professor Vilhelm Thomsen's Final Danish Rendering», Bulletin of the School of Oriental and African Studies 5, no. 4 (1930): 862. (обратно)418
С этого начинается классическая китайская опера «Дворец вечной жизни», написанная Хун Шеном. (обратно)419
Schafer, Golden Peaches, 145. (обратно)420
Schafer, Golden Peaches, 152. (обратно)421
Пер. В. В. Бартольда. (обратно)422
Geoffrey Lewis, trans., The Book of Dede Korkut (London: Penguin, 2011), 43. (обратно)423
Allsen, The Royal Hunt, 21. (обратно)424
Suttie, Reynolds, and Batello, Grasslands, 852. (обратно)425
Marco Polo, Devisement, section CXXI, p. 130. (обратно)426
Lewis, The Book of Dede Korkut, 152. (обратно)427
Asadi Tusi, Garshaspname, sections 26–29. (обратно)428
В современных Казахстане и Кыргызстане этот вид охоты практикуется до сих пор. (обратно)429
Пер. А. В. Старостина. (обратно)430
Sa'di Shirazi, Gulistan, trans. Wheeler M. Thackston (Bethesda, MD: Ibex, 2008), 96. Текст гласит: (обратно)
(обратно)431
Faruk Sumer, Ahmet Uysal, and Warren Walker, trans., The Book of Dede Korkut (Austin: University of Texas Press, 1991), 136. (обратно)432
The Royal Hunt, 131. См. также: Lewis, The Book of Dede Korkut, 35. (обратно)433
Allsen, The Royal Hunt, 219. (обратно)434
Wang Bo and Zhang Renjiang, «Brief Analysis on Hunting Procedures and Culture of Liao Dynasty Through Zhuoxie Figures», International Journal of Literature and Arts 9, no. 4 (2021): 168–72. (обратно)435
Allsen, The Royal Hunt, 192–93. (обратно)436
Patricia Ebrey, «Remonstrating Against Royal Extravagance in Imperial China», in The Dynastic Centre and the Provinces: Agents and Interactions, ed. Jeroen Duindam and Sabine Dabringhaus (Leiden: Brill, 2014), 132. (обратно)437
Cai Meibiao, «Khitan Tribal Organization and the Birth of the Khitan State», in Chinese Scholars on Inner Asia, ed. Luo Xin and Roger Covey (Bloomington: University of Indiana Press, 2012), 256–59, and Shiba Yoshinobu, «Sung Foreign Trade: Its Scope and Organization», in China Among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th–14th Centuries, ed. Morris Rossabi (Berkeley: University of California Press, 1983), 267. (обратно)438
Denis C. Twitchett and Klaus-Peter Tietze, «The Liao», in The Cambridge History of China, vol. 6, Alien Regimes and Border States, 907–1368, ed. Herbert Franke and Denis Twitchett (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 6:53. (обратно)439
«In 920 AD, What Was the "Dragon" Shot by Yelu Abaoji, the Founder of the Liao Dynasty?», iNEWS, October 17, 2023, https://inf.news/en/history/27471d968e41ebc9dbdfe8bc5f7ee395.html. (обратно)440
Alfred Schinz, The Magic Square: Cities in Ancient China (Stuttgart: Edition Axel Menges, 1996), 272. (обратно)441
Thomas William Atkinson, Travels, loc. 5065. (обратно)442
См.: Kohchahar E. Chuluu, «The Encircling Hunt of Mongolia» (conference paper, New Directions in Central and Inner Asian History, Harvard University, 2015). (обратно)443
Allsen, The Royal Hunt, 216. (обратно)444
Maurice, Strategikon, trans. George T. Dennis (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984), 95. (обратно)445
Dan Muresan, «Un empire a cheval», in Histoire monde, jeux d'echelles et espaces connecte (Paris: Sorbonne, 2016), 62. (обратно)446
Liao Shih [The annals of the Liao dynasty], line 565, quoted by Timothy May, «The Training of an Inner Asian Nomad Army in the Pre-Modern Period», The Journal of Military History 70, no. 3 (July 2006): 662; см. также: Karl A. Wittfogel and Feng Chia-Sheng, «History of Chinese Society: The Liao (907–1125)», Transactions of the American Philosophical Society 36 (1946): 56. (обратно)447
https://ganjoor.net/farrokhi/divanf/ghasidefk/sh36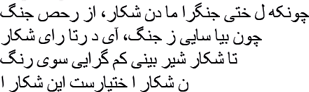 (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
3 часов 50 минут назад
1 день 23 часов назад
4 дней 21 часов назад
5 дней 2 часов назад
5 дней 7 часов назад
5 дней 14 часов назад