Прими путника, дорога!
Глава I
Невыразимое горе стояло над миром… Впрочем, имеется в виду не вся Вселенная, а только чеченский аул Ца-Бато́й, раскинувшийся на берегу горной речки Гурс. И даже не весь аул, а его центральный каменистый пятачок, к которому сбегались горбатые улочки. Но этот-то пятачок и был всей Вселенной для человека, охваченного вышеупомянутым горем. Следовало ожидать, что сейчас из уст страдающего человека исторгнутся скорбные и гневные слова о людской несправедливости, о жестокости судьбы. И полетят эти печальные слова над каменистым пятачком и горбатыми улочками, заглушат ворчанье реки Гурс, достигнут лесистых гор, отзовутся многократным эхом: «Ва, нах![1] Уо, голубое небо! Уо, бездушно сияющее солнце! Услышьте крик моего сердца! Почему одни упиваются всеми радостями жизни, а мне даровано только горе?! Почему одним — все, а мне — ничего?!» Однако из уст страдальца не вылетали эти слова. Может быть, потому, что истинная скорбь не умеет говорить. А скорее всего потому, что страдалец еще не умел говорить. Ибо ему не было и трех лет. И он пока что был лишен даже такой обыкновенной мужской принадлежности, как штаны. Не умея говорить, он выражал горе наилучшим способом, который ему был доступен: ревел, размазывая слезы кулачком по толстым щекам. Этот горестный басовитый рев не адресовался ни к кому конкретно. Просто ко всему человечеству. Но ведь горе любому из нас приносит не человечество вообще, а конкретные личности. Вот они. Упивающиеся радостями жизни. И бесстыдно равнодушные к чужой печали. Целая стая эгоистов с зачерствевшими сердцами. Верховодила этими бессердечными девчонка лет девяти. Приметна она была лишь тем, что голова у нее острижена наголо. В горских аулах стригут девчонок для того, чтобы потом коса выросла густой, длинной — есть здесь такое поверье. У этой девчонки голова была острижена не машинкой, а ножницами. Может быть, даже теми самыми ножницами, которыми стригут овец. Поэтому голова была очень похожа на островерхую гору Ялат-Лом — Зерновая гора, — которая и по сей день опоясана древними земледельческими террасами — уступами с жесткими щеточками порыжевшего бурьяна. Ватага себялюбцев играла в «кул». Коротенькая палочка-кулик укладывается на землю. Тонкой битой надо попасть по заостренному концу кулика так, чтобы он взлетел в воздух. И сразу же ухитриться попасть в воздухе битой по кулику. Это не удавалось никому. Промахивалась и стриженая, но очереди старалась не уступить. Она выхватывала у мальчишек кулик, присаживалась на корточки так, что ее острые коленки торчали выше больших, прозрачных на солнце ушей и даже выше полосатой рыжеволосой макушки. И укладывала кулик так, чтобы он мог от удара битой взлететь как можно выше. В этот миг великой сосредоточенности никто не решался помешать девчонке, потому что она действовала с такой самоуверенностью, будто вокруг нет никого. В этот-то самый миг и подкрадывался бесштанный. Оказывается, он неустанно следил сквозь слезы за всем происходящим. Как только девчонка присаживалась на корточки, он тотчас прекращал рев. И, переваливаясь из стороны в сторону, ковылял босыми ногами по острым камешкам к играющим. Он брал биту двумя руками и просовывал ее между ногами мальчишек, чтобы ударить по кулику. Но раздавались гневные протестующие крики. Одна лишь стриженая давала отпор молча. Она оборачивалась к бесштанному, вырывала у него из рук биту, а потом зло пихала его в грудь. Упав голым задиком на щебень улицы, наглец захлебывался в реве, потом вставал и отходил в сторону. Продолжая вопить, он зорко следил за событиями и караулил свой миг. Может быть, за его упорством таилась проснувшаяся страсть к первой настоящей игре. А может быть, в этом неукротимом сердце шевелился пережиток проклятой старины, когда истинный горец не мог терпеть, чтобы женщина лезла в мужские дела: ведь «кул» — игра чисто мальчишеская! Мир был, как уже сказано, безразличен к горю страдальца. Да он и пустынен сегодня, этот мир. В такой погожий весенний день редко кто из цабатоевцев не в поле. А если и пройдет кто через центральный, пышущий жаром пятачок, то обращает внимание на ребятишек не больше, чем на копошащихся в тени плетня кур. Один спешащий прохожий поморщился и пробормотал, рассеянно глянув на орущего: — Осто́парлах[2], до чего же у этого рыжего громкая зурна!.. Старушка в длинном черном платье, быстрая, как мышь, на ходу крикнула кудахтающим голосом: — Ва, дети! Среди вас старших нету, что ли, чтобы этого горластого успокоить? Но она тут же забыла о маленьком крикуне, потому что заметила два ведра с водой и сиротливо валявшееся рядом с ними коромысло. Пошарив глазами по стайке ребятишек, старушка крикнула стриженой: — Эй, обкорнанная голова! Тебя же, наверное, к роднику посылали, а не за кипятком! Выставила воду на солнцепек! Стриженая зло боднула острой макушкой воздух и не оглянулась, потому что опять возилась с куликом. В это время из тесного переулка к самому центру аульного пятачка съехала машина — «газик», съехала с выключенным мотором, чуть шурша шинами по щебню, и остановилась, будто размышляя: а теперь куда? Это была машина председателя колхоза Артага́на Теми́рова. Он сидел ссутулясь рядом с шофером. Из-под его потертой папахи свисали концы запотевшего носового платка. Председатель склонился через борт машины и стал слушать, как ревет тот, у которого горе. Сидевший на заднем сиденье толстый мужчина тоже выглянул, поморщился от голосистого рева. Потом надул щеки, выпустил воздух так, что шевельнулась щеточка усов, и строго спросил у Артагана: — Ну, теперь куда? На ферму или сразу в третью бригаду? Это был человек из района, Строгий Хаки́м — Строгий Начальник. Он начал говорить председателю, что в третьей бригаде безобразие и придется правлению действовать построже, принять крутые меры против тех, кто не желает участвовать в посадке табака. Это же новая и очень выгодная в горах культура! Шофер при звуках его голоса свесил длинный нос к груди и задремал. Председатель же сказал, словно размышляя вслух: — Неужели среди них нет ни одного доброго человека? — Это ты уж чересчур строго… — ответил Строгий Хаким. — Вся отара не может быть плохой: и в третьей бригаде найдутся энтузиасты. — Да я вон о тех… — кивнул Артаган подбородком в сторону ребятишек. — Малыша обижают. Играть с ним не хотят. Страдалец сообразил, что его заметили, и заревел сильнее. Но вдруг замолчал, будто выключенный, потому что вспомнил со вздохом о чувстве собственного достоинства. Он презрительно отвернулся от играющих и поковылял к ведрам с водой. Косясь на машину, он занялся водой, будто только это его и интересовало. Он зачерпнул руками воду и начал поливать себе живот, свою цветную рубашонку, едва скрывавшую пупок. Ладони у него никак не складывались лодочкой, и поэтому вода почти вся сразу проливалась между ними. Но это был, как мы уже убедились, настойчивый и целеустремленный человек. Он старался намочить себе и коленки, снова и снова запуская руки в ведро. Пыльные коленки зарозовели на солнце. Стриженая быстро обернулась, только сейчас сообразив, что рев почему-то прекратился. В поле ее зрения прежде, чем оскверняемые ведра с водой, попала машина, и девчонка успела в полуповороте крикнуть председателю дерзко, но без всякой надежды: «Покатай[3], а?» — а потом кинулась коршуном на бесштанного осквернителя. Схватив его за руку, она начала беспощадно бить его по голому задику худой смуглой ладошкой. Била она молча, быстро, умело, потому что постигла эту науку на себе, через руку своей матери. Шофер вздрогнул от вопля мальчишки, вскинул длинный нос и почему-то схватился спросонок за рычаг тормоза. Артаган рывком открыл дверцу, легко выскочил из машины и побежал к детям. — Ай, ше́йта-ког![4] — крикнул он на ходу девчонке. — Оставь ты этого мальчишку в покое… Девчонка искоса оглянулась на бегущего к ней председателя, прикинула глазом, что расстояние между нею и им еще позволяет продолжить трепку. Она сделала еще одну серию быстрых шлепков и затем неторопливо потерла ладонь об ладонь, словно стряхивая пыль с рук, ловко подцепила ведра коромыслом, подставила под него острое плечо и пошла в переулок, в гору, вихляясь всем телом от тяжести ведер. Остановившись возле малыша, Артаган со вздохом посмотрел вслед девчонке. — Сама-то ростом с ведро… — пробормотал он. Дойдя до ровного местечка, девочка опустила на землю ведра, обернулась назад и вызывающе сообщила председателю, чтобы полностью утвердить свою правоту: — Это мой брат, а не твой. Артаган от этих слов закатился в тихом смехе, откинув голову назад. Малыш перестал плакать и поднял на него удивленные мокрые глаза. Артаган протянул к нему руку и стал перебирать растопыренными пальцами по его голове, словно подкатывая к себе тыкву. — Ну, не упирайся, иди ко мне… — проговорил он ласково. — Да́да[5] тебя покатает на машине. Ту-ту! — и поедем по горам. Он подхватил мальчишку на руки и пошел с ним к машине. Игравшие в «кул» смотрели им вслед, и на их лицах была зависть к счастливцу. Стриженая же склонила голову к плечу и презрительно сощурила один глаз, что могло означать: «Подумаешь, машина…» Председатель уселся в машине на свое место, устроил малыша поудобнее у себя на коленях. Распахнув полы старенького пиджака, он прикрыл ими мокрые ножки и животик ребенка и сказал шоферу: — Не покатаешь ли немножко этого хорошего человека, а? Шофер сплюнул за борт, снисходительно рассмеялся и дал газ. Строгий Хаким насупился, надул щеки и выпустил воздух так, что опять шевельнулась щеточка усов. Тряхнув кистью левой руки, чтобы обнажить под рукавом чесучового кителя часы, он долго и пристально смотрел на циферблат. И сказал голосом, каким говорят «жизнь кончилась»: — Уже двенадцать… — Чей же этот рыжий? — спросил Артаган у шофера, касаясь губами шелковистых волос малыша. — Это же Ризва́н! — ответил шофер так, будто удивлялся, что нашелся человек, не знающий такой знаменитой личности. — Сын Эми́. У кого же еще может быть такой рыжий? — А-а, сын Эми… — усмехнулся Артаган и добавил с непонятной для Строгого Хакима многозначительностью: — Такого надо беречь!.. Осторожнее с горы… Машина катилась по крутому спуску к реке Гурс, ослепительно сверкавшей внизу. Когда въехали в воду, взметнулись в воздух и сверкнули радугой брызги. Ризван рассмеялся. Он вытащил из-под полы пиджака руку и попытался растереть капли, попавшие на ветровое стекло машины. — А мы сейчас дворника позовем! — сказал Артаган мальчику и просительно покосился на шофера. Тот включил «дворник». Щетки нехотя, запинаясь, начали описывать полукружья. Ризван, раскрыв рот, осторожно старался тронуть пальцем сквозь стекло убегающую щетку. «Газик» старательно полз в гору, которая вздымалась по ту сторону речки. — Это же у Эми первенец! — крикнул шофер сквозь гул мотора. — Верно говорит, первенец… — обернулся председатель к Строгому Хакиму. — А то всё девчонки рождались. — Первенец? — рассеянно отозвался Строгий Хаким и поднял брови, что-то вспомнив. — Это какой же Эми? Тот, что у вас на собраниях все время критикует правление? Такой рыжий? — Рыжий, совсем рыжий… — рассмеялся председатель. — Эти рыжие всегда бывают нетерпеливыми. Он вспомнил, что в семье Эми рождались одни девочки. Четыре или пять девочек. Эми, тосковавший по наследнику, прямо-таки извелся от досады и стыда и все злее выступал на собраниях. Самое смешное для аула было в том, что первую же девочку в этой семье назвали Саци́та, что означает «останови». Такое имя-заклинание давали обычно третьей или четвертой девочке, чтобы наконец остановить это безобразие. Пусть хоть дальше пойдут мальчики! Но нетерпеливый Эми потребовал, чтобы первую же девочку назвали «Сацита». Видно, аллаху пришлась не по душе нетерпеливость рыжего Эми, и он стал посылать рыжему одних девочек — так посмеивались в ауле. И вот наконец мальчик — Ризван. А та, ле́рга-корт[6], наверное и есть Сацита. Вся в отца, дерзкая и нетерпеливая. Ай, шейта-ког, как она упрямо шлепала этого беднягу… Артаган закутал малыша, потому что машина уже одолела подъем и мчалась к горам по равнине и в машине кружился прохладный ветер. Впереди, на зеленом теле хребта, виднелась белая линеечка. Это новая ферма колхоза. — Связались с первенцем… — проворчал Строгий Хаким. — А то могли бы сейчас прямо на ферму. — Разворачивай назад, — сказал председатель шоферу. — Хоть одно доброе дело мы сегодня сделали: видишь, как доволен малыш. Строгий Хаким тряхнул кистью руки, посмотрел на часы и сказал голосом, каким говорят — «Нет, мы сумеем положить этому конец»: — Пятнадцать минут первого! В ауле подъехали к дому Эми, и Артаган бережно высадил мальчика из машины. Через плетень он увидел во дворе две рыжих головы и сноп рыжих искр между ними. Это Эми, в нижней рубашке, точил топор, а Сацита с трудом крутила ручку тяжелого наждачного колеса. Видно, оно еще не пропиталось водой в корытце, и поэтому из-под лезвия топора вырывались искры. Эми стоял спиной к улице, и председатель заметил, как уже успела загореть сильная шея Эми. Насчет работы он все-таки молодец, этот нетерпеливый Эми. Сегодня уже в шесть утра председатель видел его рыжую голову в поле, там Эми делает плетень, чтобы скот не забредал на колхозную плантацию. Сацита первая услышала сквозь жалобный скрип точила шум машины и перестала крутить ручку. — Ты что, умерла?! — рявкнул отец. — Машина… — прошептала девочка. Эми, застегивая ворот рубашки, неторопливо пошел к калитке. — Ты не кричал тут на весь Ца-Батой «орц дак»?[7] — спросил у него председатель со своей всегдашней легкой и чуть загадочной улыбкой. — Мы же у тебя сына украли… — И пропал бы — не такая беда, чтобы кричать орц дак, — с достоинством ответил Эми, а потом сразу начал ругаться: — Что из нашего колхоза никогда колхоз не получится, это всему миру известно. Неужели никто из этого вашего правления ни разу в своей жизни плетень не вязал? Хворосту мне понавезли столько, что можно весь Ца-Батой оплести три раза, а кольев — всего полвоза! Что, этот хворост в воздухе должен висеть? Или мне воткнуть себя и членов моей семьи в землю вместо кольев? Но нас не хватит! А вот если бы начальников колхозных добавить — столько их в Ца-Батое развелось! — хватило бы на самый длинный плетень. — Что, собрание откроем? — выглянул из машины Строгий Хаким. — А-а, гость? — спохватился Эми, смутившись, что забыл свой долг хозяина. — Пусть будет добрым ваш приход! Заходите, самыми почетными гостями вас сделаю. Ни минуты лишней не дам вам потратить, быстро угощу! Он обернулся к Саците, стоявшей с Ризваном на руках, и рявкнул: — Что же ты застыла? Лови самых жирных курочек! — Сацита! — поспешно сказал председатель, то ли зовя девочку по имени, то ли говоря хозяину «останови ее». — Спасибо, Эми, нам надо спешить в третью бригаду. Точи топор, чтобы он был острее… твоего языка, а колья сейчас в поле подвезут. У нас их полно. Сын у тебя хорош! А Сацита… У, шейта-ког! Машина отъехала. Три рыжих головы смотрели ей вслед. — Слышал разговорчики? «Из этого колхоза никогда колхоз не получится»… — осуждающе сказал Строгий Хаким, отдуваясь. Помолчав, председатель ответил: — «Тихому не верь, крикливого не бойся» — так говорили еще наши предки. Побольше бы нам в Ца-Батое таких, как этот Эми. — Без десяти час, — сказал Строгий Хаким. — В третьей бригаде надо отрезать пять — десять огородов! Ясно? — Ни одного. И не заговаривай об этом. И председатель вскинул глаза на Строгого Хакима. Такая у него манера: скажет свое, глядя куда-то вбок с этой загадочной улыбкой, а потом посмотрит в упор на собеседника, будто проверяет, так ли его поняли, как следовало бы. — Ну-ну… — прошептал Строгий Хаким. — Расскажи, как дальше будем заваливать табак. Председатель начал, загибая один палец за другим: — Дорог в ущелье нет, народ живет, как гурт в загоне, отрезанный от мира. Это раз. Водопровода нет, видел, как эта девчонка толщиной с прутик тащила ведра? Это два… А еще я тебе скажу… Строгий Хаким смотрел, как председатель загибает длинные костистые пальцы, и подумал: «Худощавый старик, а руки вон какие: ладонь — с лопату». Рукава пиджака у Артагана бахромились не вкруговую, а только с внутреннего краешка. От черенка лопаты, что ли? «А говорят, что был старик когда-то, в давние времена, учителем здешней школы, чуть ли не заведовал ею… — вспомнил Строгий Хаким. — Удивительно!» — Но при чем тут табак? — нетерпеливо прервал Артагана Строгий Хаким. — «Табак, табак»… Табаку тоже кое-чего у нас не хватает. Сушилок нет, люди сушат лист по домам, как попало. Получается второсортное сырье, которое не дает особого уж дохода ни колхозу, ни колхозникам… Мало пока еще для людей делаем, для того чтобы им лучше работалось. Это все равно, что мало сеем, а большого урожая ждем… Да что тебе рассказывать, ты сам родом из наших мест, и так все знаешь! Он вскинул глаза на Строгого Хакима, чтобы убедиться, правильно ли поняли все, что он высказал. — Критикуешь ты хорошо, — усмехнулся тот. — Критиковать у вас в Ца-Батое умеют. Но то, что ты говоришь, — это самокритика. Кто же вам не дает позаботиться и о дорогах и о воде? Не району же за вас все делать! — Э-э, подстегивать-то легко… Говорят, чужой конь хорошо берет подъем… Я — председатель, вся сила у меня в руках. Но у меня всего одна голова. — А сельсовет для чего? Пусть поднимает людей на благоустройство аулов. — Кого ему поднимать? Опять же меня: я ведь тоже депутат. «Постарел председатель, — подумал Строгий Хаким. — Ничего не скажешь, этот молодой колхоз поставил на ноги именно он. И табак в хозяйстве завести настоял перед сельчанами он. А теперь зубы сточились. Не решается быть строгим и требовательным с людьми, распустил таких, как этот крикун Эми. Посадка табака под угрозой срыва, а ему водопровод подай… Теряет перспективу. Но кем заменить старика?» Строгий Хаким искоса оглядел Артагана, словно желая убедиться, действительно ли тот постарел. Чего нет, того нет. Серебро, правда, в волосах у него поблескивает, но ничуть не ссутулился. И крепок, как буйволиный рог. Хотя лет ему, наверное, много. Старый кадр. Председатель велел остановиться возле хозяйственного двора правления и послал шофера сказать насчет кольев для Эми. Когда шофер ушел, Артаган вдруг произнес негромко, поглядывая через ветровое стекло машины на воду Гурса: — Уйду я с председательства. — Ты не с ума ли сошел на старости лет! Было бы кем заменить… И заместителя себе взял какого-то ни живого ни мертвого! — Усман — плохой заместитель, — согласился Артаган, — а председателем будет хорошим. Он из тех, кто только во главе стаи работает крылом в полный размах. Вот закончу нынешний сельскохозяйственный год и сдам должность Усману. Так и скажи начальству в районе.…Артаган не дождался на посту председателя ни зимы, ни даже осени. Он ушел со своего поста уже через месяц. И ни один человек в Ца-Батое не мог понять, что случилось. Ничего не мог понять и Строгий Хаким. Как это часто бывает в селах после ухода уважаемого председателя, вспоминать начинают о нем только хорошее даже те, кто раньше доброго слова не сказал. Например, крикун Эми заявил во всеуслышание: — Ва, цабатоевцы! Не видать вам больше такого председателя, как Артаган Темиров… Впрочем, это уже был не тот крикун Эми, каким его знали в Ца-Батое. Он притих, сник, люди заметили в его рыжих волосах неожиданно и не по возрасту блеснувшую седину. Горе поселилось под крышей Эми! И ни за что бы не подумать рыжему Эми, что это его горе и было причиной столь непонятного для всех скороспешного ухода Артагана на пенсию. Умер, стал жертвой жестокого Гурса, маленький Ризван — вот какое горе поселилось в доме Эми. Случилось это так. Мать повезла в город на продажу индюков. И взяла с собой Ризвана. Дело в том, что сам Эми в то время уехал далеко в горы ставить кошару на новом участке отгонного животноводства. Мать побоялась оставлять отцовского любимца с нетерпеливой Сацитой и взяла Ризвана в город. На обратном пути колхозный грузовик застрял в водах разлившегося Гурса. Заливаемая потоком, машина простояла с пассажирами три часа, пока ее не вытащил из реки подоспевший трактор. Вода раннего таяния ледников оказалась слишком холодной для малыша: он простудился. Три дня метался в жару. Узнав об этом, сам Артаган на своем «газике» отвез Ризвана в город к лучшим врачам. И сам же вскоре вез мертвого мальчика из города в аул… Мать Ризвана и двое братьев Эми сидели в «газике» сзади. А завернутое в бурку тельце Ризвана лежало на коленях у Артагана. Мчались из Грозного по равнине, а перед горами, где развилок в два ущелья, шофер спросил у председателя, как ехать: по краткому пути через ущелье Гурса, где нет дороги, или вкруговую по трассе, через райцентр. — Вдоль Гурса… — тихо сказал старик. — Там сегодня даже наш «газик» с двумя ведущими осями застрянет. Смотри, как хлещет дождь. Гурс, наверное, совсем от воды распух! — Вдоль Гурса… — повторил старик. На заднем сиденье шевельнулись, но промолчали. Свет фар пронзил частую сетку ливня, и лучи начали протыкать мрачную, густую тьму ущелья. Навстречу рычанию мотора донесся глухой, угрожающий голос Гурса. Машину начало кидать из стороны в сторону. Красный лучик света приборного щитка то и дело падал на голову Ризвана, видневшуюся из-под бурки, золотил волосы. — Дай ребенка, тебе тяжело… — глухо сказал сзади один из братьев Эми. Старик ничего не ответил ему. И только когда машина подъехала к броду, чуть помедлила перед решительным рывком через Гурс, тускло сверкавший в темноте, Артаган сказал, не оборачиваясь: — Ему нравилось сидеть здесь. Машина ринулась в поток, взметнула брызги. Они не засверкали радугой, как тогда, весной. Потому что сейчас не было солнца, и еще потому, что вода теперь была мутная, а не лазоревая: она вобрала в себя талые снега ледников. «Газик» задрал нос на подводных камнях Гурса, словно конь, старающийся скачком вырваться из объятий потока. Щетки «дворников» лихорадочно бегали по ветровому стеклу, пресекая струйки ливня и будто бы подбадривая мотор и колеса машины: «Ну, что же вы?! Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть! Видите, как мы сами стараемся?» Как ни кренило машину, Артаган не держался за скобу, торчащую перед ним. Хороший всадник, он и в машине всегда сидел, как на мчащемся коне. Потому что держал корпус свободно, не споря с наклонами машины, а покорно следуя им. Одной своей большой рукой Артаган придерживал бурку на золотистой голове ребенка, оберегая Ризвана от удара, а другой водил по ветровому стеклу вслед за бегом «дворника». И вспоминал удивление Ризвана, который никак не мог поймать щеточку через стекло.
 Ногам стало холодно, и этот холод пополз по телу вверх. Странно, что кузов еще не полон воды: ведь фары уже нырнули в поток. Но «газик» вдруг рванул вперед, обозленный, что ему закрыли глаза. Лучи фар взметнулись из воды, хлестнули по мокрому берегу, который уже был близок, и по лесу, поднимающемуся стеной над берегом реки по крутому склону хребта.
Машина последний раз скрежетнула по подводным камням и выскочила на берег, качнулась там на выбоинах, как пес, отряхивающийся от воды. Мотор не заглох, машина ощупью въехала в лес, высвечивая фарами красные, поблескивающие, мокрые стволы деревьев.
За аулом Борзи предстояло еще трижды пересечь реку.
— Заночуем в Борзи? — осторожно спросил шофер. И тут же поспешил добавить: — За машину-то я ручаюсь, да как бы ноги всем нам не простудить…
— Поедем… — пробормотал Артаган, прижимая ребенка к себе. — Гурс свое уже сделал, что он еще может сделать?
Он был теперь слева, этот Гурс, за тонкой стенкой леса. Шум дождя и мотора не мог перекрыть рычания реки, погромыхивавшей перекатываемыми валунами.
— Проедем, Ризванчик… — шептал Артаган. — Не испугает нас с тобой Гурс. Ты был последней жертвой злого Гурса, знай это, кяньк![8] Не носить мне папахи, если я не обуздаю погубившую тебя реку, Ризван. Сацита, эта драчунья, не дала тебе поплескаться в ведрах с родниковой водой, а вода Гурса оказалась не для тебя, Ризван…
Артаган умолк, потому что услышал, как у матери Ризвана вырвалось долго сдерживаемое рыданье.
— Перестань… — раздался голос старшего брата Эми. — Разве только у тебя умирали люди?
Младший же деловито сказал:
— Кто же из нас двоих, брат, поедет завтра на пастбище к нашему Эми, чтобы повезти ему эту весть?
— Легче умереть, чем ехать с такой вестью… — ответил со вздохом старший брат. — Ах ты, проклятый Гурс, и до нашего те́йпа[9] добрался. Кто же до тебя наконец доберется? Что бы ты ни натворил, все тебе прощают в Ца-Батое, все списывают на «божье предначертание»: «дял кел, дял кел»…
— Что ты болтаешь? — боязливо прервала его мать Ризвана. — Разве можно так гневить аллаха…
Ногам стало холодно, и этот холод пополз по телу вверх. Странно, что кузов еще не полон воды: ведь фары уже нырнули в поток. Но «газик» вдруг рванул вперед, обозленный, что ему закрыли глаза. Лучи фар взметнулись из воды, хлестнули по мокрому берегу, который уже был близок, и по лесу, поднимающемуся стеной над берегом реки по крутому склону хребта.
Машина последний раз скрежетнула по подводным камням и выскочила на берег, качнулась там на выбоинах, как пес, отряхивающийся от воды. Мотор не заглох, машина ощупью въехала в лес, высвечивая фарами красные, поблескивающие, мокрые стволы деревьев.
За аулом Борзи предстояло еще трижды пересечь реку.
— Заночуем в Борзи? — осторожно спросил шофер. И тут же поспешил добавить: — За машину-то я ручаюсь, да как бы ноги всем нам не простудить…
— Поедем… — пробормотал Артаган, прижимая ребенка к себе. — Гурс свое уже сделал, что он еще может сделать?
Он был теперь слева, этот Гурс, за тонкой стенкой леса. Шум дождя и мотора не мог перекрыть рычания реки, погромыхивавшей перекатываемыми валунами.
— Проедем, Ризванчик… — шептал Артаган. — Не испугает нас с тобой Гурс. Ты был последней жертвой злого Гурса, знай это, кяньк![8] Не носить мне папахи, если я не обуздаю погубившую тебя реку, Ризван. Сацита, эта драчунья, не дала тебе поплескаться в ведрах с родниковой водой, а вода Гурса оказалась не для тебя, Ризван…
Артаган умолк, потому что услышал, как у матери Ризвана вырвалось долго сдерживаемое рыданье.
— Перестань… — раздался голос старшего брата Эми. — Разве только у тебя умирали люди?
Младший же деловито сказал:
— Кто же из нас двоих, брат, поедет завтра на пастбище к нашему Эми, чтобы повезти ему эту весть?
— Легче умереть, чем ехать с такой вестью… — ответил со вздохом старший брат. — Ах ты, проклятый Гурс, и до нашего те́йпа[9] добрался. Кто же до тебя наконец доберется? Что бы ты ни натворил, все тебе прощают в Ца-Батое, все списывают на «божье предначертание»: «дял кел, дял кел»…
— Что ты болтаешь? — боязливо прервала его мать Ризвана. — Разве можно так гневить аллаха…
Глава II
Вот после этого события — смерти Ризвана — и заявил Артаган о своем решении уйти на пенсию. Вряд ли в Ца-Батое и двух других аулах колхоза догадывались, что уход председателя связан с гибелью малыша. Мало ли кому приносил горе Гурс! Ну, умер мальчишка. Жалко. Воробья и того жалко, даже в нем душа есть, а тут все-таки человек, хоть и чуть больше воробья был. И этого рыжего Эми жалко. Смотрите, как переменился. Старается не показывать виду, потому что недостойно мужчины сгибаться перед лицом горя. Однако видно же, каково ему… А Гурс… Мальчишка мог, конечно, простудиться и без всякого Гурса. Но это же надо додуматься: тащить по такой дороге ребенка в город вместе с индюками. Тьфу! В правлении никто не захотел разговаривать с Артаганом о его уходе с должности. Парторг, тот прямо сказал председателю: — Партбюро даже не допустит, чтобы твое заявление зачитали колхозному собранию. Артаган очень рассчитывал на Строгого Хакима, даже собирался съездить к нему в райцентр, как приехал вдруг сам Строгий Хаким и сказал Артагану: — Не трать время на напрасные поездки. Районное начальство тебя и слушать не станет. Я там докладывал о нашем с тобой разговоре, на меня прикрикнули. Будто я виноват в этой твоей затее! Откинув голову, Строгий Хаким долго смотрел на задумавшегося Артагана, словно впервые увидел его, и произнес с некоторым удивлением: — Вот видишь, как ты еще всем нам нужен! Ну что ты собираешься делать на покое? Никак не пойму. Перебирать четки? Так ты вроде и не из мюри́дов[10]. Разводить пчел и возить мед на грозненский базар? Артаган легко, почти неслышно прошелся в своих кирзовых сапогах из конца в конец тесного, темного председательского кабинетика и ответил: — Разные у нас с тобой мысли, ва, человек… Потом, вскинув глаза на Строгого Хакима, попросил: — Разреши мне съездить на денек в город, если ты тут обойдешься без меня. Тот безразлично пожал плечами, что можно было понять как согласие.… Когда «газик» выехал за околицу аула, Артаган кивнул головой влево. — Что, опять через ущелье поедем? — удивился шофер. — После дождей там все в лесу развезло. И что тебе так понравилась эта дорога… — Мне опять поговорить с Гурсом надо… — усмехнулся Артаган, упрямо кивнув еще раз головой влево. — Вот уж с кем бы моя машина никогда не захотела разговаривать!.. Рессору опять пришлось менять. Посчитал бы какой-нибудь бухгалтер, сколько ущерба аулу этот Гурс принес. А все из-за нашего цабатоевского упрямства; каждый раз норовим напрямую проехать! Шофер не знал, что самый строгий бухгалтер, счетовод всех проделок Гурса сидит рядом с ним. Артаган помнил все, что случалось на этой реке, помнил и то, чего не мог помнить по возрасту шофер. Был, например, год страшного наводнения и ливней, когда Гурс надолго рассек надвое аул Ца-Батой, а два других аула, лежащих в низине, чуть не слизнул. Но это редкий случай. Чаще всего Гурс довольствовался тем, что наглухо запирал ущелье. Не пройти по берегам реки и через нее, не проехать. Там, где ущелье раздвинуто, еще ничего, но есть места — Артаган знает их наперечет, — где река течет среди скал. Размыть их ей трудно. Поэтому река мечется от одного берега к другому, в таких теснинах она особенно полноводна и опасна. Три года назад в одном из таких мест Гурс перевернул бричку с чабанским скарбом. Возница-чабан мог бы спастись, но он пожалел лошадь, захотел обрезать ей постромки. Не успел. Погибла лошадь, разбило о валуны чабана, бричку превратило в щепы. Случалось на Гурсе и такое, что приносило ущелью смеха больше, чем горя. Хотя Кривой Хасан, кузнец из аула Борзи, до сих пор не может вспоминать об этом без злости. Он пожелал, чтобы ему засватали невесту не в ущелье, а из-под Грозного. Где-то там в долине он высмотрел себе подходящую. Как ему ни толковали, что лучше бы брать местную девушку, привычную к горам, Кривой Хасан твердил свое: «У нее, во́ллахи-би́ллахи[11], каждый глаз величиной с чайное блюдце!» — «Ну что ж, — нехотя согласились родичи Хасана. — У тебя всего один глаз, зато у нее каждый с блюдце. Сватаем!» Гурс опустошил грузовик, в котором везли невесту и весь по́ртал[12]. Когда всплыл из кузова полированный шифоньер и закачался на бурных волнах перед дальней дорогой, невеста перенесла это стойко. Набухла и перевалилась через борт машины перина — к этому тоже девушка отнеслась терпеливо. Но когда оказался под угрозой чемодан с отрезами, невеста вцепилась в него мертвой хваткой, как ни кричали ей дружки жениха: «Отпусти, ради аллаха! Это же Гурс! Это тебе не твой долинный ручеек! Унесет тебя вместе с чемоданом!.. И тогда Хасан нам из-за тебя кровную месть объявит!» Невеста поплыла вместе с чемоданом. Ее удалось выловить, но уже без чемодана и полуголую, потому что волны сорвали с невесты все ее легкие шифонные наряды. Артаган невольно усмехнулся, вспомнив, как бесновался Кривой Хасан, как клял своих родичей-стариков, потрясая перед ними кувалдой: «Ваши паршивые старинные обычаи виноваты, фанатики вы проклятые! Почему жениху запрещено самому и за невестой своей поехать, и на свадьбе собственной присутствовать? В каком загсе это записано? Ведь если бы я поехал за невестой сам, я бы и чемодан спас с отрезами, и эту дуру удержал в кузове. Все ущелье потешается, что мне голую невесту привезли!» Как преступник-рецидивист, Гурс не раз имел дело и с прокурорами. Об этом Артаган подумал, когда проезжал мимо Голубой скалы. Так называли мрачный утес, потому что к осени на его каменистой крутизне, на которой и земля-то не держится, каким-то чудом расцветают небесно-голубым ковром удивительно цепкие и живучие цветы. Председателю было неприятно вспоминать историю, случившуюся здесь год назад, но заставил вспомнить шофер. Он сказал, когда проезжали под Голубой скалой: — Знаешь, что плел, говорят, вчера в чайной Хурьск? Что тебя прогоняют с председателей! За недостачу зерна… Никак не может он простить тебе ту историю с углем, помнишь? Лицо Артагана было по случаю поездки в город гладко выбрито, кроме губы, на которой темнели редкие волосики усов. Председатель заметил в зеркальце над головой, как потемнело после слов шофера у него лицо, и провел по щеке рукой. Показалось, что щека горит. Артаган улыбнулся своей неясной улыбкой и ответил шоферу: — А ты знаешь поговорку? «Кто придет рассказывать о клевете — дважды враг»… — Да я же только тебе… — растерялся шофер. — Другим можешь, если хочешь, а мне зря рассказываешь. И не Хурьск он, а Харо́н. Человек ведь! Не свинья. — Ну, пусть будет Харон, — согласился шофер. — Сумасшедший Харон! У Харона было в ауле две клички. Те, кто его побаивался, называли его в душе «Сумасшедший Харон», но чаще говорили про Харона за глаза «Хурьск»: свинья, свинюшка, дикий кабан, который готов все подрыть своим пятачком. Он водил раньше колхозный грузовик. Однажды, когда в школу провели паровое отопление, Артаган по просьбе школьного директора послал Харона в город за углем. Харон вернулся с пустой машиной и доложил председателю, что возле Голубой скалы застрял в реке, а Гурс слизнул из кузова весь уголь до пылинки. Нашлись у него и свидетели. Пришлось составить акт, а школе купить уголь уже за счет правления колхоза. Так бы эта история и кончилась, хотя Артаган усомнился в честности Харона. Однако через несколько дней Артаган был в школе и увидел в учительской какие-то странные маски. Противогазы не противогазы… — Для подводного плавания, — объяснил завуч. — Отобрали у двух дружков, потому что они во время уроков ходили к Голубой скале. Ныряли там в поисках каких-то ракушек, чтобы доказать учителю, что в нашем ущелье когда-то было море. — И не разбились там о камни? — удивился Артаган. — Да, наверное, врут, что ныряли. У них фантазия знаешь какая… — Нет! — раздался в дверях тоненький голосок. — Казбе́к и Майрбе́к никогда не врут! Сказала это девчушка, выглянувшая из-за глобуса. Эта не рыжая, как Сацита, а темноволосая. Жесткие черные косички-кустики — вразлет. На круглом личике — коричневые конопушки. Как на грачином яйце. Или как на том месте географической карты, где отмечена точечками песчаная пустыня. Уши у девочки большие, прямо лопухи. Это была Ахчи́ из пятого класса «Б», прозванная в школе на русский лад Денежкой[13]. В школе знали, что Ахчи старается все время дружить с Майрбеком и Казбеком. Девчонок она не признавала, славилась тем, что непостижимым образом всегда первой узнавала новости и не особенно пыталась держать их при себе, добавляя обычно ради полнейшей объективности: «За что купила, за то и продаю» (наверное, поэтому и прозвали ее Денежкой). — Как ныряли, я сама видела, — обратилась она к Артагану, покраснев от волнения, что разговаривает с самим главой колхоза. — У Голубой скалы, только на другой стороне, гравий сполз с горы в речку после дождей, и там получилась такая заводь… Прямо тихое озерцо! Ненадолго, конечно. Но Майрбек и Казбек успели там понырять в масках. И мне дали разочек нырнуть, пока Хурьск нас не спугнул. Он отмывал там кузов. — Отмывал кузов… Нашли мальчики ракушки? — спросил Артаган, прикрывая большими тяжелыми веками свои узкие глаза. Ахчи молчала, кусая губы. — Значит, не было у нас моря? — сказал Артаган и взялся за папаху, собираясь уйти. — Не нашли мальчики никаких ракушек, — сказала Ахчи медленно. — И… и… никакого угля там на дне не видели, хотя нырнули еще разок сразу после того, как отъехал Хурьск. Все дно облазили. Позвали Майрбека и Казбека. — Не было там угля! — смело сказал Майрбек, сверкая быстрыми глазами. — Соврал вам Сумасшедший Харон. — Вода могла унести… — начал было завуч. — А пробки от пива? — горячо прервал его Казбек. — Вот они, две штуки. Как раз с тем числом, когда мы ныряли. — Железные, их могло и не унести. — А пуговица пластмассовая? Она же как уголь. Тоже лежала себе на донышке. У Харона как раз такой на комбинезоне и не хватает. Вот она, пуговица! — Что же вы молчали? — насупился завуч. — Ведь во время уроков мы ходили… — опустил голову Казбек. — Но мы бы все равно сказали. Даже если бы вы не отобрали маски… Ведь уголь наш, для школы. Какое право имеет Хурьск… Артаган передал дело прокурору. Однако Харон сумел отвертеться. Он сказал, что назвал Голубую скалу в акте по ошибке. Машина застряла гораздо ниже по течению, перед самой Трубой. Так называли чуть ли не самое узкое место ущелья, где поток мчался между двумя скалами. Там не только уголь — там валуны несет, как песчинки. Сослались на забывчивость и «свидетели». Прокурор развел руками и прекратил дело. «Не могу же я строить обвинение на показаниях детишек», — сказал он. Артаган все же позвал Харона и при всех сказал ему: — Сдай машину. — Я — вор?! Председатель поднял на него глаза и, глядя прямо в лицо, сказал с усмешкой: — Значит, понял, что я хотел сказать? Харон кинулся было на председателя, но тот даже не шевельнулся на стуле. Хурьска успели схватить. Потом он долго бродил без работы и вдруг исчез. Родители Казбека, Майрбека и Ахчи вздохнули спокойно: ведь Хурьск похвалялся в чайной, что все равно возьмет свое с тех, кто породил эти проклятых «маленьких доносчиков». И вот, как это ни удивительно, Харон появился в ущелье в качестве… счетовода лесоучастка, расположенного неподалеку от Ца-Батоя. А теперь распускает клевету об Артагане, врет о каком-то зерне… Артаган тогда же забыл об этом испорченном парне, да вот вспомнилась сейчас та история с углем, потому что машина переезжала место, где замерзал маленький Ризван. — Бери левее… Теперь, на самой середине, руль сильно вправо и веди машину против течения… — тихо подсказал Артаган. Как ни изменчиво русло Гурса, Артаган хорошо знал все броды, чем не раз удивлял шофера. — Да, я вижу, у тебя и вправду свои разговоры с Гурсом, — сказал шофер, когда машина вырвалась на равнину и помчалась к Грозному по асфальту автострады. В городе они подъехали к громадному белому зданию с большими каменными буквами через весь фронтон: «Совет Министров». Артаган вылез из машины, зашел в скверик, где журчал фонтан. Он снял свою старенькую папаху, побил по ней ладонью, чтобы избавить ее от пыли и взбодрить изредчавший от времени, слежавшийся курпе́й[14]. Потом зачерпнул ладонью, как большим ковшом, воды, освежил лицо, вытер его платком. В подъезд Дома правительства он вошел неторопливо, чуть покачиваясь из стороны в сторону, словно разминая ноги, как всадник, только что слезший с коня. Поднялся на лифте на третий этаж, с улыбкой кивнул привставшему милиционеру и прошел мимо него в прохладный коридор с таким неторопливым достоинством, что милиционер только поглядел ему вслед и ничего не спросил. В приемной председателя Артаган сказал девушке: — Доложи ему, сделай добро: Артаган Темиров. — А кто вы? У него люди сейчас. — Кто? Учитель я. Учитель. Он знает. — Он вас вызывал на сегодня? Когда вы с ним договаривались? — Договаривались мы… сейчас вспомню… лет десять назад. И Артаган рассмеялся своим тихим смехом, прикрыв веками глаза и отклонившись назад стройным, сухощавым телом. Девушка тоже рассмеялась, но сразу сделала строгое лицо и пошла докладывать. Они были когда-то, еще до войны, коллеги по народному просвещению — председатель Совета Министров и Артаган. Тот был тогда наркомом просвещения, а Артаган заведовал школой в Ца-Батое. Последняя встреча у них была действительно лет десять назад, если не считать того, что они видели друг друга издали на разных совещаниях. И бывший нарком, ставший к моменту той встречи председателем Совета Министров, сказал Артагану: «Ко мне в любой момент. Не пустят — скажи: учитель Артаган. Мы с тобой на всю жизнь учителя, кем бы ни стали».
…Через два дня после этого визита Артагана в Ца-Батое состоялось общее собрание колхозников. Оно постановило удовлетворить просьбу Артагана Темирова об освобождении его от должности председателя колхоза. За это решение долго никто не хотел поднимать руку, как ни взывал председательствующий. Кто-то спросил из задних рядов: — Да пусть же Артаган встанет, скажет, кто его чем в колхозе обидел. Один старик прошамкал: — Долго тебе жить, Артаган, что ты собираешься делать на пенсии? Ты же в сравнении со мной юноша, ты полон сил… Дородный, осанистый Сяльмирза́, пришедший на собрание в папахе стоимостью в двести рублей, тут же добавил с ухмылкой: — Ну, а раз он такой юноша, — наверное, хочет взять вторую жену, чтобы не скучать… Сяльмирза — сам старик, ему еще простительна такая развязная шутка со своим одногодком Артаганом, ну, а вот тот молокосос, что себе позволяет, — тот, который, давясь смехом и пряча лицо, острит: — Люди, зачем ему вторая жена, если он со своей Зале́йхой три слова в год говорит? — Ва, нах! — крикнул громко председательствующий. — Оставим шутки, не для этого собрались. О том, что будет делать Артаган, у нас речь пойдет по второму пункту повестки дня! — Давай второй пункт! — закричало собрание, хотя никто не мог взять в толк, при чем тут этот второй пункт, скучный и «дежурный»: «Об улучшении дорожной сети в колхозе». Встал председатель сельсовета Абдурахма́н и зычно объявил: — Намечается пробить дорогу через ущелье реки Гурс, Артаган возглавит это дело, а поэтому… Не успел он договорить, как собрание взорвалось таким дружным криком «Вурро́!»[15], что с деревьев рощицы, где собрались колхозники, взметнулись птицы. Расталкивая всех, к столу президиума кинулся Кривой Хасан из аула Борзи́ с высоко поднятыми вверх руками: — Голосую за то, чтобы отпустить Артагана! Мало вамодной моей руки? Поднимаю две! Если и есть на свете человек, который сумеет покорить Гурс, так это наш Артаган! Какой-то шутник, пользуясь шумом и суматохой, не удержался сострить по адресу Хасана: — Будет дорога — Хасан сможет сам съездить в долину еще за одной невестой! Хасан ринулся в толпу, но не смог отыскать обидчика. Когда смех утих, проголосовали за освобождение Артагана от должности. Однако расходились многие с собрания разочарованные. — Строить на общественных началах? Знаем мы эти начала… — говорили одни. — Кто выйдет с лопатой, а кто скажет: у меня своих дел в хозяйстве полно! — Да когда это порядочный горец стоял в стороне от общей заботы? — возражали им. — А наши старинные белхи́[16] — это разве не те же общественные начала? Сосед всегда шел на помощь соседу в постройке дома или корчевке кустарника под поле… — Сравнил! Слепить тысячу сама́нных кирпичей[17] или пробить дорогу в двадцать километров! Слышал ты в нашем ущелье когда-нибудь о таких белхи? Председатель сельсовета Абдурахман обернулся на ходу и кинул раздраженно: — Что вы за люди! Объяснил же я вам на собрании, что сам председатель Совета Министров обещал Артагану поддержку! — «Поддержка»! Что он, сам к нам с лопатой приедет? Восьмидесятилетний Зяудди́н, опустив голову и постукивая кизиловой клюкой о землю, раздумчиво говорил: — Не оплошность ли мы сегодня на собрании сделали, отпустив Артагана?.. Хотя теперь что уж рассуждать… Говорят, дурень только на мельнице вспомнил, что мешок у него был с дыркой! «Дорога, дорога»… Дело это туманное, далекое, а нам дальняя зурна всегда приятной кажется. Я вот над чем думаю, люди: не получится ли, что и дороги не будет и председателя дельного потеряли?.. Харон с лесоучастка, неизвестно зачем забредший на собрание, стоял в кругу дружков и цедил сквозь зубы: — Смотрите-ка, этого Артагана из председательского седла вышибли, так он норовит хоть на хвосте лошади удержаться! Я когда шофером был, сколько раз с этим Гурсом мучился. Только сумасшедший захочет вдоль такой реки дорогу строить! Там бы и государственные дорожники отступились… И Артаган ведь знает Гурс лучше всех нас. А затеял все для чего? Опять командовать ущельем хочет, верховодить людьми! Этих слов Артаган не слышал. Но, проходя мимо осанистого старика Сяльмирзы, он услышал его слова, сказанные вполголоса: — Еще и эта дорога на нашу шею… Совсем мы людей согнули, воллахи! А все из-за того, что кто-то славы жаждет… Артаган остановился и медленно повернулся. Сяльмирза осекся, четки замерли в его холеной, белой от постоянных молитвенных омовений руке, он пробормотал: — Не проглотить ли меня хочешь, Артаган? Хе-хе… Иди, иди. Это я не тебе говорил… Это я просто так… Но Артаган подошел к нему. Склонив голову, он словно бы разглядывал новенькие ичи́ги[18] Сяльмирзы и сравнивал их со своими потрескавшимися, побелевшими от времени кирзовыми сапогами. На ичигах сверкают галоши с кожаными ремешками. — Ты-то от каких трудов согнулся, Сяльмирза? — спросил медленно Артаган. — Сколько помню, не видел я тебя с лопатой. Сколько помню, не жил ты заботами Ца-Батоя. — Помолчав, он добавил негромко: — И я знаю, почему ты такой… — Артаган поднял голову и в упор посмотрел в выпуклые, с красными прожилками глаза Сяльмирзы. — Ты что… Ты что… — пошевелил плечами Сяльмирза, обеспокоенно оглядываясь по сторонам и стараясь не повышать голоса. — Этак ты меня и врагом назовешь? Я просто хочу сказать, что сама наша власть сумела бы сделать все гораздо лучше, так, как никакой общественности и сниться бы не могло… Понимаешь? Вот как я сказал! Вот как! Ты брось переворачивать, Артаган! Это тебе не шутки… А насчет того, чтобы нам самим строить дорогу, — я первый голосовал, люди видели. И доля моя в этой стройке будет… Оба старика — Артаган и Сяльмирза — вели свой острый разговор вполголоса, потому что неподалеку стояла молодежь, а при ней старикам не годится затевать ссоры, иначе с кого молодым и пример брать?
 Все же Харон догадался, что тут что-то неладно. С деланно-добродушным смехом выкрикнул:
— Ва, Сяльмирза, ты не очень-то перечь нашему Артагану, а то он, создатель будущей дороги, вызовет тебя в свой холодный «кабинет» где-нибудь в лесу у Голубой скалы и поставит по стойке «смирно»!
Не успел Артаган подумать, что надо бы осадить этого паршивца Харона, как со стороны донесся юношеский голос:
— Харон, а почему ты сказал «холодный кабинет»? Если верно говорят, что у Голубой скалы ты утопил целый кузов угля, то Артаган сможет хорошо натопить печку!
Артаган оглянулся. Дерзкие слова крикнул Харону русоголовый парнишка в спортивном костюме. Он, кажется, не здешний. Артаган видел его мельком на школьном стадионе и однажды — в лесу, где тот бегал с классом. Наверное, физрук школы.
Харон кинулся с угрозами к парнишке. Артаган не стал смотреть, чем там у них кончится, и ушел: найдутся люди и помоложе, чтобы разнять.
Все же Харон догадался, что тут что-то неладно. С деланно-добродушным смехом выкрикнул:
— Ва, Сяльмирза, ты не очень-то перечь нашему Артагану, а то он, создатель будущей дороги, вызовет тебя в свой холодный «кабинет» где-нибудь в лесу у Голубой скалы и поставит по стойке «смирно»!
Не успел Артаган подумать, что надо бы осадить этого паршивца Харона, как со стороны донесся юношеский голос:
— Харон, а почему ты сказал «холодный кабинет»? Если верно говорят, что у Голубой скалы ты утопил целый кузов угля, то Артаган сможет хорошо натопить печку!
Артаган оглянулся. Дерзкие слова крикнул Харону русоголовый парнишка в спортивном костюме. Он, кажется, не здешний. Артаган видел его мельком на школьном стадионе и однажды — в лесу, где тот бегал с классом. Наверное, физрук школы.
Харон кинулся с угрозами к парнишке. Артаган не стал смотреть, чем там у них кончится, и ушел: найдутся люди и помоложе, чтобы разнять.
Харон кинулся к физруку, сжав кулаки и наклонив голову, будто собираясь протаранить ею противника. Ну прямо дикий кабан, только пятачка не хватает и двух клыков. Настоящий хурьск! Он исподлобья зорко глядел вперед, и ему бросились в глаза кеды физрука, их белые разводы. И спортивный костюм. Это остудило пыл Харона. Кто их знает, этих спортсменов! На вид они бывают неказистые, а тронь такого — он возьмет тебя или на прием самбо, или поднесет боксерский удар, от которого глаза на лоб полезут. Бывалый парень, Харон легко дал удержать себя окружающим, делая вид, что неистово хочет вырваться для драки, и ограничился угрозой: — Слушай, парень, хоть ты здесь у нас и заезжий человек, вроде гостя, — не попадайся на моей дорожке, не то я тебя ополовиню! — Ты не мужчина, если не сделаешь этого сейчас же! — засмеялся физрук. Видно, этот паренек не из уступчивых. Окружающим пришлось осадить и его: — Знай и ты свое место, Руслан. Харон все же немного старше тебя. Руслан внимательно посмотрел на Харона. Не такой уж он и сумасшедший, как его прозвали в ауле. Прикидывается, чтобы страху на других нагнать. Вот уж чего Руслан не мог терпеть, так это того, чтобы кто-то норовил подавить, принизить других. Особенно силой. А Хурьском прозвали этого Харона в Ца-Батое, пожалуй, не очень метко. По крайней мере, если судить по внешности. Руслан впервые видел Харона так близко. Стройный, плечистый парень с мускулистыми шоферскими руками. Лицо чуть скуластое и смуглое, но совсем не отталкивающее. Вот только глаза… Не поймешь, какого они цвета. Не голубые, не зеленые, а как те болотца, куда изредка доплеснется волна Гурса и застоится там, затянется ряской жабьего цвета. Про такие глаза в народе говорят: нечистые. Руслан отвернулся от Харона и пошел, сбивая ивовым прутиком мохнатые верхушки лопухов. Харон посмотрел ему вслед. Такого в драке, пожалуй, не так-то уж легко одолеть. Ростом он поменьше Харона, но тоже плечист, походка легкая, упругая. Ишь как резко и сильно хлещет своим прутиком по лопухам! И ни разу не промахнулся. Харон небрежно сказал приятелям: — Идемте, по кружочке пива пропустим. «Откуда он здесь появился, этот парень? — думал Харон, шагая к чайной. — Говорят, городской. Теперь в Ца-Батое не каждого нового и приметишь. Аул разросся — почти пятьсот дворов, — растянулся по горкам и взгорьям по обе стороны Гурса. А этот физрук редко и в клубе показывается. Живет будто бы при школе, за рекой. Нет, простить ему сегодняшнее нельзя, — со злостью решил Харон. — Одно дело, когда меня за этот уголь осрамил Артаган — старика за горло не возьмешь. А этот молокосос при всех опозорил… Скрестятся еще наши дорожки, Руслан!» Харон не мог и подумать, так же как и Руслан, что их дорожки уже скрестились. И не сегодня, а раньше: им обоим нравилась одна и та же девушка За́ра, кончающая десятый класс в интернате горянок.
Глава III
Руслан шел к себе в школу и думал совсем не о Хароне, а об Артагане. Новичок в ауле, Руслан был удивлен тем, как взбудоражили людей первые же слухи о том, что Артаган уходит с поста председателя. Руслан вырос в городе. Его родная деревня далеко от Ца-Батоя; жить в ней ему довелось мало. Только здесь, в Ца-Батое, он оценил, что такое председатель колхоза. Целых три аула под началом у главы хозяйства! Говоря по-городскому, немалый начальник. Это в представлении Руслана так не вязалось с обликом Артагана… Точно вот такие часто приезжали, бывало, в город из родной деревни Руслана — родственники. Никакие не начальники, а простые колхозники со своими простыми разговорами и незатейливыми заботами. Кто приезжал на базар или потолкаться в больших магазинах, кто хлопотал по поводу какой-нибудь справки. Посидят, потолкуют о том о сем с родителями Руслана, пожурят младших за то, что те редко наведываются в деревню, и отправляются восвояси со своими мешками и узлами. На них похож обликом и Артаган. Коричневое, с загадочной улыбкой лицо, старенькая папаха, обвисший на костистых плечах пиджачок с завернувшимися лацканами. И руки — тяжелые, большие, черные, с крепкими крупными ногтями. Все это Руслан заметил еще в тот раз, когда впервые увидел председателя в школе. Постарался Руслан получше разглядеть тогда председателя лишь потому, что физик Исха́к Исхакович со снисходительной улыбкой шепнул кому-то про Артагана: «И вот такой человек был когда-то учителем в Ца-Батое, даже, говорят, директорствовал. С семью классами образования, представляете? Ну и времена были!» Руслан посмотрел тогда на Исхака Исхаковича: белое лицо, молодая, но такая солидная лысина; черный, хорошо пригнанный костюм и ослепительная сорочка; на лацкане — университетский ромб. Да, вот это учитель. Себя Руслан никак еще не мог причислить к этому званию. Он отслужил в армии и в школу попал случайно — в институт не прошел по конкурсу. В Комитете физкультуры и спорта предложили: «Поезжай в аул физруком, у тебя же высокий спортивный разряд». Ох, уж этот разряд, слышать о нем противно — по спортивной ходьбе! Ею Руслан случайно увлекся в армии. Сам он до этого не мог без смеха смотреть на эти соревнования. Идут, вихляя задами и ворочая плечами… Передразнивают кого-то, что ли? Нет, лица серьезные, азартные. На стадионе снисходительно называли приверженцев этого вида спорта «ходями». Руслан попал в число «ходей» после того, как однажды пришлось пройти на соревнованиях дистанцию, просто чтобы спасти команду, в которой заболел «ходя», иначе было бы штрафное очко, значит, кому-то надо пройти дистанцию, пусть даже замыкающим. Он пошел, давясь от смеха и стараясь как можно более похоже копировать других. Пусть повеселятся свои ребята, глядя на него. Тут главное не сбиться с шага на рысь, а ходить-то — кто же не умеет? Ко всеобщему удивлению, Руслан достиг финишной черты третьим. Он даже подумал, что мог бы прийти и первым, но побоялся обойти лидеров, потому что некого было бы копировать на дистанции. Тренер объяснил этот успех природным талантом. Скорее же всего, дело было в том, что Руслан — потомок горцев. Горы приучили их ходить, приучили еще в те времена, когда не было дорог, а конь не везде мог в горах пройти. Старики, родственники Руслана, даже вспоминали: «Один из наших с тобой предков хаживал на спор по сто километров без передышки! Умели ходить в старину». Приехав в Ца-Батой, Руслан не без гордости обмолвился в школе о своих спортивных успехах. «Ходьба? — удивился Исхак Исхакович. — Ходить и я умею! А спортом-то ты каким занимался?» Руслан тоже удивился тому, что этот учитель умудрился закончить университет, не переступив порога стадиона. Но о своем виде спорта он решил в ауле больше не распространяться. «Бегаю на длинные, — объяснил он ученикам. — Пять и десять тысяч метров». Это был и вправду любимый вид спорта Руслана, хотя стайер он был неважный, едва вытянул на разряд. Ничего, в Ца-Батое есть где тренироваться. Он стал бегать вдоль Гурса, но не по берегу. Там хоть и редко, а встречались люди, и каждый встречный обязательно останавливался и в тревоге допытывался: — Ва, кант![19] Раз ты так спешишь, значит, что-то случилось? Может, пожар, или обвал, или умер кто? Не нужна ли тебе моя услуга? Не стесняйся, скажи! Поэтому Руслан взбирался по отщелку на «второй этаж» гор и бегал там по облюбованной дистанции. С каждым разом он удлинял путь и уже стал добегать до самой Голубой скалы, которая уходила от его ног в пропасть, к ревевшему внизу Гурсу. Сверху редко где можно было увидеть реку, ее скрывали скалы. Но Руслан все время чувствовал, что она бежит где-то рядом, на своем «этаже». Это здорово помогало бегуну: он шел как бы наперегонки с нею, с валунами, которые она стремительно катила с гор к равнине. Все же удивительно, что Артаган ушел с поста председателя, думал Руслан. Будет строить дорогу… А так ли уж нужна цабатоевцам дорога через ущелье, если есть круговой путь к Грозному?.. Пусть он, этот круговой путь, и подлиннее, но куда спешить жителям этого сонного ущелья? Не так уж и нужен им Грозный. Базар в Ца-Батое свой; правда, собирается он только раз в неделю. Товаров сельпо завозит в магазин достаточно. К чему-то стремятся эти мало знакомые Руслану горцы. К чему-то стремится Артаган, вдруг так решительно повернувший свою жизнь и покинувший высокое седло. К чему? Чтобы узнать это, и пошел сегодня Руслан на собрание колхоза. И ничего там толком не уловил. О смысле жизни он однажды заговорил с Зарой. Она много читает и умеет поразмышлять о прочитанном. Руслану нестерпимо захотелось поговорить с нею сейчас. Он нерешительно остановился на середине мостика через Гурс. Вернуться на ту сторону Ца-Батоя, к интернату? Неудобно там бывать без дела… Мостик качался под ногами. Похоже было, что его шевелит дыхание мчащегося внизу Гурса. Это был подвесной мостик шириной в одну доску: два металлических троса под настилом и еще один трос — наверху, вместо перил. Единственная нить жизни, связывающая главную часть аула с другой частью, со «спутником», где расположена школа. Если не считать, конечно, автомобильного моста на краю аула. Цабатоевцы его и не считают. Они им пользуются лишь тогда, когда находятся на колесах. Чтобы нормальный цабатоевец пошел с берега на берег вкруговую, через Большой мост? Только те, кто живет возле моста, и ходят так. Обычно же пользуются вот этим подвесным мостиком, где двоим и разминуться невозможно. По этим зыбким дощечкам-качелям идет и старец, с трудом ковыляющий даже по ровной, твердой земле, и первоклассник, едва дотягивающийся рукой до спасительного троса, заменяющего перила. Руслан стоял, опершись на этот трос, и смотрел в воды Гурса. Вчера, после дождя, они были совсем мутные, глинистые. А сегодня волна посветлее, иногда кажется, что мелькнула под лучами солнца голубизна. Таковы эти горные речки: они удивительно быстро умеют охорашиваться после дождей, которые стаскивают в речной поток глину и песок со всех окрестных склонов. Казалось, что мостик плывет на спине Гурса, покачиваясь, как лодка. Солнце палило, а снизу, от реки, шла прохлада. Хорошо стоять здесь вот так и думать о Заре. Он увидел ее в первый раз, когда его послали в интернат заменить тамошнего физрука, уехавшего на соревнования в город. Сейчас, слушая ровный гул реки, он старался припомнить, что его тогда привлекло в Заре. Конечно, и красота ее фигуры, необыкновенная, неосознанно-горделивая осанка, выделявшая Зару даже среди самых стройных соклассниц… И голос, чистый, как пение птицы в утреннем лесу Ца-Батоя. И ее тугая шелковистая коса, перекинутая на грудь через нежное плечо. Но больше всего — глаза. Вода Гурса была весной поразительной по переменчивости цвета, по своей таинственности: ясно-лазоревая, а сличишь с ясным небом, и кажется, что поток — чисто голубого цвета; струя такая плотная, а кажется, что сквозь нее виден каждый белоснежный камешек-плитка на дне, каждая золотистая песчинка; холодна эта вода весной так, что опущенная туда рука тотчас сладко немеет, а смотришь — и кажется, что волна Гурса будет обволакивать тебя нежным теплом. Таким показались Руслану и глаза Зары, а сверх того, в этих глазах постоянно лучился, даже когда Зара была чем-то озабочена, смех, та неудержимая добрая улыбка, что идет от кипящей жизнерадостности и дружелюбия ко всем. Услышав этот постоянно искрящийся смех, Руслан сразу подумал, что Зара — из тех девушек, что порывисты в движениях и поступках, всегда озорнее и веселее всех, всегда готовы к добродушно-острой шутке. Руслан знавал в городе таких своих соплеменниц, и ему не нравились эти разбитные хохотушки. К удивлению, Зара оказалась не такой. Директор интерната поручил ей представить Руслана шумной и бестолковой ораве младших учениц. Она без единого окрика, почти молча рассадила суетившихся девочек в крошечном зальчике для спорта. Одной вытерла нос, другой пригладила мимоходом голову, третьей незаметно пригрозила пальцем, и дети как-то враз утихли, уставились на Руслана. Такая спокойная деловитость, молчаливое достоинство, изящная плавность движений девушки не вязались с брызжущей жизнерадостностью ее глаз, но в этом, наверное, и было обаяние. «Стол!» — вспомнил Руслан и оттолкнул трос так, что мостик заколыхался. Физрук интерната сейчас болел, и Руслан снова заменял его. Свои уроки он уже провел в интернате вчера, но повод побывать там сейчас имелся: теннисный стол. Школа подарила его интернату, девочки не сумели сами установить и просили помочь. Не держась за трос, Руслан помчался по мостику, балансируя, чтобы не свалиться в бушующий поток. Одноэтажное строение интерната зеленело в лощине в верхней части аула. Над ним громоздился неподалеку ближний хребет, но интернат имел и свою гору: рядом со зданием одиноко высился Юрт-Корт — Голова Аула, самая высокая вершина Ца-Батоя. Если смотреть с горных гряд, окружающих Ца-Батой, то Юрт-Корт казался едва приметной шишечкой. Над домиками же Ца-Батоя он возвышался горделиво и с достоинством нес звание «Голова Аула». С бьющимся сердцем, но степенно, как и положено учителю, вошел Руслан в темный и очень прохладный после уличного солнцепека коридор интерната. В открытых настежь классах было пусто. Уроки кончились; наверное, девчонки на прогулке. Неужели ушла и Зара? Из кабинета директора доносился неторопливый, торжественный голос. Руслан прислушался. Директор Ширва́ни читал стихи. Самому себе он их читает, что ли? Учительским слухом Руслан почувствовал, что там есть и слушатели. Руслан нерешительно приоткрыл дверь. Кабинет директора был битком набит ученицами. Две первоклассницы сидели у Ширвани на коленях, а еще две — на коленях у Зары, обхватив руками ее шею. Ширвани читал детям какую-то стихотворную сказку, кивая в такт строкам головой. Увидев Руслана, он кивнул головой чуть сильнее, что могло означать «садись и ты». Слегка потеснив малышку, которая широко открытыми глазами смотрела в окно и слушала завороженно, Руслан присел на краешек стула. Когда сказка закончилась, Ширвани выслушал, зачем пришел Руслан, и сказал торжественно, будто произносил слово из своего стихотворения: — Зара. Она молча взяла связку ключей, которые Ширвани доверял во всем интернате лишь ей. Ширвани привык, что девушка понимает его без слов, достаточно сказать «Зара». — Зара, — остановил ее Ширвани, вставая. — Мы с Русланом справимся вдвоем! — запротестовала было Зара. Но Ширвани захотел помогать сам, потому что девушке незачем таскать тяжести. Этот пожилой человек в длинном парусиновом кителе славился в Ца-Батое неторопливостью и на редкость ровным нравом. Он незлобиво принимал любую шутку, а ведь острые на язык цабатоевцы не прочь были прокатиться насчет его должности. Ну дело ли для мужчины заведовать женским учреждением? «Сидит там, как курица на яйцах…» — «Нет, он не яйца высиживает, а уже выращивает будущих курочек», — поправляли другие. Были и такие, что допытывались у Ширвани, сам ли он меняет штанишки детишкам или есть в штате специальный человек. В ответ Ширвани удрученно вздыхал и вопрошал: «Почему бог дал маленькому Ца-Батою такое большое количество неразумных людей?» Ширвани встал из-за стола, держа в руках за кожаные ремешки свои галоши, дошел с ними до кладовой. Вместе с Русланом он донес до порога школы тяжелую, большую крышку стола. Прежде чем нести крышку дальше, директор надел на свои мягкие ичиги галоши, аккуратно застегнул ремешки. Зара бросила на Руслана смеющийся взгляд, улыбнулся и он, потому что знал историю этих галош. Раньше Ширвани ходил в тяжелых альпинистских ботинках. Весной, в грязь, его остановила у входа Зара, велела разуться и вымыла ему ботинки, а стоявшим рядом малышам строго наказала: «Вот вам корытце. И чтоб ни одна из вас больше не входила в интернат, не вымыв обуви. А то тяжело уборщице держать коридор и классы в чистоте…» — «Это называется: «Отругай свою дочь, но так, чтобы и сноха слышала», — с грустью принял реплику Зары в свой адрес Ширвани. С тех пор он завел себе ичиги с галошами. Цабатоевцы обрадовались новому поводу пошутить и сказали директору: «Ну, ты теперь у нас второй Сяльмирза! Разбогатеем — купим тебе папаху за двести рублей. Будешь нашим девочкам читать нараспев Коран вместо своих стихов! Первое женское медресе́[20] в истории, медресе-интернат!» Назло острякам Ширвани стал ходить в ичигах с галошами и летом. …Он помог Руслану вынести стол под навес, потом снял у входа в школу галоши и пошел в кабинет читать детям свою новую сказку — «Когда Гурс бывает злым, когда Гурс бывает добрым». Помогая Руслану установить стол, Зара рассказывала об интернатских новостях. Первая и самая радостная для Зары, для всего интерната: покупают телевизор! Деньги дал колхоз, это еще в бытность Артагана председателем. — Сначала Артаган отказал нашему директору, — вспоминала сейчас Зара. — Тогда пошла к председателю я. Ведь Ширвани не умеет ничего требовать. Он добрый и всем верит. Артаган и мне сказал, что нет денег, а потом спросил, кто я. Ответила: комсорг интерната. Спрашивает, какие передачи хотелось бы девочкам видеть. Говорю: «Про Москву». Он молчит, улыбается себе таинственно. Тогда я решилась и сказала: «Верно, что ты сам, дада, учителем был когда-то?» Он поинтересовался, чья же я такая. «А-а, бывал я в вашем ущелье, в вашем ауле. И родителей твоих знаю. Чистые люди. Но они старики, а мы, старики, привыкли по старым тропкам шагать. Не бойся новых тропок, девочка. Чьи-то ноги должны их первыми прокладывать». — Наверное, легко тебе было с ним разговаривать? — Доброе у него лицо… Скажет — и глянет тебе в глаза, в самую душу. И у него в глазах все сразу видно, понимаешь? Ты прав: удивительно легко с ним… — Ой, Зара, как я люблю вот таких стариков! Недаром про них у нас в народе говорят: «Со старым — стар, с малым — мал!» Ну, и что, Артаган сразу дал деньги? — Даже не пообещал. Я так расстроилась… А деньги, оказывается, нам колхоз перечислил в тот же день! Ширвани в секрете держал, чтобы мы не приставали, пока он в городе облюбует телевизор… Вторая новость была такой, что ввергла Руслана в уныние. Зара в этом году не поедет в институт, а останется после десятилетки воспитательницей в интернате. Ширвани уговорил уже и родителей Зары. После этих слов Руслан выпустил вдруг крышку стола и придавил ею свой палец. Он застыл с опечаленным лицом, машинально покусывая палец. — А тебе скоро ехать на экзамены? — вскинула голову Зара. — Я буду очень жалеть, если ты снова не попадешь в институт… В ее глазах Руслан увидел не только обычную лучистую улыбку, не только участие. Ему почудилась во взгляде девушки грусть предстоящей разлуки. Зара, не шевелясь, полуприкрыла свои большие глаза ресницами, и Руслану почему-то вспомнились длинные ветви ив, свисающие над лазоревым потоком весеннего Гурса. — Нет, Зара, — ответил Руслан, — я… я не смогу уехать в город в этом году, если ты… если ты останешься здесь. Я лучше поступлю пока на заочный… Как-то весной, рано утром, когда Гурс был мелок и чист, а его белоснежное каменное ложе свободно от воды, Руслан любовался подобранной здесь плиткой. Она была вымыта вчерашним дождем и сияла нежно-матовой белизной. Первый луч солнца, выглянувшего из-за хребта, скользнул по ней, и Руслану показалось на миг, что на нежно-матовой белизне вспыхнул легкий румянец зари. Так же вот и теперь такой же румянец, такой же мимолетный луч какой-то внутренней зари скользнул по лицу девушки после взволнованных слов Руслана. — Тебе хорошо, Зара?
— Иногда я думаю, что мне всегда хорошо. И если солнышко. И если гроза. Только надо быть смелой!
Их разделял стол, но и ему и ей показалось, что стоят они рядышком. Зара смутилась, Руслан поспешил заговорить о чем-нибудь другом; оживленно подхватила разговор и она:
— Да, да, у нас уже знают, что собираются строить дорогу через ущелье! В Ца-Батое быстро слух бежит: внизу собрание, а у нас здесь уже все обсуждают… Как хорошо, что будет дорога! А то люди в соседних ущельях уже поговаривают, что напрасно наш интернат открыли в Ца-Батое: сюда ни проехать, ни пройти… Знаешь, для меня всегда что-то такое в самом слове «дорога».
Помолчав, Зара вдруг спросила, смущаясь наивности своего вопроса:
— Скажи, а такой старый и совсем уж… обыкновенный человек этот Артаган, он может оказаться… как бы тебе сказать… романтиком? А?
Такое слияние радостного смеха и удивления было в глазах Зары, что Руслан не выдержал и рассмеялся. Зара тоже рассмеялась звонко и весело.
Увы, нет волшебной сказки, которая длилась бы без конца. Кончилась сказка и о том, когда Гурс бывает злым, когда Гурс бывает добрым: из дома вырвался детский гомон, у порога запищал чей-то голос:
— Ширвани-Ширвани-Ширвани, дай я тебе сама застегну ремешки галош, а то тебе животик мешает. Я сумею! Я сама! Я уже большая! А ты нам еще сказку напиши, хорошо?
— Тебе хорошо, Зара?
— Иногда я думаю, что мне всегда хорошо. И если солнышко. И если гроза. Только надо быть смелой!
Их разделял стол, но и ему и ей показалось, что стоят они рядышком. Зара смутилась, Руслан поспешил заговорить о чем-нибудь другом; оживленно подхватила разговор и она:
— Да, да, у нас уже знают, что собираются строить дорогу через ущелье! В Ца-Батое быстро слух бежит: внизу собрание, а у нас здесь уже все обсуждают… Как хорошо, что будет дорога! А то люди в соседних ущельях уже поговаривают, что напрасно наш интернат открыли в Ца-Батое: сюда ни проехать, ни пройти… Знаешь, для меня всегда что-то такое в самом слове «дорога».
Помолчав, Зара вдруг спросила, смущаясь наивности своего вопроса:
— Скажи, а такой старый и совсем уж… обыкновенный человек этот Артаган, он может оказаться… как бы тебе сказать… романтиком? А?
Такое слияние радостного смеха и удивления было в глазах Зары, что Руслан не выдержал и рассмеялся. Зара тоже рассмеялась звонко и весело.
Увы, нет волшебной сказки, которая длилась бы без конца. Кончилась сказка и о том, когда Гурс бывает злым, когда Гурс бывает добрым: из дома вырвался детский гомон, у порога запищал чей-то голос:
— Ширвани-Ширвани-Ширвани, дай я тебе сама застегну ремешки галош, а то тебе животик мешает. Я сумею! Я сама! Я уже большая! А ты нам еще сказку напиши, хорошо?
Вечером в учительской, где собрались поиграть в шахматы и полистать журналы, Руслан вдруг узнал еще одну новость, которая ошеломила его. — Слышали? — сказал кто-то, зевая. — Этот Сумасшедший Харон, говорят, нацелился сватать Зару из интерната. — Мой ход? — спросил партнер. — А что, родители могут и отдать ее за Хурьска, согласиться на калы́м[21]. И когда это у нас кончится! Угу, мой ход?.. Тогда я забираю у тебя королеву!
Глава IV
— Вот сюда садись, на этот стул, — сказал Артаган своему заместителю, поднимаясь с председательского места. — Теперь это твой стул. Усма́н топтался с мрачным лицом у входа в кабинет. — Садись, — негромко повторил Артаган. — Возле коня не топчутся, а сразу вскакивают в седло. Усман сел на председательское место. Артаган начал раскладывать бумаги, которые надо смотреть им обоим. — Отец не отговаривал тебя от председательской должности? — рассеянно полюбопытствовал Артаган, листая бумаги. — Что, уж и ногой ступить нельзя без отцовского совета? — Усман выпятил упрямую нижнюю губу, по-хозяйски выравнивая стопку книг на столе. — Не знаю, как со своим отцом, но со мной ты всю жизнь упрямо себя ведешь, все время перечишь… — проворчал Артаган. — Еще с тех пор, как на школьной скамье у меня в классе сидел. Своенравный ты человек… — Я был твоим учеником и в школе, и здесь, в правлении, — с нарочитой смиренностью ответил Усман, ухмыляясь. Но старик и бровью не повел при этих едко-двусмысленных словах. — Своенравный, упрямый… — говорил, как бы сам с собой, Артаган. — Сел на председательский стул и, конечно, убежден, что шутя сделаешь колхоз лучшим в стране… С такими честолюбивыми людьми горе одно… Такие, как ты, хорошо умеют делать только одно: давить на других, подстегивать: «Давай, давай, давай!» Лишь бы потом козырнуть перед всем миром: вот чего я добился! — Слушай, во́к-саг[22], — вскочил Усман. — Что ты вчера говорил на собрании, как меня расписывал перед колхозниками — и что говоришь сейчас! — А хуже всего, что ты вспыльчивый… — Я вспыхиваю лишь тогда, когда несправедливость слышу! — А что же ты вчера на собрании не вспыхнул? Разве справедливостью было, что я колхозникам говорил о тебе только хорошее? Да, сладкого мало будет Ца-Батою с таким председателем. Боюсь, что ты завалишь даже то, что я с таким трудом слепил… Садись, садись на свое место. Оно же пока не обжигает? «Воллахи, обжигает… — подумал уныло Усман. — Но как было отказаться? И почему я всю жизнь должен слушаться этого Артагана?» Сколько обидного Артаган наговорил Усману несколько дней назад, когда уговаривал не отказываться от председательства! И трусом назвал, и лентяем, мечтающим в свои тридцать пять лет отсиживаться в заместителях у кого-нибудь за спиной. …Зазвонил телефон. Усман взял трубку. Он выслушал, потом помолчал, выпятил свою неукротимую нижнюю губу и рявкнул в трубку: — У телефона председатель! Теперь не Артаган Темиров председатель, а я. Да, я, я!.. Хорошо, хорошо. Подумаю и, если найду возможность, вышлю вам в район все, что надо… — «Не Темиров председатель, а я, я»! — передразнил Артаган. — Вот это уже разговор. Перестал топтаться возле коня? На, разберись с этими бумагами в первую очередь, и повнимательнее. Усман рассмеялся и сказал со вздохом: — Погубил ты колхоз, взгромоздив меня в это седло! Мне и отец то же самое сказал. — Значит, с отцом ты все же советовался? Чтобы непременно поступить наоборот, по-своему. Так ты будешь советоваться и с членами правления? — Ты же с ними советовался? И я смогу. Интересно, избавлюсь ли я когда-нибудь от твоих поучений? — Интересно не это, а другое: почему я всегда терплю твою дерзость? Никогда у тебя не было почтения ко мне, Усман… «Вот и неправда», — подумал Усман. Он с глубоким почтением относился к Артагану, но ни за что не стал бы показывать этого. Артаган же любил Усмана по-отцовски, но бывал с ним беспощаден. Такие отношения зародились между ними еще в школьные времена, а потом на колхозных курсах, которыми стал заведовать Артаган после того, как в школу пришли дипломированные учителя. Усман сызмала дерзил своему учителю Артагану. Особенно не мог простить он учителю, что тот в сердцах крутанул ему однажды ухо за какую-то выходку. Тогда такие патриархальные приемы применялись в аулах наравне с прочими педагогическими методами. На курсах Усман вытворял что хотел, ничуть не боясь строгого заведующего. Став шофером колхозного грузовика, он однажды раскипятился из-за того, что нет запчастей, и председатель колхоза Артаган ссадил его с машины. Да и как было стерпеть председателю, если молокосос заорал при всех: «Начиная со школы, куда ни кинусь — везде ты передо мной! Да и какой из тебя председатель, если ты не можешь шоферов запчастями снабдить?!» Через неделю, когда Усман остыл, Артаган приказным порядком заставил его принять весь гараж и всю технику, жестко сказав: «Вот теперь я посмотрю, как у нас будет с запчастями при таком горластом начальнике!» — «И будет!» — выпятил губу Усман. В самом деле, он развернул такую колхозную мастерскую, что в Ца-Батой стали приезжать на поклон механизаторы-ремонтники из соседних хозяйств района. «Ну, больше-то ты мне ничего не сможешь сказать?» — спесиво осведомился тогда Усман у Артагана. Тот загадочно ответил: «Вот теперь-то есть смысл взяться за тебя». И заставил Усмана окончить вечернюю школу, хотя тот клялся, что скорее умрет, чем сядет за парту в таком возрасте, будучи отцом двух детей. Едва опамятовался Усман от школьных тетрадок, Артаган вынес решение правления: отстранить Усмана от должности, если он не поступит заочником в институт. А вскоре после того, как разъяренный Усман вдребезги и очень толково раскритиковал правление и лично председателя за упущения в работе, Артаган выдвинул его в свои заместители. Тут Усман развернулся было вовсю, но Артаган натянул вожжи, потому что его ученик был скоропалителен в решениях. Он лез делать многое и за председателя, да не всегда впопад и обижался, если осаживали. «Э-э, мальчик, — говаривал ему с усмешкой Артаган, — слишком быстро бежавшая вода до моря так и не добежала. Приглядывайся к делу, прислушивайся к людям. Народ никогда не даст ошибиться…» В какой-то момент в Усмане произошла неожиданная, но долго назревавшая перемена. Усман стал более степенным в суждениях, осмотрительным в делах, не спешил со своим словом, пока не выслушает чужое. «Созрел парень!» — решили одни. «Сник, опустил крылья, — заключил кое-кто. — Этот ведь не из таких, которые могут быть пристяжной лошадкой». «Тут и то, и другое, — подумал Артаган про себя. — С одной стороны, чувство ответственности появилось, а с другой — парень и в самом деле закиснет, если не дать ему смелого полета. Хорошо он махнет крылом, если бы ему простор сейчас открыть!» И вот пришло время выпустить в полный полет. Удержится ли орленок в воздухе? Не расшибется ли о камни? Не ринется ли назад трусливо к гнезду? Нет, не похоже, что струсит. Ишь как уверенно разложил локти на столе, будто бы вырос на этом месте. В трубку: «Я председатель». Артаган усмехнулся в душе: «Это он думает, что хорошо сдерзил мне. По-прежнему, по-мальчишески. На людях стал со мной почтительнее, а когда наедине, втягивает голову в плечи, сутулится и становится похожим на бычка, разгоняющегося для драки. Что-то рано он стал сутулиться, и седой волосок на виске сверкает. Нелегкую ношу я на тебя взвалил, мальчик, трудные мы люди и своенравные — цабатоевцы. Но я же верю в тебя, в твою честность, в твое хорошее упрямство…» — Помнишь, как ты кричал: «Куда ни кинусь — везде ты передо мной»? — усмехнулся Артаган. — Больше уже не придется тебе такое говорить. Усман сдвинул к переносице брови, давая понять, что и не подумает расчувствоваться, но вдруг спросил: — Ты будешь мне первое время помогать? Ты должен, хотя я, конечно, могу и сам справиться… — Усман втянул голову в плечи и набычился. — Я помогу тебе в одном, товарищ председатель, — сказал после раздумья Артаган. — Я построю дорогу. — Эх! — яростно почесал в затылке Усман. — Чует мое сердце, что и тут я не избавлюсь от тебя… Ведь эта дорога — опять же и она на плечи колхоза ляжет. Разве не так? Пользы от нее хозяйству еще неизвестно, сколько будет, а людей-то она от производства отвлечет! Легко ли колхознику: на плантации или на ферме работать надо, у себя в огороде покопаться надо, а теперь еще и в гости к этому проклятому Гурсу с лопатой иди! Артаган прикрыл веками глаза, вздохнул так, что вздрогнули крылья его тонкого, точеного, с крутой красивой горбинкой носа. «Кажется, рассердился», — пожалел о своих словах новый председатель. — Стройка окрылит людей, — сказал Артаган, открыв глаза, — они почувствуют новые силы… Разве это не обернется выгодой для твоего производства? А за этой стройкой потянется и многое другое. По этой дороге к нам придет и кое-что хорошее, чего мы даже не ждем… Усман хотел ответить своим привычным упрямством, но вдруг вспомнил, что он, Усман, теперь председатель. Для всех, в том числе и для Артагана. И не годится ему теперь даже перед ним, своим учителем, упрямо стоять на своем и только на своем. — Хорошо, — сказал он сдержанно. — Постараюсь тебя поддержать. Тем более, что и собрание так решило. Я же знаю, одного бензина мы сколько сэкономим на сокращении пути… — Твоя работа теперь не по спидометру должна мериться! — прервал его Артаган, что он делал редко. «Взбеленился старик», — подумал Усман и тут же взбеленился сам: — Я теперь не шофер, чтобы только по спидометру жить! Но цену машинам я знаю получше, чем другие. Сказал же я тебе — помогу. Но гробить технику на этой твоей стройке, отрывать транспорт от производства не дам. На моей совести — поля, фермы! «Взмахнул орленок крылом, — подумал Артаган, — а отлететь от гнезда еще боится, дальше своего желтенького клюва пока не видит… Ничего! Почувствует упругий воздух под крыльями — далеко полетит…» — Посмотрим, как у нас пойдет дело, — сухо сказал он. — Зови приемо-сдаточную комиссию, принимай колхоз, а то мне жаль времени: меня Гурс ждет…Глава V
Мчит свои летние воды гремящий Гурс, низвергаясь со снежных гор, через цабатоевское ущелье на простор равнины. Две части аула на спине реки — как переметная сума на крупе коня. Греется Ца-Батой на летнем жарком солнце, жмется от зноя к прохладе лесистых гор. Они даже в той стороне, куда тянется ущелье, потому что ущелье извилистое, его прорубала в горах река как хотела. Потому и получается, что Ца-Батой словно в котловине, словно на арене обширнейшего цирка, ярусы которого вздымаются ступенями кверху, пока не упрутся в голубой купол неба. У любых гор есть свой ритм. Одни горы на Кавказе почти не знают округлых линий. У них только остроконечные изломы, всегда прихотливые и не похожие один на другой. Горы над Ца-Батоем большей частью округлы. Кое-где сквозь густую зелень леса мелькнет белый скалистый излом, но линия тут же спешит выровняться, чтобы выйти к небу могучей округлостью. Вся гряда гор открывается глазу, после того как белые пологи утренних туманов медленно уйдут вверх. В это время на самом ближнем хребте, на самом ближнем ярусе можно, кажется, глядя снизу вверх из Ца-Батоя, различить на склонах дерево от дерева, настолько все хорошо видно через чистый, прозрачный воздух: вон там — орешник, а вот раскинулся клен, а вон там расталкивает всех богатырскими плечами дуб, а взметнулась выше всех, конечно, чинара, это же ее могучий ствол бронзовеет сквозь густую листву… Как только солнце немного прогреет утренний воздух, он начинает дрожать, искриться, и тогда кажется, что лес приходит в движение. Тогда могучая гряда ближнего хребта видится не просто твердью земной, покрытой непроницаемо густым лесом, а чередой клубящихся, еще живых, еще набухающих вулканических извержений, исторгнутых из глубин земли навстречу солнцу. За этой ближней грядой гор — следующая, посветлее. За ней — еще одна, едва видимая, дымчато-фиолетовая. И начинает казаться, что этой череде не будет конца. И начинает эта величавая мерность входить сдержанно-волнующим ритмом в сердце, что испытал особенно остро цабатоевский новосел — физрук школы Руслан. Похоже, что горы передали этот свой ритм почти всему живому и всему движущемуся в Ца-Батое и вокруг него. Кроме Гурса, который не признает ничего и живет по своим непостижимым законам. Идет перегон отар на альпийские пастбища, туда, где не так жарко, где нет назойливого овода, где особенно чисты водопои и густы, сочны травы. Неторопливый ритм движения у отар, текущих через зеленые тоннели, образованные в лесу густой листвой деревьев. На влажной и в солнечный полдень лесной тропе — следы острых копытец, и долго после шествия отары в тоннеле еще держится запах овечьей шерсти и пота. Даже не знаток не спутает овечьи следы с отпечатками таких же острых копытец диких кабанов, стада которых мечутся по лесу: у этих — свой ритм движения, порывистый, суматошный, словно перенятый у Гурса. Топор дровосека в лесу — он тоже живой, его лезвие сверкает вдали на опушке, вздымаясь и опускаясь. Можно не увидеть ни топора, ни дровосека, но и по срезам поваленных деревьев догадаешься, кто тут рубил. Искромсанный срез — значит, мальчонка неумело тюкал тупым топориком по дереву, пыхтя и торопясь от увлечения. Если орудовал сонный ленивец, лишь бы отбыть бригадный наряд, по которому следует заготовить воз жердей для полевой ограды, то и его почерк виден на срезах: удары — не след в след, топор то войдет в мякоть древесины глубоко, то чуть царапнет по лакированной коже. Свой ритм работы у ленивца, своя мерность в этой аритмии. Но вот тот ворох жердей заготовлен топором умелым, острым, ударами точными и сильными, хоть и неторопливыми. Такой почерк свойствен настоящим работникам-горцам, умеющим и крутизну хребта одолевать шагом не поспешным, не сбивчивым, а расчетливой ходьбой, когда знаешь, что за перевалом может открыться еще один, а за ним еще и еще… Так же как у задумчивой отары, так же как у доброго неустающего топора, есть свой ритм в цабатоевском ущелье у самых порывистых существ на свете — мотоциклистов. Это — ритм маятника. Путь от аула к аулу лежит через лога с крутыми склонами. Двухколесное чудовище низвергается в лог с выключенным мотором молча, а взлетает на противоположный склон с ревом. Но еще не исчез из поля зрения блеск спиц колес этого мотоцикла, как уже с той стороны молча низвергается вниз встречный, словно перехватив обратную эстафету. Так и качается этот маятник день и ночь, потому что в цабатоевском ущелье особая страсть к мотоциклам, в седле которых горец чувствует себя джигитом-всадником. Не только у мотоциклистов, но и просто у людей в Ца-Батое есть эта привычка к размеренности движений, жестов, говора, каким бы быстрым все это ни было. Сказанное вовсе не значит, что жизнь Ца-Батоя можно было бы изобразить на диаграмме ровной зубчатой линией. Среди этих зубчиков вам пришлось бы нет-нет, а изображать высокими пиками те или иные взлеты событий, дел, поступков, неожиданные всплески цабатоевских характеров. Но ведь и среди округлых, идущих чередой здешних гор попадаются, как уже сказано, и скалистые причудливые изломы, и необыкновенно высокая, острая вершина мелькнет иногда в особо ясный день где-нибудь вдали среди горных округлостей. А ритм гор остается все же своеобразным, цабатоевским. Все так же, как и весной, возятся с какими-то своими играми возле центрального пятачка — впрочем, это и в любом переулочке — младшие во главе с дерзкой Сацитой. Только Ризванчика уже нет возле них… Чей-то другой рев стоит над сонным аулом. Казбек и Майрбек завели коня в воду мелкого забережка Гурса и купают его. Майрбек плещет из ладошек воду на морду коню, тот мотает головой вверх-вниз. А Казбек тем временем трет ему жесткий круп пучком травы, грозно покрикивает, если конь невзначай хлестнет его хвостом по лицу. Тут как тут, конечно, и Денежка-Ахчи. Мальчики не подпускают ее к важному делу купания коня, но Денежка не мстительна, она все равно щедро делится со своими приятелями известными ей новостями, устроившись на корточках на берегу и укрыв голову от солнцепека большим зеленым зонтиком лопуха. Эта троица затевает какой-то новый поход, на этот раз вчетвером: берут с собой коня. В чайной,которая прилепилась под горой в том месте, где по воскресеньям собирается базар, стоит такой громкий говор, такой крик, словно базар уже собрался, и собрался именно здесь, прямо в стенах чайной. Выделяется голос Харона: «Не носить мне папахи, если я не докажу тебе…» Папаху Хурьск никогда и не носил, у него серая кепка-букле. Но насчет папахи так уж принято говорить… Мужской кураж! Если Сумасшедший Харон здесь, значит, будет и потасовка. Наверху, неподалеку от центрального пятачка, бурная торговая жизнь закипит к вечеру, когда люди придут с полей и ферм. Но и сейчас, в полдень, эта жизнь не замирает. В продуктовом магазине звякают об чашки весов гирьки, шуршит оберткой карамель. В универмаге не знакомый никому чабан, приехавший с какого-то далекого верхнего хутора в «столицу» ущелья Ца-Батой, ошалело замер перед полками с таким сказочным изобилием товаров. Продавщица Альби́ка понимает всю меру потрясения этого провинциала и не мешает ему. Пусть опамятуется, разглядит, что выбрать. Альбика нарядна, как всегда: белое капроновое платье, косынка с иностранными рисунками. Незамужняя Альбика некрасива и знает это. У нее хорошее место, здесь она всегда на виду и может показать себя лицом любому жениху. Не то что другие девушки, которых родители стараются не пускать дальше плетня. У тех только и радости — дважды в день сходить по воду к роднику. Уж так они, бедняжки, для этих походов наряжаются! Чабан наконец выбирает: седло! Нет, это не значит, что Альбика должна тотчас заворачивать покупку. У чабана великое недоверие в глазах, он знает, что лучшие седла делают кустари-дагестанцы за хребтом. А это — местпромовское. Может ли быть хорошим такое седло? Альбика зевает, прикрыв ладошкой кошачий ротик, и идет вдоль прилавка в мануфактурный отдел, перед которым высится белой глыбой толстая Маржа́н в холщовом платье до пят. Эта необъятная женщина чуть ли не раньше всех в ауле уходит на колхозную плантацию и в полдень уже возвращается домой. По старости она могла бы и вовсе не ходить на колхозную работу, но ей скучно без людей. Проводила бы она в поле и весь день, если бы дома не ждал свой огород; приходится помогать невестке. Маржан басом требует то одну ткань, то другую, выспрашивает, какая же крепче и дешевле, и так устает от этого, что лицо ее делается красным, как вон тот надутый до предела воздушный шар, и покрывается каплями пота. — Отдохни, — говорит ей Альбика сонно. — И правда, отдохну-ка, — басит Маржан. Она подтыкает длинное платье под кушак и с кряхтением опускается на пол, приваливается спиной к прилавку — точно так, как делает в поле, когда устанет и захочется посидеть в тени пирамиды из прошлогодних кукурузных стеблей. Скрипит местпромовская кожа — это чабан мнет, тискает, нюхает, пробует на зуб все части седла. Похрапывает Маржан. Торговля идет. Наискосок от продуктовой лавки и универмага, на другом краю пятачка, буйствуют конкуренты кооперативной и государственной торговли. Перед зданием бывшей мечети, в котором теперь клуб, стоит на четырех кривых кольях коротенький прилавок. На нем ведро с редиской, рядом — груда газетных кулечков с перцем молотым, десяток заржавленных иголок для примусов и штабелек длинных самодельных конфет, завернутых в цветные витые ленточки. Конкуренты точно учли конъюнктуру, выбросили на этот малый цабатоевский рынок более или менее ходовой товар. …К вечеру аул оживает. Пропылят грузовики, протарахтит телега, процокает копытами по камням конь усталого бригадира. Быстрее начинает качаться маятник мотоциклистов. Дожевывая на ходу свои дневные порции вкусной горной травы, с ожиданием домашней кормежки в грустных глазах, пропылят стадом коровы, то и дело отделяясь одна от другой, чтобы свернуть к своему плетню. Дневной зной сникает в горах быстро, прохлада мчится с хребтов в Ца-Батой скорее, чем уплывает на покой за дальнюю вершину солнце. И тогда важно сходятся на свое излюбленное место старики. Они рассаживаются на длинной скамье в стороне от пятачка. К ним по белесым ступеням сельсовета спускается юрт-да — «отец села». Он высок, грузен, хмур лицом от дневных забот, этот хлопотливый Абдурахман, председатель сельсовета. — Ну, выполнили план по прижиманию печати к бумагам? — шамкает кто-нибудь из стариков и подвигается, чтобы дать место Абдурахману: юрт-да хоть и не совсем еще старик, но посадить с собой его можно, не то что какую-то молодежь, будь это даже сам нынешний председатель колхоза Усман. — Что вы тут расселись, бороды свои свесили, палками в землю стучите? — гулко спрашивает юрт-да, занимая место и отдуваясь. — В ауле безобразия, а у кого людям брать разум, если не у вас? Раньше и старики были как старики, умели слово веское сказать испорченным людям…
 — Дуц, дуц[23], — снисходительно разрешают старики.
Абдурахман рассказывает, кто и что за день натворил, чей паршивец утаился от всеобуча, какие ругательные звонки были в адрес Ца-Батоя из района за отставание с заготовкой яиц или благоустройством аула.
Молодые почтительно стоят поодаль, слушают стариковскую беседу, предварительно цыкнув на Сациту и ее дружков, чтобы убирались со своими играми подальше, не мешали старикам.
Речь на этом годека́не[24] идет обо всем. Больше всего, конечно, обсуждаются виды на урожай, первые шаги нового председателя колхоза и предстоящая стройка дороги. Международные вопросы — само собой: акции держав мира, поведение и поступки глав правительств, всяких там президентов и премьеров — ежедневно получают должную и всестороннюю оценку.
Изредка беседа прерывается, если кто-нибудь из стариков кивнет и пальцем подзовет проходящего мимо молодого человека. Тот становится перед стариками с почтением на лице, с покорно заложенными за спину руками, однако чуть-чуть выставив ногу вперед в знак своей независимости. Заседающие на скамье сдержанно, в необидных выражениях отчитывают молодого человека, если его прегрешение не очень велико.
С Хароном же сейчас будет иной разговор. Его подзывают, он тащит с собой и приятелей, однако тех старики отгоняют: «Вы идите своей дорогой, с вами говорить бесполезно, если вы дружите с таким пропащим человеком, как Харон».
— Ты опять учинил драку? — говорят ему. — И когда ты остепенишься! Если у человека уже могут отрасти борода-усы, считается, что ум прибавился. У тебя же этого мы пока не замечаем.
— А разве вы должны замечать все, что кто-нибудь сделает? — смотрит на стариков в упор своими болотными глазами Хурьск.
— Э-э, что с него возьмешь!.. Наши предки верно говорили, что с голого и семерым штанов не снять!
«У-у, длиннобородые козлы!.. — злится в душе Харон. — И как они всё узнают так быстро?» Не было бы тут, среди стариков, дяди Харона — Джаби, он бы им ответил, этим козлам…
Джаби молчит, он обязан помалкивать, потому что у него непривычное, странное положение. Он совершенно неожиданно для себя попал в ранг стариков! Совсем недавно умер единственный старик его фамилии, и пятидесятилетний Джаби оказался старейшим в роду. Теперь все шишки на него, теперь он за всех родичей в ответе перед Ца-Батоем. Теперь уже не зайдешь запросто в пивную с беззаботными одногодками, надо часик-другой потолкаться для приличия и возле стариков. Сесть с ними он пока стесняется, в разговор не лезет, чтобы не сочли развязным выскочкой, спешащим использовать свой новый ранг.
Однако Джаби видит, что Харон собирается опять открыть свой нахальный рот, и поэтому спешит уберечь фамилию от нового позора и изрекает по адресу племянника мудрость, достойную старика-новобранца:
— Ум глупого — молчание! Понял? Молчи, слушай старших…
— «Драка, драка»… — цедит сквозь зубы Харон. — А что я, стоять должен, если лезут, если обозвали по-обидному?
— В старину говаривали, — шамкает один из стариков, — что осел, которого назвали ослом, кинулся от огорчения в пропасть.
— А кто вы такие, чтобы мне суд учинять? Теперь и без вас есть кому наводить порядок: народная дружина, товарищеский суд, сельсовет!
— О сельсовете тоскуешь? — грозит тяжелым пальцем Абдурахман. — Получишь ты у меня сельсовет, доберусь я до тебя!
Коренастый богатырь Джаби сверлит племянника глазами, багровеет от гнева. Скулы Джаби ходят под тугой кожей, как жернова. Он сжимает пудовые кулаки и не выдерживает, рявкает:
— Уйди с глаз, собачий сын! Таких, как ты, бог создавал только для того, чтобы земля не пустовала… Вон отсюда, ты недостоин стоять перед людьми!
Юрт-да унимает богатыря:
— Ты что, хочешь оказаться еще глупее своего племянника. Да ведь если ты к нему этот свой кулак приложишь, то Харону никогда уже не потребуется сельсовет…
Харон, обрадованно сплюнув, спешит к своим ухмыляющимся приятелям.
Старик Муни́, глядя ему вслед, высказывает общее мнение:
— Испортилась молодежь! — и встает, затягивает свой бешмет на тощем животе, смущенно сообщает: — Киномеханик говорил, что привез на сегодня индийский фильм… Правда, неприлично нам вертеться в клубе среди молодежи, но, может, пойдем?
— Остопарлах! — бьет председатель сельсовета ладонью о ладонь. — И что вы, старики, помешались на этих индийских фильмах? Правильно, в индийских — музыка и любовь. Но тебе-то, Муни, какое дело до музыки, если ты глухой?!
— Он на любовь ходит, — вворачивает кто-то. — Ну, пойдемте уж в кино, поглядим, как Муни будет наслаждаться, порадуемся за него…
Темнеет быстро, Ца-Батой замирает. Лишь доносится откуда-то магнитофонная музыка да вырывается из здания бывшей мечети стрекот киноаппарата.
Завтра чуть свет — кто в поле, кто на ферму, кто на колхозную стройку. Потечет обычная жизнь аула, которую можно было бы изобразить горизонтальной линией-диаграммой с острыми небольшими зубчиками. Но если говорить о завтрашнем дне, то пришлось бы изобразить на этой диаграмме излом пика, взметнувшегося вверх. Потому что завтра по Ца-Батою прошагает чуть свет с лопатой на плече бывший председатель колхоза Артаган.
Куда? Почему с лопатой, если у него и его жены Залейхи огород не в поле, а при доме?
Не больше чем через час после этого события новость будет обсуждаться и на картофельном поле колхоза, и в кукурузоводческой бригаде, и среди табаководов, и на фермах, на дворе, и в правлении, и в сельсовете, и в школе, и на лесоучастке, и в магазинах. И, конечно же, на малом рынке, откуда новость, может быть, и растечется по Ца-Батою со скоростью волн Гурса. Ведь именно сюда подходил Артаган, чтобы купить пучок редиски. И на плече у него была лопата — это верно, как то, что мы сейчас видим с вами вот это синее небо, ва, нах!
Ну кому какое дело, куда пошел человек с лопатой! Почему целый аул должен обсуждать этот факт, как событие международного значения?
В школу эту новость принесла Денежка-Ахчи. Ее-то, Денежку, такая новость не интересует ни капельки, но должна же Ахчи поделиться с людьми тем, что слышала от других!
Казбек и Майрбек опять, уже в который раз, допытывались у нее с презрением:
— Скажи, Денежка, почему каждый слух, каждая новость, каждая сплетня прилипает к твоим растопыренным ушам?
Они довели ее до слез, вмешался учитель.
— А в том дело, — ответил ему в сердцах Майрбек, — что у нее в голове одни слухи. Даже то, что Артаган пошел куда-то с лопатой, касается ее…
— А куда он пошел? — заинтересовался учитель.
Так новость достигла учительской.
Чуть попозже Руслан был в интернате и говорил Заре:
— Удивительно, как эта новость взбудоражила цабатоевцев!
— А какая новость? Ах, вот что… Понимаешь, дело не в Артагане. Людей интересует дорога: в самом ли деле удастся ее построить? Вчера Ширвани целый час об этом размышлял вслух.
— Значит, сюда первым донес эту новость я? Здорово получается!
Страшно заинтересовался новостью Сяльмирза. Он почесал ногтем холеную бороду и сказал домочадцам, что тут есть над чем подумать.
— Этот Артаган зря никуда не пойдет. Что же вы, глупые, не спросили, куда это он так рано, да еще с редиской? Хотя у такого разве спросишь, из него клещами надо вытягивать…
Потом Сяльмирза начал раскидывать умом, что давалось ему обычно нелегко:
— Я думаю так: он пошел червей накопать для рыбалки… Нет-нет, стойте. Артаган никогда не рыбачил, да в мутной воде Гурса сейчас и самую шальную рыбу не подцепишь. Может, хочет в лесу накопать дикой репы? Или ведерко глины набрать над обрывом возле реки, чтобы слепить расколовшийся кувшин? Э-э, что я говорю: его Залейха разве умерла, завещала женское дело мужчине?
Вспотев от усилий, Сяльмирза оставил в покое свою голову, плюнул и сказал с досадой:
— Нет, тут даже мне не додуматься. Вот тем-то и плохи люди вроде Артагана, что от них покоя нет нормальным людям, аллах бы его покарал…
…Когда новость, гремя бубенчиками, закатилась в сельсовет, Абдурахман поморщился, отмахнулся, сказал, что достался ему самый удивительный сельсовет в мире — населенный одними бездельниками, знающими только погоню за любым пустяковым слухом. Тотчас вслед за этим он зычно крикнул в открытую дверь:
— Эй, кто там есть! Ну-ка, сбегай расспроси у людей, в какую сторону и зачем подался Артаган?
Поскольку в предыдущей главе уже сказано немножко о характере жизни и облике Ца-Батоя, нелишне бегло рассмотреть хотя бы парочку черт самих цабатоевцев.
Значительное место в их облике занимает, как это уже видно, нескончаемое любопытство. Истинного цабатоевца прямо-таки трясет, если он за день не услышит чего-нибудь новенького. Причем знают ведь хорошо здешние люди, что оно, это самое любопытство, далеко не всегда доводит до добра. Достаточно сказать, что именно любопытство породило такой обременительный обычай, как гостеприимство.
Могут, правда, сказать, что обычай этот известен был еще восемь тысяч лет назад и свойствен любому народу. Но попробуйте-ка спросить: а где именно зародилось гостеприимство, в каком краю планеты? Никто не знает. Бесспорно, ученые со временем установят: гостеприимство зародилось в Ца-Батое.
И совсем не потому, что здешние люди отличались испокон веков какой-то сверхдобротой или особой приветливостью. А потому, что в самой основе обычая гостеприимства лежит не что иное, как нестерпимый зуд любопытства. В самом деле. Жили люди в далекие времена в горах, как в каменном каземате, отгороженные от мира непроходимыми хребтами или полчищами иноземных пришельцев, кровожадно карауливших горцев у выхода из ущелья. Новость можно было узнать, лишь перестукиваясь тюремным кодом с соседними племенами через стенки хребтов.
А как жить цабатоевцу без новости? Принести ее мог только какой-нибудь пришелец. На него накидывались со всех сторон, тащили его из дома в дом, кормили и всячески ублажали, забросив все свои наиважнейшие дела. Лишь бы рассказал что-нибудь новенькое. Установили даже правило: первые три дня не спрашивать у пришельца, кто он такой, как его зовут и зачем явился. Вдруг пришел сводить какие-нибудь счеты, вдруг он чей-то кровник — тогда ведь конец рассказам, надо переходить к делу. Пусть лучше три дня рассказывает, за это время из него можно вытрясти ворох новостей.
Когда появились радио, газеты, телевизор, доставляющие тебе новость прямо в дом, цабатоевцы спохватились, что теперь незачем переводить продукты и вполне можно отказаться от такого пережитка, как гостеприимство. Но поздно спохватились! Обычай вошел прямо-таки в кровь горцу. Ничего не оставалось делать, как объявить его любимой традицией.
— Может быть, все-таки откажемся от этой разорительной традиции? — предлагал какой-нибудь прогрессивно мыслящий цабатоевец. — Можно же ведь довольствоваться той пищей, которую дают нашему любопытству радио, газета, телевизор.
— Нельзя! — отвечали ему хором. — Подумай сам: чуре́к, чапильги́, то-бера́м, колд-дя́тта[25] — все это тоже очень хорошая пища, а все равно будешь ходить полуголодным, если тебе не досталось мясо. Так и тут: нужна новость, но живая! Которую, как говорится, можно пощупать. Попробовать зубом… Как это — быть совсем без мяса?
— Воллахи, только из чистого упрямства вы так рассуждаете! — утверждал прогрессивный человек.
Тут можно перейти от разговора о любопытстве ко второй существенной черте цабатоевского характера: неслыханному упрямству.
Вот конкретный пример: колхозный тракторист Тута́. Порядочный-таки лентяй, но сейчас речь не об этом. Он считался когда-то неплохим пловцом и решался переплыть Гурс в самое половодье. Однажды при заплыве ему свело судорогой в воде ногу, и его вытащили из Гурса полумертвым. С тех пор Туту поташнивает даже при виде маленького ручейка, в котором отважно купается воробей. Страх стал еще больше после того, как Тута свалился в реку, поскользнувшись на обледенелом шатком мостике.
Ходить на машинный двор колхоза, к своему трактору, Тута вынужден через Гурс. Прежде чем ступить на досочку зыбкого подвесного мостика, он произносит по адресу Гурса все ругательные слова, какие знает. Потом поминает аллаха, хотя и не слывет верующим. Потом призывает гордость и мужество своих предков до седьмого колена. Наконец, повторяет слова своей матери, всегда провожающей мужчин из дому старинным напутствием: «Правой ногой вперед — и с богом…»
Тута заносит правую ногу на мостик, однако в этот момент находится всегда кто-нибудь, кто сочувственно крикнет со стороны:
— Ва, Тута, зря ты в обход не идешь, по Большому мосту. Ведь на самой середине вот этого дохлого мостика тебе опять ногу может свести судорогой!
— Чтоб тебе и всей твоей родне языки судорогой свело! — отвечает Тута от всего сердца, трусливо вцепляясь обеими руками в трос, заменяющий перила мостика. — Интересно знать, до сегодняшнего дня, до сегодняшних моих первых седин, ты меня, что ли, по земле водил? Это почему же я потащусь в обход, если перед моими глазами короткий путь лежит!
— Извини, я о твоих детях подумал, и только, — обижается советчик. — А что касается отца этих детей… Да чтоб он опять свалился в реку и Гурс протащил его задницей по камням до самого Каспия!..
После такого напутствия идти по шаткому мостику не легче. Тоска охватывает Туту обычно на самой середине реки. И не оттого, что Гурс в середине течения особенно страшен. Просто здесь край дощечки настила обломился и мостик в этом месте чуть шире ладони. Именно отсюда Тута и свалился прямо в гребень потока в прошлом году. Заморозки грянули рано. Гурс был тогда еще многоводен, его брызги достигали настила и образовали наледь. Скользким от льда был и трос, да еще ветер раскачал мостик. Разве удержишься?
Случается, что Тута сдается на этом самом проклятом месте и делает здесь долгую передышку. Обхватив трос, он размышляет относительно безрукости сельских строителей, не могущих хотя бы заменить эту коварную дощечку, поминает недобрым словом сельсовет, правление колхоза и всех цабатоевских председателей, вместе взятых.
Желающие пройти по мостику кричат Туте с обоих берегов, чтобы он скорее решал, двинется ли он с места или останется там на ночлег. Ведь разминуться с ним невозможно: он толст и всегда с грузом, так как на работу идет с мешком еды, а с работы обязательно тащит домой в хозяйство куски реек, труб, связки гаек.
А Тута угрожающе кричит и на тот и на другой берег, чтобы никто не смел ступать на мостик, не то начнется качка.
Однажды Тута учинил председателю колхоза скандал за то, что правление не заменяет поломанную доску.
— А тебе самому трудно это сделать? — рассердился Артаган. — Ты ведь тоже в этом ауле родился.
— Конечно! — поддержал кто-то. — Ведь с чужими рейками ты же добираешься до середины, добрался бы и с доской для ремонта…
— А руки, руки-то у меня одни, чтоб вы все тут сгорели синим огнем! Я же ими за трос держусь, чем же я ремонтировать мостик буду — ногами?
— Слушай, Тута, — поинтересовался Артаган, — а почему ты не можешь через речку по Большому мосту? Там что, деньги с тебя за проход требуют, что ли?
— По Большому мосту я и на своем тракторе могу проехать. Да что это, в самом деле! Разве я, такой же советский человек, как ты, и тоже рожденный матерью, а не коровой, не имею права ходить там, где хочу?! А может быть, этот висячий мостик — пусть попадет в ад его изобретатель! — уже назван, Артаган, твоим именем? Я же сам натягивал трактором тросы этого мостика!
Этот маленький пример может дать некоторое представление об упрямстве жителей аула. Цабатоевцы говорят о себе так: «Если спросить нас, какие мы по характеру, мы можем ответить, что наш паспорт — Тута на висячем мостике».
Упрямые, желающие идти только напрямую, не признавая никаких обходов… Может быть, так приучили горы еще в старину, в пору сплошного бездорожья. Встретилась на пути расселина в скалах, или смертельно опасная осыпь, или бурный поток — что ж, обходить, терять день и охотничью добычу, которая спасет семью от голода?
После сказанного о Туте легче будет понять, почему многих в Ца-Батое так всколыхнула весть о намерении строить дорогу через ущелье. Путь в Ца-Батой из Грозного есть. Километров шестьдесят едешь в горы по отличной трассе, большей частью даже асфальтированной. А потом, от райцентра, останется сделать крюк по лесной дороге, которая в непогоду становится вовсе непроходимой лишь в одном месте, где самая глубокая лощина.
Если же пробить дорогу через ущелье, то путь из Грозного в Ца-Батой составит всего километров тридцать пять. Что и говорить, солидное сокращение. И все же стоит ли в век автомобилей так уж тосковать по нему?
— Противно колесить в объезд, вот что, — отплевываются цабатоевцы. — Душа не позволяет! Особенно же лопается сердце из-за этих последних километров…
— Вы же не на ишаках ездите, а на машинах. Подумаешь, лишние километры…
— Да, но в какую сторону? Едешь-едешь, и вдруг поворот чуть ли не назад, вот что противно. Там, где только что были твои глаза, — теперь твой затылок! Так по пути в Грозный, так и на обратном пути. Скажите, кому это нужно? Ведь если к такому привыкнуть, то до самой могилы будешь с перевернутой душой ходить!
…Если не считать двух описанных черт — любопытства и упрямства, — все остальные качества характера цабатоевцев просто великолепны и поэтому не нуждаются в примерах.
— Дуц, дуц[23], — снисходительно разрешают старики.
Абдурахман рассказывает, кто и что за день натворил, чей паршивец утаился от всеобуча, какие ругательные звонки были в адрес Ца-Батоя из района за отставание с заготовкой яиц или благоустройством аула.
Молодые почтительно стоят поодаль, слушают стариковскую беседу, предварительно цыкнув на Сациту и ее дружков, чтобы убирались со своими играми подальше, не мешали старикам.
Речь на этом годека́не[24] идет обо всем. Больше всего, конечно, обсуждаются виды на урожай, первые шаги нового председателя колхоза и предстоящая стройка дороги. Международные вопросы — само собой: акции держав мира, поведение и поступки глав правительств, всяких там президентов и премьеров — ежедневно получают должную и всестороннюю оценку.
Изредка беседа прерывается, если кто-нибудь из стариков кивнет и пальцем подзовет проходящего мимо молодого человека. Тот становится перед стариками с почтением на лице, с покорно заложенными за спину руками, однако чуть-чуть выставив ногу вперед в знак своей независимости. Заседающие на скамье сдержанно, в необидных выражениях отчитывают молодого человека, если его прегрешение не очень велико.
С Хароном же сейчас будет иной разговор. Его подзывают, он тащит с собой и приятелей, однако тех старики отгоняют: «Вы идите своей дорогой, с вами говорить бесполезно, если вы дружите с таким пропащим человеком, как Харон».
— Ты опять учинил драку? — говорят ему. — И когда ты остепенишься! Если у человека уже могут отрасти борода-усы, считается, что ум прибавился. У тебя же этого мы пока не замечаем.
— А разве вы должны замечать все, что кто-нибудь сделает? — смотрит на стариков в упор своими болотными глазами Хурьск.
— Э-э, что с него возьмешь!.. Наши предки верно говорили, что с голого и семерым штанов не снять!
«У-у, длиннобородые козлы!.. — злится в душе Харон. — И как они всё узнают так быстро?» Не было бы тут, среди стариков, дяди Харона — Джаби, он бы им ответил, этим козлам…
Джаби молчит, он обязан помалкивать, потому что у него непривычное, странное положение. Он совершенно неожиданно для себя попал в ранг стариков! Совсем недавно умер единственный старик его фамилии, и пятидесятилетний Джаби оказался старейшим в роду. Теперь все шишки на него, теперь он за всех родичей в ответе перед Ца-Батоем. Теперь уже не зайдешь запросто в пивную с беззаботными одногодками, надо часик-другой потолкаться для приличия и возле стариков. Сесть с ними он пока стесняется, в разговор не лезет, чтобы не сочли развязным выскочкой, спешащим использовать свой новый ранг.
Однако Джаби видит, что Харон собирается опять открыть свой нахальный рот, и поэтому спешит уберечь фамилию от нового позора и изрекает по адресу племянника мудрость, достойную старика-новобранца:
— Ум глупого — молчание! Понял? Молчи, слушай старших…
— «Драка, драка»… — цедит сквозь зубы Харон. — А что я, стоять должен, если лезут, если обозвали по-обидному?
— В старину говаривали, — шамкает один из стариков, — что осел, которого назвали ослом, кинулся от огорчения в пропасть.
— А кто вы такие, чтобы мне суд учинять? Теперь и без вас есть кому наводить порядок: народная дружина, товарищеский суд, сельсовет!
— О сельсовете тоскуешь? — грозит тяжелым пальцем Абдурахман. — Получишь ты у меня сельсовет, доберусь я до тебя!
Коренастый богатырь Джаби сверлит племянника глазами, багровеет от гнева. Скулы Джаби ходят под тугой кожей, как жернова. Он сжимает пудовые кулаки и не выдерживает, рявкает:
— Уйди с глаз, собачий сын! Таких, как ты, бог создавал только для того, чтобы земля не пустовала… Вон отсюда, ты недостоин стоять перед людьми!
Юрт-да унимает богатыря:
— Ты что, хочешь оказаться еще глупее своего племянника. Да ведь если ты к нему этот свой кулак приложишь, то Харону никогда уже не потребуется сельсовет…
Харон, обрадованно сплюнув, спешит к своим ухмыляющимся приятелям.
Старик Муни́, глядя ему вслед, высказывает общее мнение:
— Испортилась молодежь! — и встает, затягивает свой бешмет на тощем животе, смущенно сообщает: — Киномеханик говорил, что привез на сегодня индийский фильм… Правда, неприлично нам вертеться в клубе среди молодежи, но, может, пойдем?
— Остопарлах! — бьет председатель сельсовета ладонью о ладонь. — И что вы, старики, помешались на этих индийских фильмах? Правильно, в индийских — музыка и любовь. Но тебе-то, Муни, какое дело до музыки, если ты глухой?!
— Он на любовь ходит, — вворачивает кто-то. — Ну, пойдемте уж в кино, поглядим, как Муни будет наслаждаться, порадуемся за него…
Темнеет быстро, Ца-Батой замирает. Лишь доносится откуда-то магнитофонная музыка да вырывается из здания бывшей мечети стрекот киноаппарата.
Завтра чуть свет — кто в поле, кто на ферму, кто на колхозную стройку. Потечет обычная жизнь аула, которую можно было бы изобразить горизонтальной линией-диаграммой с острыми небольшими зубчиками. Но если говорить о завтрашнем дне, то пришлось бы изобразить на этой диаграмме излом пика, взметнувшегося вверх. Потому что завтра по Ца-Батою прошагает чуть свет с лопатой на плече бывший председатель колхоза Артаган.
Куда? Почему с лопатой, если у него и его жены Залейхи огород не в поле, а при доме?
Не больше чем через час после этого события новость будет обсуждаться и на картофельном поле колхоза, и в кукурузоводческой бригаде, и среди табаководов, и на фермах, на дворе, и в правлении, и в сельсовете, и в школе, и на лесоучастке, и в магазинах. И, конечно же, на малом рынке, откуда новость, может быть, и растечется по Ца-Батою со скоростью волн Гурса. Ведь именно сюда подходил Артаган, чтобы купить пучок редиски. И на плече у него была лопата — это верно, как то, что мы сейчас видим с вами вот это синее небо, ва, нах!
Ну кому какое дело, куда пошел человек с лопатой! Почему целый аул должен обсуждать этот факт, как событие международного значения?
В школу эту новость принесла Денежка-Ахчи. Ее-то, Денежку, такая новость не интересует ни капельки, но должна же Ахчи поделиться с людьми тем, что слышала от других!
Казбек и Майрбек опять, уже в который раз, допытывались у нее с презрением:
— Скажи, Денежка, почему каждый слух, каждая новость, каждая сплетня прилипает к твоим растопыренным ушам?
Они довели ее до слез, вмешался учитель.
— А в том дело, — ответил ему в сердцах Майрбек, — что у нее в голове одни слухи. Даже то, что Артаган пошел куда-то с лопатой, касается ее…
— А куда он пошел? — заинтересовался учитель.
Так новость достигла учительской.
Чуть попозже Руслан был в интернате и говорил Заре:
— Удивительно, как эта новость взбудоражила цабатоевцев!
— А какая новость? Ах, вот что… Понимаешь, дело не в Артагане. Людей интересует дорога: в самом ли деле удастся ее построить? Вчера Ширвани целый час об этом размышлял вслух.
— Значит, сюда первым донес эту новость я? Здорово получается!
Страшно заинтересовался новостью Сяльмирза. Он почесал ногтем холеную бороду и сказал домочадцам, что тут есть над чем подумать.
— Этот Артаган зря никуда не пойдет. Что же вы, глупые, не спросили, куда это он так рано, да еще с редиской? Хотя у такого разве спросишь, из него клещами надо вытягивать…
Потом Сяльмирза начал раскидывать умом, что давалось ему обычно нелегко:
— Я думаю так: он пошел червей накопать для рыбалки… Нет-нет, стойте. Артаган никогда не рыбачил, да в мутной воде Гурса сейчас и самую шальную рыбу не подцепишь. Может, хочет в лесу накопать дикой репы? Или ведерко глины набрать над обрывом возле реки, чтобы слепить расколовшийся кувшин? Э-э, что я говорю: его Залейха разве умерла, завещала женское дело мужчине?
Вспотев от усилий, Сяльмирза оставил в покое свою голову, плюнул и сказал с досадой:
— Нет, тут даже мне не додуматься. Вот тем-то и плохи люди вроде Артагана, что от них покоя нет нормальным людям, аллах бы его покарал…
…Когда новость, гремя бубенчиками, закатилась в сельсовет, Абдурахман поморщился, отмахнулся, сказал, что достался ему самый удивительный сельсовет в мире — населенный одними бездельниками, знающими только погоню за любым пустяковым слухом. Тотчас вслед за этим он зычно крикнул в открытую дверь:
— Эй, кто там есть! Ну-ка, сбегай расспроси у людей, в какую сторону и зачем подался Артаган?
Поскольку в предыдущей главе уже сказано немножко о характере жизни и облике Ца-Батоя, нелишне бегло рассмотреть хотя бы парочку черт самих цабатоевцев.
Значительное место в их облике занимает, как это уже видно, нескончаемое любопытство. Истинного цабатоевца прямо-таки трясет, если он за день не услышит чего-нибудь новенького. Причем знают ведь хорошо здешние люди, что оно, это самое любопытство, далеко не всегда доводит до добра. Достаточно сказать, что именно любопытство породило такой обременительный обычай, как гостеприимство.
Могут, правда, сказать, что обычай этот известен был еще восемь тысяч лет назад и свойствен любому народу. Но попробуйте-ка спросить: а где именно зародилось гостеприимство, в каком краю планеты? Никто не знает. Бесспорно, ученые со временем установят: гостеприимство зародилось в Ца-Батое.
И совсем не потому, что здешние люди отличались испокон веков какой-то сверхдобротой или особой приветливостью. А потому, что в самой основе обычая гостеприимства лежит не что иное, как нестерпимый зуд любопытства. В самом деле. Жили люди в далекие времена в горах, как в каменном каземате, отгороженные от мира непроходимыми хребтами или полчищами иноземных пришельцев, кровожадно карауливших горцев у выхода из ущелья. Новость можно было узнать, лишь перестукиваясь тюремным кодом с соседними племенами через стенки хребтов.
А как жить цабатоевцу без новости? Принести ее мог только какой-нибудь пришелец. На него накидывались со всех сторон, тащили его из дома в дом, кормили и всячески ублажали, забросив все свои наиважнейшие дела. Лишь бы рассказал что-нибудь новенькое. Установили даже правило: первые три дня не спрашивать у пришельца, кто он такой, как его зовут и зачем явился. Вдруг пришел сводить какие-нибудь счеты, вдруг он чей-то кровник — тогда ведь конец рассказам, надо переходить к делу. Пусть лучше три дня рассказывает, за это время из него можно вытрясти ворох новостей.
Когда появились радио, газеты, телевизор, доставляющие тебе новость прямо в дом, цабатоевцы спохватились, что теперь незачем переводить продукты и вполне можно отказаться от такого пережитка, как гостеприимство. Но поздно спохватились! Обычай вошел прямо-таки в кровь горцу. Ничего не оставалось делать, как объявить его любимой традицией.
— Может быть, все-таки откажемся от этой разорительной традиции? — предлагал какой-нибудь прогрессивно мыслящий цабатоевец. — Можно же ведь довольствоваться той пищей, которую дают нашему любопытству радио, газета, телевизор.
— Нельзя! — отвечали ему хором. — Подумай сам: чуре́к, чапильги́, то-бера́м, колд-дя́тта[25] — все это тоже очень хорошая пища, а все равно будешь ходить полуголодным, если тебе не досталось мясо. Так и тут: нужна новость, но живая! Которую, как говорится, можно пощупать. Попробовать зубом… Как это — быть совсем без мяса?
— Воллахи, только из чистого упрямства вы так рассуждаете! — утверждал прогрессивный человек.
Тут можно перейти от разговора о любопытстве ко второй существенной черте цабатоевского характера: неслыханному упрямству.
Вот конкретный пример: колхозный тракторист Тута́. Порядочный-таки лентяй, но сейчас речь не об этом. Он считался когда-то неплохим пловцом и решался переплыть Гурс в самое половодье. Однажды при заплыве ему свело судорогой в воде ногу, и его вытащили из Гурса полумертвым. С тех пор Туту поташнивает даже при виде маленького ручейка, в котором отважно купается воробей. Страх стал еще больше после того, как Тута свалился в реку, поскользнувшись на обледенелом шатком мостике.
Ходить на машинный двор колхоза, к своему трактору, Тута вынужден через Гурс. Прежде чем ступить на досочку зыбкого подвесного мостика, он произносит по адресу Гурса все ругательные слова, какие знает. Потом поминает аллаха, хотя и не слывет верующим. Потом призывает гордость и мужество своих предков до седьмого колена. Наконец, повторяет слова своей матери, всегда провожающей мужчин из дому старинным напутствием: «Правой ногой вперед — и с богом…»
Тута заносит правую ногу на мостик, однако в этот момент находится всегда кто-нибудь, кто сочувственно крикнет со стороны:
— Ва, Тута, зря ты в обход не идешь, по Большому мосту. Ведь на самой середине вот этого дохлого мостика тебе опять ногу может свести судорогой!
— Чтоб тебе и всей твоей родне языки судорогой свело! — отвечает Тута от всего сердца, трусливо вцепляясь обеими руками в трос, заменяющий перила мостика. — Интересно знать, до сегодняшнего дня, до сегодняшних моих первых седин, ты меня, что ли, по земле водил? Это почему же я потащусь в обход, если перед моими глазами короткий путь лежит!
— Извини, я о твоих детях подумал, и только, — обижается советчик. — А что касается отца этих детей… Да чтоб он опять свалился в реку и Гурс протащил его задницей по камням до самого Каспия!..
После такого напутствия идти по шаткому мостику не легче. Тоска охватывает Туту обычно на самой середине реки. И не оттого, что Гурс в середине течения особенно страшен. Просто здесь край дощечки настила обломился и мостик в этом месте чуть шире ладони. Именно отсюда Тута и свалился прямо в гребень потока в прошлом году. Заморозки грянули рано. Гурс был тогда еще многоводен, его брызги достигали настила и образовали наледь. Скользким от льда был и трос, да еще ветер раскачал мостик. Разве удержишься?
Случается, что Тута сдается на этом самом проклятом месте и делает здесь долгую передышку. Обхватив трос, он размышляет относительно безрукости сельских строителей, не могущих хотя бы заменить эту коварную дощечку, поминает недобрым словом сельсовет, правление колхоза и всех цабатоевских председателей, вместе взятых.
Желающие пройти по мостику кричат Туте с обоих берегов, чтобы он скорее решал, двинется ли он с места или останется там на ночлег. Ведь разминуться с ним невозможно: он толст и всегда с грузом, так как на работу идет с мешком еды, а с работы обязательно тащит домой в хозяйство куски реек, труб, связки гаек.
А Тута угрожающе кричит и на тот и на другой берег, чтобы никто не смел ступать на мостик, не то начнется качка.
Однажды Тута учинил председателю колхоза скандал за то, что правление не заменяет поломанную доску.
— А тебе самому трудно это сделать? — рассердился Артаган. — Ты ведь тоже в этом ауле родился.
— Конечно! — поддержал кто-то. — Ведь с чужими рейками ты же добираешься до середины, добрался бы и с доской для ремонта…
— А руки, руки-то у меня одни, чтоб вы все тут сгорели синим огнем! Я же ими за трос держусь, чем же я ремонтировать мостик буду — ногами?
— Слушай, Тута, — поинтересовался Артаган, — а почему ты не можешь через речку по Большому мосту? Там что, деньги с тебя за проход требуют, что ли?
— По Большому мосту я и на своем тракторе могу проехать. Да что это, в самом деле! Разве я, такой же советский человек, как ты, и тоже рожденный матерью, а не коровой, не имею права ходить там, где хочу?! А может быть, этот висячий мостик — пусть попадет в ад его изобретатель! — уже назван, Артаган, твоим именем? Я же сам натягивал трактором тросы этого мостика!
Этот маленький пример может дать некоторое представление об упрямстве жителей аула. Цабатоевцы говорят о себе так: «Если спросить нас, какие мы по характеру, мы можем ответить, что наш паспорт — Тута на висячем мостике».
Упрямые, желающие идти только напрямую, не признавая никаких обходов… Может быть, так приучили горы еще в старину, в пору сплошного бездорожья. Встретилась на пути расселина в скалах, или смертельно опасная осыпь, или бурный поток — что ж, обходить, терять день и охотничью добычу, которая спасет семью от голода?
После сказанного о Туте легче будет понять, почему многих в Ца-Батое так всколыхнула весть о намерении строить дорогу через ущелье. Путь в Ца-Батой из Грозного есть. Километров шестьдесят едешь в горы по отличной трассе, большей частью даже асфальтированной. А потом, от райцентра, останется сделать крюк по лесной дороге, которая в непогоду становится вовсе непроходимой лишь в одном месте, где самая глубокая лощина.
Если же пробить дорогу через ущелье, то путь из Грозного в Ца-Батой составит всего километров тридцать пять. Что и говорить, солидное сокращение. И все же стоит ли в век автомобилей так уж тосковать по нему?
— Противно колесить в объезд, вот что, — отплевываются цабатоевцы. — Душа не позволяет! Особенно же лопается сердце из-за этих последних километров…
— Вы же не на ишаках ездите, а на машинах. Подумаешь, лишние километры…
— Да, но в какую сторону? Едешь-едешь, и вдруг поворот чуть ли не назад, вот что противно. Там, где только что были твои глаза, — теперь твой затылок! Так по пути в Грозный, так и на обратном пути. Скажите, кому это нужно? Ведь если к такому привыкнуть, то до самой могилы будешь с перевернутой душой ходить!
…Если не считать двух описанных черт — любопытства и упрямства, — все остальные качества характера цабатоевцев просто великолепны и поэтому не нуждаются в примерах.
Глава VI
В то самое утро, когда Артаган двинулся с лопатой в руках, весть об этом доехала и до райцентра. Вернее, район сам приехал в Ца-Батой: в аул прибыл Строгий Хаким, поскольку он считался как бы шефом этого колхоза. Не мог же он не услышать о новости. Строгий Хаким сразу отнесся к лихой цабатоевской затее с этим строительством дороги настороженно. Уж больно непривычное по масштабу дело! Не может оно не нарушить размеренного, определенного хода сельскохозяйственной жизни в ущелье Гурса, где — шутка сказать! — один из пяти колхозов района. Было у Строгого Хакима соображение и более глубокое, достойное работника районного масштаба. Соседний район, раскинувшийся на предгорной равнине, давно нацеливался на пограничное с ним ущелье Ца-Батоя, потому что нуждался в альпийских пастбищах. Пока нет дороги через ущелье, и говорить об этом не приходится, а появится дорога… Пожалуй, тогда и сами цабатоевцы будут не прочь перейти в состав соседнего района: ведь там, на равнине, они могут рассчитывать на прирезку пахотной земли, которой всегда так не хватает горцам… Словом, надо поломать эту поспешную затею Артагана. Если старик развернется, его не остановишь. В лице нового председателя колхоза он, похоже, очень уж горячего союзника не найдет: Усман больше озабочен ходом текущих неотложных дел на полях и фермах, чтобы колхоз достойнее всех выглядел в районной сводке. А вот председатель сельсовета… Этого простодушного толстяка Абдурахмана обработать Артагану ничего не стоит. Поэтому Строгий Хаким миновал правление колхоза, что делал весьма редко, и подкатил на «газике» прямо к сельсовету. — Вызови-ка мне Артагана, великого строителя, — сказал он председателю сельсовета, расстегивая донизу чесучовый китель и вытирая на груди пот платком. — Ага… Нету, говоришь? С лопатой ушел… Гм!.. По каким-нибудь своим делам? Плохо же ты успел изучить бывшего председателя колхоза. Кадры сельские тебе знать положено! — Понимаю, понимаю: я должен знать, куда кадр отошел на шаг от своего плетня, — ответил задиристо юрт-да. — Обижаешься, а над одним не подумал: старик мог податься и в аул Борзи. Теперь понял? — А что, разве Борзи — запретная зона? Там заминировано? И чего ты так встревожился… — Остопарлах!.. — вздохнул Строгий Хаким. — Вам, цабатоевцам, можно было бы простить все ваши прекрасные качества, если бы вы отличались хоть одним: понятливостью. Я думаю, не пошел ли Артаган поднимать на строительство дороги аул Борзи! Легче же начинать с маленького аула, чем с большого и спесивого Ца-Батоя… А на каком участке ущелья разворачивать фронт работ, все равно — хоть с начала, хоть с конца. Абдурахман расхохотался, жмурясь от слез. Потом сказал не без обиды: — Хорошенького мнения вы там в районе о нас… В Цабатоевском сельсовете большие дела так стихийно не начинают! — Что-то не приходилось мне слышать о ваших больших делах, извини… — Признаться, о нашем районе в целом я тоже в учебнике истории ничего не читал, — съязвил в ответ Абдурахман. — Хорошо, давай об этой дороге. Можете нас ругать, но мы ничего еще не начинали. Да, собственно говоря, мы ничего пока и не нарушили, за что нас ругать? Постановления из республики или района на этот счет не было. Решение колхозного собрания? Это не закон для сельсовета. Колхоз только решил принять посильное участие в стройке, а узаконивать и двигать дело будем мы, власть. Ца-Батой любил своего председателя сельсовета, но замечал за ним одну слабость: в сугубо официальном разговоре его речь напоминала порой протокол. Так было и сейчас. — Думаю, начнем с трех этапов, — важно откашлялся юрт-да и начал перечислять, то и дело поглядывая на Строгого Хакима: — Первое — разъяснительная работа через депутатов среди населения о значении дороги; потом сходы во всех аулах с вынесением единодушного решения; и, наконец, снова разъяснение в массах о том, какое значение имеет образцовое выполнение принятых решений. Вот так. А уж по-о-отом!.. — Оч-чень хорошо… — сказал Строгий Хаким, а про себя подумал с удовлетворением: «Эдак Гурсу не видать новой дороги!» — Да ты уж не против ли строительства дороги вообще? — вдруг осенила Абдурахмана догадка. Слово «против» Строгому Хакиму не поправилось: — Видишь ли… Дороги ведь не только соединяют. Они и разъединять могут! — А-а! — протянул Абдурахман и пожал плечами: — Старый разговор! Какая разница, где будет числиться Ца-Батой? Разве в соседнем районе еще не установлена Советская власть? Надоело Ца-Батою взаперти быть! — Я сам горец! — потряс пальцем Строгий Хаким. — «Ца-Батой», «Ца-Батой»!.. Надо же шире смотреть, не с аульной горки! — Иной и с большой горы только в одну сторону смотрит! — Э-э, какой-то чужой душок в тебе!.. Не догадывались мы об этом у себя в районе! Все мы — советские, в любом краю страны. Но надо же, черт возьми… надо же быть патриотом своего родного района! «Понимаю я тебя, «патриота», — подумал Абдурахман тотчас. — У нас район и так маленький, людям на смех, всего пять колхозов. Отойдет Ца-Батой — что останется? О своем районном престиже Строгий Хаким беспокоится, а интересы Ца-Батоя — побоку. Разве это справедливо?» Строгий Хаким заметил горькую, упрямую усмешку собеседника и понял, что этого человека ни в чем не убедишь. Надо с ним по-другому. Строгий Хаким встал, застегнул китель на все пуговицы, оттянул и разгладил его полы и сказал бесстрастно: — В своем районе тебя давно знают. На самого дипломированного не променяем! А вот в чужом районе… — Строгий Хаким покачался с носков на пятки и продолжал: — В чужом районе нового человека должны изучать заново. Понятно тебе это? Изучать! — Меня в Ца-Батое избирал народ. Разве в «чужом» районе я сделаюсь хуже? Строгий Хаким пошел молча к дверям. — Постой, — остановил его Абдурахман. — А как же Совет Министров? Ведь Артаган ездил туда по поводу дороги. Да и район ведь вначале не имел, кажется, возражений против стройки. — Недодумали мы в районе. Внутренние соображения учли, а внешние — нет, пока не выслушали меня. Да ты что, полагаешь, у нас в районе других забот нет, кроме как думать о вашей дороге? — Зачем же отпустили Артагана с председательства?.. Теперь такая сила останется не при деле! — Может, и зря поспешили… Все мы сила, только пока молоды и сильны. А ты что, уже что-нибудь имеешь против нового председателя? — Пошел ты к черту! Мне жалко Артагана. Скажи, а каково мнение республиканских дорожников? Уж они-то, наверное, подхватят нашу затею? — Чудак ты все-таки. Зачем дорожникам вся эта морока? В план им ваша дорога не зачтется, а кое-что подбрасывать для нее их заставят: то технику, то материалы. А потом, смотришь, по нашему примеру начнут затевать такие же стройки и в других ущельях. Этак дорожники собьются с определенного ритма и провалят свой план. Понимаешь? Пла-а-ан! — А народная инициатива — она к нам от капиталистов пришла, что ли?! — грохнул кулаком по столу Абдурахман так, что задрожали стекла в окнах ветхого здания. — Разве ее нельзя в одну упряжку с планом? — Слушай, юрт-да… — сказал многозначительно Строгий Хаким. — Подумай! Советую подумать над нашим разговором! Может, еще не поздно. Не теряй кругозора! А Артаган пусть не самовольничает. Следи за этим. Строгий Хаким ушел. Абдурахман сел думать. Вернее, не сел, а, заперев дверь на ключ, стал ходить из угла в угол. Половицы прогибались под его ногами и жалобно скрипели. Что же делать с этой дорогой? Свалилась же забота на голову! Вдруг Абдурахман увидел в кривом стекле книжного шкафа свою фигуру, согнувшуюся от возраста, погрузневшую. Он изучал свое отображение, будто видел его впервые, и бормотал: «В чужом районе меня будут изучать заново? А чего меня изучать?» На улице раздался топот чьих-то ног. В окно сунул голову сельсоветский посыльный и завопил: — Слышал новость, Абдурахман? Всякими чудесами славится Ца-Батой, но такой глупостью мы мир еще не удивляли! — Не ори на всю улицу… Зайди. Что там стряслось? — Артаган строит дорогу… — зашептал посыльный, перевалившись через подоконник. — Воллахи-биллахи, пусть остановится мой язык навсегда, если вру… — С кем строит?! — Сам! Один! Примерно метр уже построил. Осталось всего девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять метров — цабатоевцы уже успели высчитать!Глава VII
Артаган пошел в лес тем краем Ца-Батоя, где несколько на отшибе, за лощиной, стояло пять домов. Как бы отдельный хутор. Его жители могли бы, конечно, сообразить, куда идет бывший председатель с лопатой на плече. Могли бы, если бы умели соображать. Ведь отсюда, с околицы, видны все дорожки, уводящие из Ца-Батоя. Но недаром же говорят, что даже собака из аула умнее, чем человек с хутора. Сельчанам, рассуждающим так, хуторяне могли ответить: во-первых, мы еще спали, было слишком рано; во-вторых, у нас на хуторе не принято наблюдать с неприличным любопытством, куда держит путь человек, это ведь только в центре аула народ совсем обнаглел; а в-третьих… в-третьих, насчет сообразительности хуторян если говорить, то доля правды в упреке цабатоевцев все же есть: Маржан-то ведь не спала и видела, эта толстая Маржан! Собираясь первой идти, как и всегда, в поле, она увидела, как человек с лопатой постоял за околицей, подумал и двинулся не прямо вниз к реке, не направо к Большому мосту, а в лес, в ту сторону, куда бежит Гурс. Могла же эта толстая вдовица пройти немножко вслед за человеком, посмотреть одним глазом, какую он дорожку изберет в лесу? Она же вместо этого пошла в поле, поработала, как всегда, до полудня… Впрочем, вот как она рассказала о ходе своих мыслей соседу, вдовцу Муни, тому, который так любит индийские фильмы: — Я еще с утра, в поле, как только подняла первый раз тяпку, вдруг подумала: да ведь это же был Артаган, не кто иной! — Быстрый у тебя разум! — отметил тощий Муни, пощипывая редкую бородку. — Ну, ну, а дальше что? Говори громче! — А в полдень меня как стукнуло в голову: иппа́ли[26], он же был с лопатой и подался в лес! — зычно сказала Маржан. — Председатель, хоть и бывший, — с лопатой! Я быстрее ветра вернулась с поля — и к лесу. Смотрю сквозь кустарники… Артаган копается за опушкой леса, строит дорогу! Сам, один! — И что же он там в лесу делает? — задумчиво полюбопытствовал Муни, не расслышав. — Я же говорю: строит дорогу. Дорогу! — А, дорогу… — Муни засмеялся тоненько и протяжно, с явным недоверием. — Кто строит? — Он строит, я же тебе говорю! Отметил ширину, чтобы две машины могли разойтись, и копает. Показал мне, откуда камень думает брать. Говорит, первый метр дороги сегодня будет готов, понимаешь? Муни подпрыгнул так, словно обнаружил под собой змею. — Да кто тебе поверит! Что? Строит? Дорогу? Один? Если кто такое в Ца-Батое и надумает, то только Артаган! Муни сиганул прямо через свой плетень и, подтягивая на ходу штаны, побежал вниз по косогору в сторону леса. Маржан проводила старика нежным взглядом. Впрочем, какой же он старик? Ловко как бежит! Щуплый этот Муни, но все еще бравый. Свой неплохой дом у одинокого вдовца, отарочка овец. И про кино так умеет рассказать, что слушаешь, слушаешь — и зальешься слезами… Ничего в кино не слышит, а понять все равно умеет. Умный человек. Скоро Муни прибежал из леса назад и подтвердил: — Да, Маржан, ты не соврала, Артаган начал строить дорогу… — Он увидел посыльного, который принес на хутор какую-то повестку из сельсовета, и крикнул ему срывающимся от волнения голосом: — Беги мигом к своему председателю, порадуй его: Артаган уже сделал один метр дороги! Не забудь добавить, что первым эту новость сказал я, Муни! Мне причитается барашек[27] с сельсовета, если у Абдурахмана есть совесть… Эх, ноги мои… Беги!.. Ну, Маржан, скоро мы с тобой начнем жить, как на проспекте в Грозном: на самой большой дороге Ца-Батоя! Только почему же Артаган не начал прямо от нашего порога? Наточу-ка я топор. — В лес по дрова собираешься? — быстро сообразила Маржан. — В лес, да не по дрова. Артагану хочу помочь. Мы же сейчас к нему самые ближние, значит, должны первыми присоединиться к работающему. Таков же закон белхи! Артаган сказал, что я нужен ему сейчас не с лопатой, а с топором: нарубить жердей и поставить шалаш в лесу… Однако первым поспел к Артагану не Муни. Он еще только приводил в порядок рассохшееся корытце точила, как мимо плетня промчалась рессорная двуколка, поскрипывая под тяжестью председателя сельсовета. Муни страшно удивился тому, что из кузова двуколки торчало нечто похожее на оглоблю. Юрт-да въехал в лес. Впереди, за деревьями, в сумраке приречного леса белела на черной земле полоска вроде пластыря. «Тот самый метр дороги…» — подумал председатель. Он подъехал и прыжком соскочил со своей двуколки. — Ассалам алейкум, Артаган! — крикнул он. — Да будет счастлива твоя работа… Так всегда положено говорить работающему, и только… — С добром твой приход, — ответил Артаган и расстелил на травке свой старый синий плащ с белой клетчатой подкладкой. — Садись, моим гостем будешь. Сели. Юрт-да закурил. За кустарником поблескивал Гурс, рычал на перекатах. Позвякивал удилами председательский конь, щипавший траву. Заливались в лесу птицы. Артаган молчал, покусывал крепкими белыми зубами травинку. Юрт-да тоже молчал, сам удивляясь этому. Ведь когда ехал сюда, думал, что скажет многое. Он зажегся на разговор после сегодняшней длинной беседы со Строгим Хакимом. Но, в отличие от той беседы, Артагану он собирался сказать нечто другое, сказать, сколько важных вещей пришлось ему обдумать сегодня. Сказать, не оставляя в душе ни одного тайничка. Вместо этого юрт-да, докурив папиросу и отшвырнув окурок щелчком в сторону, встал во весь свой длинный рост и поплевал на руки. — Ты не драться ли готовишься? — посмотрел снизу вверх Артаган с улыбкой. — Цабатоевцам лишь бы подраться… — проворчал юрт-да. Он подошел к двуколке и ухватился за то, что Муни посчитал оглоблей. Это был всего-навсего черенок собственной председательской лопаты. — А не лучше ли тебе заняться своим делом, чем ковыряться здесь со мной? — спросил Артаган. — Сходы провести для порядка не мешает… — Сходы? Лукавый ты человек, Артаган, и хорошо знаешь, что Ца-Батой одного тебя не оставит. Только как это я первый попался на твой крючок? — Первый — Муни… — Ну-ка, подними свою лопату, — вдруг сказал юрт-да. — Вверх, вверх. Юрт-да поднял вверх и свою, скрежетнув штыком по сучкам высокого дерева, и произнес уверенно: — Вот так и будет голосовать Ца-Батой за дорогу. Лопатами. Прямо здесь, на стройке. Сход без отрыва от производства. Муни, подоспевший скоро сюда, был потрясен увиденной картиной: сам председатель сельсовета, сам юрт-да Абдурахман орудовал лопатой рядом с Артаганом! Без гимнастерки, в нижней рубашке, засучив ее рукава на мощных волосатых руках. Муни воткнул топор в дерево, чтобы не затерялся в траве, сел на корточки и начал, теребя редкую бородку, вслух обдумывать увиденное: — Значит, все это мы должны понимать так: Абдурахман — юрт-да, высший человек в Ца-Батое, во всех трех аулах нашего сельсовета. Артаган — депутат сельсовета. И вся эта бригада из двух человек — чистая Советская власть. Вся как один человек — с лопатами! Муни репетировал то, что ему хотелось немедленно сообщить цабатоевцам. Ах, как жаль, что пообещал Артагану сладить шалаш… Теперь не уйдешь. — Хорошие мы депутаты, работящие? — громко и внятно спросил Абдурахман у Муни недобрым голосом, выворачивая из земли булыжник величиной с тыкву. — Воллахи, подходящие… — улыбнулся Муни, отсаживаясь подальше. — Нам бы вот сейчас здесь и избирателя подходящего, хоть одного, — такого, который работает, а не поглядывает на работающих, — сказал Абдурахман. — Шел бы ты, Муни, к себе, повеселить толстую Маржан… А то расселся тут бездельничать. — Что? Кого ты назвал? Ты помянул Маржан, или я ослышался? — запрыгал Муни вокруг Абдурахмана, как петушок. — Дожил Ца-Батой, если сам юрт-да неприличные для моего возраста сплетни рассказывает! Может, я и плохой избиратель, но плохого во мне лишь то, что я за тебя голосовал. А насчет того, чтобы здесь поработать… Пока ты там у себя поплевывал на печать, я тут уже был первый, самый первый из Ца-Батоя! Верно, Артаган? Не дай мне соврать! — Заньг[28] и явился. Первым! — подтвердил Артаган, делая передышку. Передохнул и Абдурахман. Муни потрогал его лопату. — За такой черенок троим держаться! — отметил он с уважением. — Глянец-то сошел с него: наверное, лет десять на чердаке валялась. Скажи, Абдурахман, а сельсовет отдаст мне долг? Я умру от удивления, если ты догадаешься это сделать. — Какой долг? — Барашка. За новость. — А, вот ты о чем! В сельсовете нет такой незаконной отары, как у тебя. Скажем, завезти в Ца-Батой еще парочку индийских фильмов я могу механику приказать, такой подарок в моей власти, а насчет барашка, Муни… Мы с тобой кладем здесь начало такому знаменитому белхи… Кто должен первым угостить участников такой общей работы? Наверное, тот, кто ближе всех живет. Неудобно же тебе, если я или Артаган потащим своих барашков мимо твоего плетня. — Не пойму, о чем ты толкуешь, я ведь глухой, — увильнул Муни. — О барашке. О твоем барашке, Муни! — гаркнул Абдурахман. — У меня мелковатые овцы… — заерзал Муни. — Моего барашка хватит лишь для того, чтобы одному тебе в рот кинуть. Возьмусь-ка я за шалаш, пока вы с Артаганом прохлаждаетесь и теряете время за болтовней…Руслан при каждой встрече с Зарой старался угадать по ее глазам, знает она, что Харон намерен ее сватать, или нет. В глазах у девушки была все та же лучистая улыбка, но Руслану казалось, что на лицо Зары легла тень печали. Сегодня она, кажется, выдала себя. Держалась Зара со всеми ровно, спокойно. Она никогда не покрикивала на малышей, но и не заигрывала с ними. Прямо странно, что они так льнут к ней и так ее слушают. Может быть, это оттого, что когда она среди них, то ни на секунду не перестает думать об их делишках и интересах. Какое-то постоянно включенное тепло… А сегодня она, положив руку на голову девчушке, вдруг замерла и долго смотрела на горы, словно старалась увидеть что-то в клубящейся зелени леса. — Ты чем-то расстроена? — робко спросил Руслан. — Нет-нет, — поспешно сказала она и тут же поправилась: — Конечно, расстроилась: включили вчера новый телевизор, а он ничего не показывает. Малыши ревели от огорчения, а ведь Ширвани места себе не находит, когда они обижены… Может быть, стены мешают? Люди советуют вынести телевизор во двор. Руслан помог вынести телевизор, вытянул шнур под навес, а сам думал, только ли из-за телевизора у девушки такое лицо. Не знать о намерениях Харона она не может: уж если слух в Ца-Батое родился, то не остановишь… Но какое у него право спрашивать Зару? — Теперь тут у вас целый клуб на воздухе: теннисный стол, телевизор… — улыбнулся он, продолжая пытливо поглядывать на нее. — Выручил навес? — Побегала я за досками для него… — сказала Зара и запнулась. — Разве это проблема — доски? — пожал плечами Руслан. — Среди леса живем. — Да так… — Что «так», Зара? — Счетовод лесоучастка заставил трижды ходить туда с бумажками. Правда, потом он сам привез нам доски и столбики… Вот и все. — А-а… Харон! — мрачно произнес Руслан. У нее на глазах сверкнули слезы, но говорить она старалась весело: — Ну, попробуем вечером включить телевизор! Ведь Грозный теперь транслирует Москву. Руслан видел, с каким трудом далась ей улыбка. — Я сумею защитить тебя от Харона! — пылко сказал он, вскакивая. — Нет! — И девушка протянула руку, как бы удерживая его. — Не так это все просто! «Неужели уже замешаны и ее родители?..» — подумал Руслан. — И ты согласилась бы выйти за него? — еле слышно спросил он. — Я сказала родителям: выдавайте… Руслан швырнул на стол плоскогубцы и пошел прочь. — …но только мертвую! — добавила Зара так же тихо, однако он услышал, и услышал в этих ее словах и горечь, и отчаяние, и решимость. Необорачиваясь, Руслан побежал. Так, прямо от порога интерната, он обычно начинал свои долгие пробежки по лесу и горам, если не удавалось вырваться на кросс ранним утром. Он хотел убежать туда, на свою излюбленную трассу на «втором этаже» гор, где никого не бывает и где так хорошо думается в беге. Вместо этого ноги понесли его в ту сторону, где белела в лесной чаще верхушка крыши лесоучастка. …Он заглянул в открытое окошко бухгалтерии. Харон, навалившись грудью на стол и лениво позевывая, листал какие-то бумаги с колонками цифр. Увидев Руслана, он не переменил позы, а только взял из жестяной коробочки, заменяющей пепельницу, сигарету, прикурив, глубоко затянулся и, выпятив нижнюю губу, пустил струю дыма в сторону окна. Потом, сузив глаза и глядя мимо Руслана, он насмешливо процедил: — Н-ну, что скажем, физкультура и спорт? — Выйди… — кивнул Руслан Харону и отошел по тропинке к чаще деревьев, успокаивая глубокими вздохами биение сердца. Харон подошел неторопливо, на ходу стягивая с рукавов замшевой куртки черные нарукавники. — И какой же у тебя со мной секрет? — спросил он с усмешкой, растягивая слова. — Слушай, Харон. Я пришел посоветовать тебе: оставь Зару в покое! — Открылся… — сказал Харон и завертел головой, будто ворот куртки стал ему вдруг тесным. — Не верил я, когда мне говорили, что ты начал похаживать возле интерната… Дергающимися руками он стал засовывать нарукавники поглубже в карманы куртки и шагнул в лес. Руслан незамедлительно двинулся за ним и подошел к нему вплотную. Может быть, это и остудило Харона. — Видишь вот ту тропинку, ва, мужчина? — вскинул руку Харон. — Она тебя привела сюда. По ней же ты пока что можешь еще и назад уйти. Пока что! — Эта девушка не любит тебя. Не причиняй же ей горя… Я только об этом сейчас думаю, клянусь тебе, Харон! — А что, она тебя любит? Ты разве слышал от нее — «люблю»? Это тебе не город, здесь девушки не привыкли говорить такое. Этого Зара мне не скажет. А тебе? Тебе сказала? Руслан смешался, побледнел от одной лишь мысли, что когда-нибудь в жизни сможет услышать такое слово от Зары… «Струсил! — понял по-своему это замешательство Харон. — Измолотить бы его сейчас… Нет, не для пользы моему сватовству это. Надо где-нибудь наедине, втихую. Да так, чтобы не мог вспомнить, на каком краю аула интернат». «Нет, не так с этим человеком разговаривать надо… — размышлял Руслан. — Разве понять ему переживания девушки, которую хотят выдать за нелюбимого?..» — Призадумался? — сказал Харон с довольным видом и пошел к своей конторе, насвистывая. — Знай, Харон, одно, — крикнул ему вслед Руслан, — знай: не будет по-твоему! Приостановившись, Харон поглядел по сторонам и ответил зловеще: — Ва, мальчик! У нас в Ца-Батое не прощают, когда человек лезет не в свое дело. Да еще в такое! …Привычный бег Руслана по привычной трассе был сегодня яростным. Руслан почти не замедлял хода при спуске в опасные лощины, безрассудно вел себя в расселинах скал, где надо трижды подумать, прежде чем поставить ногу на тот или иной выступ. Ему словно хотелось забыться в этом исступленном беге по пустынным, суровым горам, которые так равнодушно смотрят на человеческие горести. Пробежав километров десять, он сообразил, что, наверное, и Голубая скала осталась уже позади, где-то справа над рекой. Пора назад. Нет, прежде он взберется вон к тем громадинам, которые нависли над ущельем. Он слышал, что называется то место «Гнезда Куропаток». Там будто все висит, готовое сорваться в пропасть, до самого Гурса, от одного лишь дыхания человека: и скалы и осыпи… Пусть. Рухнет все это вместе с ним, Русланом, — значит, так суждено. Ничего не рухнуло, не обвалилось… Правда, там было все пустынно, мертво. Не зря в ауле говорят, что сюда никогда и нога человеческая не ступала. Может быть, даже куропатки боятся этого зловещего места? Спускался он по страшным скалам, впиваясь пальцами в малейший уступ, прижимаясь дрожащим телом к шершавому граниту. И все время думал: нет, кто-то другой уже ступал по этим нехоженым местам или таится тут сейчас. При всей причудливости нагромождения скал и валунов вперемежку с нависшими осыпями что-то здесь такое, будто рука человека прикасалась к этим камням, пытаясь привнести свой порядок в этот хаос. Однажды в армии Руслан увидел дома у командира роты на столе пистолет. Он лежал, вороненый, массивный, недвижный и неопасный, но Руслан нутром почувствовал, что этот ТТ взведен. Так и оказалось. Прибирая пистолет, хозяин сказал удивленно: «Когда же я его взвел? И зачем? Чудеса!» Вот такую грозную «заряженность» почувствовал Руслан и в обманчивом спокойствии камней Гнезд Куропатки. И не мог отрешиться от чувства, что «курок» взведен здесь рукой человека… Возвращался Руслан в Ца-Батой, еле ковыляя по камням. Добрести бы скорее до школы, запереться в своей каморке на чердаке! Там тихо, как и здесь, среди скал, там нет людей, а по соседству, через тонкую дощатую стенку, — лишь одни дикие голуби. Школьники привадили их — двести диких птиц нашли приют под школьной крышей. Голуби знают, что получат здесь корм и спасение от коршунов. Был случай, когда голубь, спасаясь от хищной птицы, пробил стекло учительской. «От кого и от чего хочешь ты, слюнтяй, спрятаться в этой своей каморке, будто старичок? — говорил он сам себе, устало петляя по извилистой тропе среди скал. — От себя спрятаться! Кто ты и что ты? Учитель — не учитель. Спортсмен — не спортсмен, мог бы хоть «ходей» стать неплохим, да и то застеснялся в Ца-Батое». («Что скажешь, физкультура и спорт?» — вспомнил он глумливые слова Харона.) Руслан знал, что людям, вот так застрявшим на полпути, цабатоевцы обычно советуют словами насмешливой горской поговорки: «Передними ногами перелез — перелезай и задними»… Есть у него, казалось бы, заветная цель: институт. Однако и эту цель, не задумываясь, отодвинул на год из-за девушки. «А разве плохо, что у меня такое неоглядное чувство к Заре? — попробовал он утешить себя и тут же подумал со стыдом: — Такое ли уж оно, это мое чувство, если я не ударил сегодня по болотным глазам Хурьска?..» В этом своем приступе самобичевания он дошел до того, что даже ничтожного парня-десятиклассника, которого в школе прозвали Цок — Шкура, поставил было выше себя. В учебе этот Цок тупица. И все же у него есть страстная мечта: попасть в институт. Любым путем! Руслан долго не мог понять, почему Цок так самозабвенно штурмует планку прыжков в высоту. Слишком это расчетливый парень, чтобы так просто отдаться какой-нибудь страсти. «Хочу добиться высокого спортивного разряда, потому что тогда меня институт сам втащит к себе», — цинично признался он Руслану. Цок следит за республиканскими рекордами; не довольствуясь школьными уроками по физкультуре, сделал себе дома, во дворе, яму для прыжков, соломенный мат. Перепробовал все способы преодоления планки — от простых ножниц до перекидного, теперь разучивает переход спиной к планке: сверхмодный способ! Цок слывет в школе сквалыгой. Наверное, сдерет с любого шкуру ради своей выгоды; он осклабился бы в усмешке, показав свои гнилые зубы, этот Цок, если бы ему сказали, что из-за любви к девушке можно хоть на шаг отклониться от цели. Ну и что ж, разве плохо — вот так стремиться к чему-то… К чему-то? Нет, спохватился Руслан, к чему и зачем — в этом ведь все… То, к чему стремишься, должно быть чистым и бескорыстным, как настоящая любовь. У таких, как Цок, этого нет и в помине. Школа в Ца-Батое необычная, она с политехническим уклоном: из ее стен выходят не только с аттестатом зрелости, но и с удостоверением чабана, тракториста или табаковода. Многим в нынешнем десятом это нравится, потому что можно остаться в родном Ца-Батое и делать то же, что делают отцы и матери, только еще лучше, «по-научному». Цок беззастенчиво смеется над такими: «Я приеду после института одетый почище, чем Исхак Исхакович, а вы будете крутиться у грязных овечьих хвостов!» А-а, противно думать о таком подонке!.. Есть ведь в том же маленьком Ца-Батое люди с настоящей целью. Он перебирал в памяти имена. Может быть, Артаган? Человек, решивший построить дорогу. Не в ней самой дело… Почему он решил ее строить? Это бы знать… «Романтик», как сказала об Артагане Зара? Наверное, он и до этой стройки избирал себе в жизни бескорыстные дела. И после нее возьмется за подобное же. И каждое такое дело связано с другим — как в цепи каждое звено продето через предыдущее. Цепь… как бы это сказать… Ну, пусть по-книжному — цепь самоотдач. И прошла она через всю длинную жизнь Артагана. Откуда ему, Руслану, знать, как жил этот незнакомый молчаливый старик… Да и с дорогой этой — одни пока разговоры и слухи. К кому вообще решишься полезть со своими смешными сомнениями? Ах, если бы уметь раскопать ответ на них в той горе книг, в которой разрешает у себя дома рыться добрый Пиктусович, старый цабатоевский учитель!
Глава VIII
Показался Ца-Батой. Слева, внизу, сверкал в лучах предзакатного солнца Гурс. Вдруг на его берегу сквозь чащу леса Руслан увидел непривычное для глаза: длинный белоснежный ковер на черной земле. Что бы это могло быть? Он сбежал вниз, хватаясь за стволы деревьев. Островерхий шалаш, крытый свежей листвой. Не было вчера и его. А «ковер» оказался галькой, белевшей на солнце. Площадка для какого-то неведомого цабатоевского спорта, что ли? Руслан вздрогнул от чьего-то голоса, сказавшего у него за спиной: — А, это ты? Из-за шалаша выглядывал Артаган. В руках у него был сухой хворост. Видимо, он собирался разводить костер в затишье за шалашом, где не так мешает предвечерний ветерок. — Вот видишь, — сказал он, ломая сухие веточки для растопки, — до чего меня довело председательство: где это слыхано, чтобы нормальный крестьянин спешил на отдых раньше солнца? Он улыбнулся, наверное, этой своей мысли, а потом спросил: — Это ведь ты крикнул Харону — помнишь, после собрания? — что у Артагана в лесном «кабинете» будет тепло? — И старик закатился тихим смехом, откинувшись назад. — Боюсь, замерзну! Ночи бывают у нас холодные даже летом. Надо заранее согреться чаем, отпугнуть прохладу. Дров я, видишь, немного нарубил… Руслан взял топор и начал рубить еще, чтобы был запас. Он мельком бросил взгляд на белую площадку еще раз, и его осенило: да ведь это же дорога! У площадки по бокам эти… как их называют… кюветы! Руслан в растерянности опустил топор в траву. Значит, не шутили в ауле — Артаган строит дорогу один! Руслана вдруг охватило чувство стыда за высокопарные мысли, с которыми он только что шел по горам. «Цепь самоотдач»… И вот он, старик, одинокий и смешной в своих потугах… Артаган кинул на Руслана внимательный, быстрый взгляд и произнес сдержанно: — Ты иди, парень. У вас же там, в школе, дел всегда хватает. Дров мне и этих достаточно. Не первое такое изумленное лицо видел сегодня Артаган. На сегодня с него, пожалуй, хватит. Спасибо, этот-то хоть улыбку недоверчивую сумел скрыть. Воспитанный парень. — Иди, мальчик, — повторил Артаган. — Только… думай хорошо о народе, верь в него! Извини, это я просто так сказал, по-стариковски: любим мы поучать… Когда-нибудь и ты таким станешь. Столько спокойного, гордого достоинства было в сухих, чеканных чертах стариковского лица, что Руслан, кивнув головой на белый квадрат, выпалил: — Неужели из этого что-нибудь получится? Артаган долго молчал, обстоятельно выкладывая шалашик из сухих веточек растопки. — Не знаю, чей ты родом, но глаза у тебя чистые, — произнес он наконец и вдруг весело скомандовал: — Вынеси-ка нам узелочек с едой. Перекусим! Одному мне и поесть скучно……Долго, до глубокой ночи, горел костер на берегу Гурса, тревожа рыскающих шакалов и заблудившихся диких кабанов. Спал потом Руслан в шалаше, на молодой траве, которую заботливый Муни накосил днем и устлал мягким слоем. Тепло было под пахучим чабанским тулупом. Снилось Руслану многое из того, что рассказал у костра Артаган. Снился почему-то директор интерната Ширвани с двумя малышками на коленях, мерно склоняющий большое доброе лицо к рукописи, на листах которой — наивно-торжественные стихи сказки «Когда Гурс бывает злой, когда Гурс бывает добрый». Снились — а может, и вправду виделись сквозь листву шалаша? — крупные искрящиеся звезды на черном небо Ца-Батоя. Скорее всего, и это был сон, потому что звезды вдруг становились глазами Зары, а искры этих звезд — искрами радостного смеха, всегда живущего в глазах девушки с печальным лицом. И еще снилось ему то зловещее место в горах, которое называется Гнезда Куропаток. По круто сбегающей осыпи шли вверх, к грозно нависшим скалам, птицы, похожие то ли на голубей, то ли на курочек кремового цвета. Это куропатки. Они летали на водопой к Гурсу и теперь поднимались к своим гнездам. Спугни — и то не взлетят, потому что отяжелели от воды, а будут себе идти и идти в гору, мелькать тенями, сливаясь с кремовой горой. «Тише идите… — шептал им Руслан во сне. — Не топайте лапками, не цокайте языками. Скалы заряжены, взведен их курок. Даже от вашего цоканья камни рухнут. В горах нельзя громко разговаривать…» Наверное, он таки здорово струхнул, когда блуждал возле Гнезд Куропаток! — Спи, спи, мальчик, — сонно сказал Артаган и натянул ему пахучий тулуп на плечи. — Столько я тебе понарассказывал всякого вечером, вот и снятся разные сны…
«…Не узнать коня, пока не ступит ногой, не узнать человека, пока не заговорит. А я твой голос сегодня уже второй раз услышал, Руслан… Бери, бери чурек и макай его как следует в то-берам. Курочку моя Залейха пожалела зарезать. Дорогу мы построим, Руслан. Это не такое уж и большое дело. Можно сказать, крестьянская работа. Видел весной, как новые поля на склоне разбивали? Сначала выкорчевали кустарник. А потом выбрали из земли камни. Здесь, на этой трассе, тоже придется корчевать. Камни же — не выбирать, а укладывать в землю. Конечно, не как попало: у дороги есть своя «агротехника». Я ее немножко знаю, доводилось в Средней Азии работать дорожным мастером. Спрашиваешь, почему я один взялся? Потому что знаю: буду не один! Прежде чем объявить эту стройку, я опросил весь Ца-Батой. У себя в голове опросил. «Сход» такой в голове провел. Спросил каждого, сказал каждому: «Ты за дорогу? Поднимай руку. Нет? Отходи в сторону». Большинство подняло руку. Я знаю наперечет тех, кто поднял для вида. Но Ца-Батой выйдет на трассу. Аул Борзи — тоже. За третий наш аул не ручаюсь. Он лежит последним в ущелье, в стороне от Гурса, а дорога начнется только от Ца-Батоя. Но и те придут, не усидят, если соседи поднимутся. Нет, так не случится, что оставят меня здесь одного. Это бы вышло, что я один хорош, а все плохие. Белхи со времени предков горцам в кровь вошли. А колхоз — новая струя в этой крови: когда крестьянин видел такую большую работу сообща, как колхоз?! Ну, вот я и ответил на твой вопрос. Спасибо тебе, что задал его: трудно мне бывает видеть, как человек прячет свое недоверие, лицемерит. Воллахи, кяньк, от души наговорился я с тобой сейчас… Э-э, а насчет моей прежней жизни ты зря спрашиваешь. Ничего в ней интересного, да и не люблю я ворошить старое. Оставим это. Говоришь, тебе это нужно? Да-а… Посиди-ка пока один, я измерю ширину своей дороги. Если расползется за ночь под тяжестью каменного настила, значит, земля на этом участке плывет, надо ложе делать не так и камень наслаивать по-иному… Ну вот, измерил. Не забыть бы утром снова. Жизнь у меня всегда была обыкновенная, цабатоевская, и много я тебе о ней не скажу. Среди тех, кто вышел из нашего ущелья, есть и министр, и ученый, и писатель, и офицеры, и инженеры. А я как был, так и остался крестьянином. Вот тебе и вся моя жизнь. Детей в школе учил, так это потому, что тогда нас в Ца-Батое было мало даже с семилеткой за плечами. А свершения? Какие у меня могли быть свершения! Коллективизация началась — я был ни при чем. Отец все решал: сказал — в колхоз, пошли в колхоз. Враги колхоза были и в Ца-Батое, но не я верховодил против них. Как-то кулаки устроили нам засаду. Знаешь лощину глубокую по пути в райцентр? Удобное место для засады: там ведь вскачь на крутизну не выедешь, а поэтому можно спокойно бить из засады. Хорошо, что мы успели залечь за камни. Были среди нас, если считать хотя бы вот с этого края аула, Муни, Маржан… Удивляешься? Вот этот самый Муни, что любит кино про любовь, а толстуха Маржан — она и тогда была толстухой — взвела курок берданки и кричала: «Выходите из засады, вы, петухи, храбрые у своих ворот! Я, Маржан, хочу обнять самого смелого из вас так, чтобы сделать лепешку!» Да-а, вот такая она была горластая… Сейчас утихла.

 Чем кончилось? Да ничем. Нашей храбрости там не потребовалось. Потому что в затылок засаде вышел Ширвани, ему тогда было всего лет пятнадцать. Навел на бандитов отцовскую одностволку, засмеялся и сказал: «У меня всего один патрон. Но кто первый шевельнется, пока наши не уйдут в целости, — пулю в лоб! Дикого голубя я сбиваю на лету, Ца-Батой это знает!» Воллахи, как вспомнишь — не уйти бы нам целыми, если бы не Ширвани. Да нет, это не тот Ширвани, что мельником сейчас. А ваш, из интерната. Директор. Да-да, этот самый, чего ты удивляешься? Ему теперь только давай бумагу, любит писать стихи. А ведь сколько его знаю, он был и есть железный человек: дуло ко лбу приставь — не дрогнет. Помню, во время войны, когда фашисты уже почти к самому Грозному подошли…
Нет, прежде чем о войне, расскажу я тебе еще одно. Эх, услышала бы моя Залейха, как я сегодня разболтался, поклялась бы, что не мой голос слышит!
Нельзя откармливать коня в чужих яслях, мальчик. Позор это для человека. А нашлись такие в Ца-Батое. Засели в сельпо, в колхозе. И началось… Словно в душу цабатоевцам плюют: растаскивают добро…
Может, я глупее и горячее всех тогда был, но пошел и сказал: «Прекратите!»
Прогнали… Но меня трудно унять, если что начну (такое за мной уже в молодости водилось). И потянул я ниточку! Тогда они посредников к моему отцу прислали: «Уйми сына! Не говори потом, что мы не предупреждали…» Сам понимаешь, что это значит.
Помню, притаился я за дверью в страхе, потому что с самого детства боялся отца (на стороне-то он был человек миролюбивый, избегал ссор с людьми). Вот я и думал, что мне достанется от него. Но тут отец хорошо себя повел, сказал посредникам: «Мне не в чем упрекнуть сына. Убирайтесь и больше не показывайтесь у моего плетня, а то не посмотрю, что вы гости». Мне же — ни звука.
Я осмелел и открыто выступил, на собрании. Во время перерыва верные люди позвали меня во двор покурить я шепнули: «Прыгай через плетень и уходи: кое-кто хочет повернуть собрание по-своему, очернить тебя. Не дадут людям опомниться, схватят тебя!»
Я так и поступил. Недруги мои обрадовались и поспешили пустить слух: «В леса подался, в абреки! Честный человек разве пойдет таиться?»
Подался-то я не в леса, а в Москву: друзья тайком проводили меня через ущелье, усадили в вагон. В Москве мне сказали: «Если хоть половина из рассказанного тобой правда, то надо сажать виновников». Я ответил: «Если сотая часть неправда — сажайте меня!»
Вот так кончилось, мальчик, и это. А как же, плохо кое для кого кончилось, потому что никогда я не мешал правду с неправдой. Москву я, может быть, и напрасно встревожил, за правдой можно было съездить ближе. Но цабатоевцы любят ходить с козырей.
Э-э, шакалы завыли, слышишь? Пришел их час…
Ну хорошо, немножко и про войну. Молодые это любят…
Про фронт мало тебе скажу, потому что какая у меня война: уже в начале сорок второго выбыл из строя по ранению. Гордость моя только одна: Брестскую крепость защищать довелось, но я же там из наших горцев был не один.
Вернулся в родные края, а немец — за мной: фашисты уже у Терека. В Ца-Батое-то было тихо. Потом и сюда доплеснулось: фашисты сбросили в начале нашего ущелья диверсантов, в тыл Грозному.
Первым обнаружил диверсантов знаешь кто? Ширвани! Он уже к началу войны славился как проводник туристов. Поэтому ему поручили разведать новые, потайные дорожки в горах для партизанского отряда. И вот в верхних горах он наткнулся на четверых диверсантов. Вплотную!
Это он теперь такой, Ширвани, — неповоротливый, как женщина, и неторопливый в поступках. А тогда был горячий, быстрый, как искра. Между прочим, он признал среди диверсантов дальнего родственника Сяльмирзы, перебежавшего на фронте к немцам.
Родственник Сяльмирзы цыкнул на Ширвани, а один из немцев подошел и начал обхаживать. Они ведь тогда старались быть поласковее, чтобы обмануть людей, завербовать.
Ширвани выхватил финку, воткнул ее этому немцу в горло! Заколол, как дикого кабана. И успел уйти от автоматных очередей, прыгнув с обрыва в лес.
Мне одному и рассказал Ширвани об этой встрече.
Я сообразил, что родственник Сяльмирзы, наверное, у фашистов за проводника. Значит, обязательно выйдет на Сяльмирзу. Я пошел ночью к Сяльмирзе… Острый у нас с ним получился разговор, до сих пор он его помнит и боится смотреть мне в глаза. «Сяльмирза! — сказал я ему. — Твой родич — диверсант, и те, кто с ними, — на твоей совести. Мы должны передать их властям. Живыми или трупами, как тебе удобнее». — «Да меня мои родственники за это со света сживут! — обозлился он. — Я ведь знаю, какие они!» Я ответил: «Но и меня ты знаешь, Сяльмирза. И народ наш знаешь: не даст он предателям пить воду Гурса. Выбирай!»
По сей день гадаю, как поступил бы Сяльмирза, да обошлось и без него: диверсантов наутро взял партизанский отряд.
Ну, вот тебе и про войну тоже… А чего ты вдруг вспомнил Гнезда Куропаток? Смотри-ка, чутье у тебя есть. Сразу видно — горцем родился. А может, армия научила? Да, ты прав, троганные те камни, троганные. Только не немцами там был взведен «курок», а нами: подготовили мы обвал на случай, если фашисты по дну ущелья пойдут.
Давно пора бы и спустить этот «курок» вхолостую. Вот останется взрывчатка, когда закончим стройку, и сделаем. Там нужен небольшой взрыв, но направленный, чтобы обвал захлебнулся на «втором этаже» гор, не достиг дороги и Гурса.
Зоркий у тебя глаз, ничего не скажешь. Ведь я, помню, так замаскировал то место, что мы туда сами подходили, как с завязанными глазами.
Да какие мы были партизаны?! Ну и привязчивый ты! У меня уже рот высох от разговора. В республике было сформировано триста партизанских отрядов на случай прихода фашистов. Тайные, с секретными складами оружия. Этим отрядам почти и объявляться не пришлось, потому что немцев наши войска остановили еще у Терека, а диверсантов и предателей была в горах лишь кучка. А я — какой партизан? Просто цабатоевец, которому сейчас… не дают поспать.
Извини, что я с тобой так сердито. Понимаю, что-то в себе самом ты хочешь услышать. Но я больше о прошлом не скажу тебе ни слова. Нет там никаких этих… как ты их назвал, «самоотдач»… Бери, бери тулуп нашего Муни. Жаль, такой щуплый этот Муни уродился. Шубы толстухи Маржан хватило бы нам обоим и подстелить и укрыться… Доброй тебе ночи, Руслан!»
Чем кончилось? Да ничем. Нашей храбрости там не потребовалось. Потому что в затылок засаде вышел Ширвани, ему тогда было всего лет пятнадцать. Навел на бандитов отцовскую одностволку, засмеялся и сказал: «У меня всего один патрон. Но кто первый шевельнется, пока наши не уйдут в целости, — пулю в лоб! Дикого голубя я сбиваю на лету, Ца-Батой это знает!» Воллахи, как вспомнишь — не уйти бы нам целыми, если бы не Ширвани. Да нет, это не тот Ширвани, что мельником сейчас. А ваш, из интерната. Директор. Да-да, этот самый, чего ты удивляешься? Ему теперь только давай бумагу, любит писать стихи. А ведь сколько его знаю, он был и есть железный человек: дуло ко лбу приставь — не дрогнет. Помню, во время войны, когда фашисты уже почти к самому Грозному подошли…
Нет, прежде чем о войне, расскажу я тебе еще одно. Эх, услышала бы моя Залейха, как я сегодня разболтался, поклялась бы, что не мой голос слышит!
Нельзя откармливать коня в чужих яслях, мальчик. Позор это для человека. А нашлись такие в Ца-Батое. Засели в сельпо, в колхозе. И началось… Словно в душу цабатоевцам плюют: растаскивают добро…
Может, я глупее и горячее всех тогда был, но пошел и сказал: «Прекратите!»
Прогнали… Но меня трудно унять, если что начну (такое за мной уже в молодости водилось). И потянул я ниточку! Тогда они посредников к моему отцу прислали: «Уйми сына! Не говори потом, что мы не предупреждали…» Сам понимаешь, что это значит.
Помню, притаился я за дверью в страхе, потому что с самого детства боялся отца (на стороне-то он был человек миролюбивый, избегал ссор с людьми). Вот я и думал, что мне достанется от него. Но тут отец хорошо себя повел, сказал посредникам: «Мне не в чем упрекнуть сына. Убирайтесь и больше не показывайтесь у моего плетня, а то не посмотрю, что вы гости». Мне же — ни звука.
Я осмелел и открыто выступил, на собрании. Во время перерыва верные люди позвали меня во двор покурить я шепнули: «Прыгай через плетень и уходи: кое-кто хочет повернуть собрание по-своему, очернить тебя. Не дадут людям опомниться, схватят тебя!»
Я так и поступил. Недруги мои обрадовались и поспешили пустить слух: «В леса подался, в абреки! Честный человек разве пойдет таиться?»
Подался-то я не в леса, а в Москву: друзья тайком проводили меня через ущелье, усадили в вагон. В Москве мне сказали: «Если хоть половина из рассказанного тобой правда, то надо сажать виновников». Я ответил: «Если сотая часть неправда — сажайте меня!»
Вот так кончилось, мальчик, и это. А как же, плохо кое для кого кончилось, потому что никогда я не мешал правду с неправдой. Москву я, может быть, и напрасно встревожил, за правдой можно было съездить ближе. Но цабатоевцы любят ходить с козырей.
Э-э, шакалы завыли, слышишь? Пришел их час…
Ну хорошо, немножко и про войну. Молодые это любят…
Про фронт мало тебе скажу, потому что какая у меня война: уже в начале сорок второго выбыл из строя по ранению. Гордость моя только одна: Брестскую крепость защищать довелось, но я же там из наших горцев был не один.
Вернулся в родные края, а немец — за мной: фашисты уже у Терека. В Ца-Батое-то было тихо. Потом и сюда доплеснулось: фашисты сбросили в начале нашего ущелья диверсантов, в тыл Грозному.
Первым обнаружил диверсантов знаешь кто? Ширвани! Он уже к началу войны славился как проводник туристов. Поэтому ему поручили разведать новые, потайные дорожки в горах для партизанского отряда. И вот в верхних горах он наткнулся на четверых диверсантов. Вплотную!
Это он теперь такой, Ширвани, — неповоротливый, как женщина, и неторопливый в поступках. А тогда был горячий, быстрый, как искра. Между прочим, он признал среди диверсантов дальнего родственника Сяльмирзы, перебежавшего на фронте к немцам.
Родственник Сяльмирзы цыкнул на Ширвани, а один из немцев подошел и начал обхаживать. Они ведь тогда старались быть поласковее, чтобы обмануть людей, завербовать.
Ширвани выхватил финку, воткнул ее этому немцу в горло! Заколол, как дикого кабана. И успел уйти от автоматных очередей, прыгнув с обрыва в лес.
Мне одному и рассказал Ширвани об этой встрече.
Я сообразил, что родственник Сяльмирзы, наверное, у фашистов за проводника. Значит, обязательно выйдет на Сяльмирзу. Я пошел ночью к Сяльмирзе… Острый у нас с ним получился разговор, до сих пор он его помнит и боится смотреть мне в глаза. «Сяльмирза! — сказал я ему. — Твой родич — диверсант, и те, кто с ними, — на твоей совести. Мы должны передать их властям. Живыми или трупами, как тебе удобнее». — «Да меня мои родственники за это со света сживут! — обозлился он. — Я ведь знаю, какие они!» Я ответил: «Но и меня ты знаешь, Сяльмирза. И народ наш знаешь: не даст он предателям пить воду Гурса. Выбирай!»
По сей день гадаю, как поступил бы Сяльмирза, да обошлось и без него: диверсантов наутро взял партизанский отряд.
Ну, вот тебе и про войну тоже… А чего ты вдруг вспомнил Гнезда Куропаток? Смотри-ка, чутье у тебя есть. Сразу видно — горцем родился. А может, армия научила? Да, ты прав, троганные те камни, троганные. Только не немцами там был взведен «курок», а нами: подготовили мы обвал на случай, если фашисты по дну ущелья пойдут.
Давно пора бы и спустить этот «курок» вхолостую. Вот останется взрывчатка, когда закончим стройку, и сделаем. Там нужен небольшой взрыв, но направленный, чтобы обвал захлебнулся на «втором этаже» гор, не достиг дороги и Гурса.
Зоркий у тебя глаз, ничего не скажешь. Ведь я, помню, так замаскировал то место, что мы туда сами подходили, как с завязанными глазами.
Да какие мы были партизаны?! Ну и привязчивый ты! У меня уже рот высох от разговора. В республике было сформировано триста партизанских отрядов на случай прихода фашистов. Тайные, с секретными складами оружия. Этим отрядам почти и объявляться не пришлось, потому что немцев наши войска остановили еще у Терека, а диверсантов и предателей была в горах лишь кучка. А я — какой партизан? Просто цабатоевец, которому сейчас… не дают поспать.
Извини, что я с тобой так сердито. Понимаю, что-то в себе самом ты хочешь услышать. Но я больше о прошлом не скажу тебе ни слова. Нет там никаких этих… как ты их назвал, «самоотдач»… Бери, бери тулуп нашего Муни. Жаль, такой щуплый этот Муни уродился. Шубы толстухи Маржан хватило бы нам обоим и подстелить и укрыться… Доброй тебе ночи, Руслан!»
Глава IX
Когда любопытство Ца-Батоя вдоволь насытилось сенсацией — Артаган один строит дорогу! — оно уступило место второму знаменитому качеству цабатоевцев: упрямству. Если бы цабатоевское упрямство разложить наподобие химического соединения в какой-нибудь лаборатории, то в нем обнаружился бы такой элемент, как сила инерции. Причем двоякой: если цабатоевец идет, то его трудно остановить, — это инерция движения, а если он стоит на месте, то его трудно сдвинуть, — это инерция стояния. Сосед кричал соседу через плетень: — Ты не ходил еще на эту дорогу? Шайтаны бы ее взяли! — А что я, обязан? Или кто-то может меня заставить? — начинал задираться сосед. — Да нет, я просто так спросил. Я и сам туда не собираюсь. Пускай идет тот, кому делать нечего. А мне дел хватает и в колхозе и дома… Цабатоевец настороженно ждал, не придет ли кто из начальства уговаривать или принуждать. Никто не шел. Тогда опять срабатывало нестерпимое любопытство, а к тому же и некоторое самолюбие, на недостаток которого в Ца-Батое тоже не жаловались. Что там, на трассе? Хоть глянуть своими глазами на этого чудака Артагана, на его шалаш. Вчера этот старик проходил мимо, мог бы попросить: «Пойдем, помоги». Не считается, что ли? Или думает, что от меня толку на этой его паршивой дороге будет меньше, чем от других? — Ва, ло́лхо![29] — кричал сосед соседу через плетень. — Если у тебя есть время, не сходим ли посмотреть, как там строят? Только захвати лопату, а то подумают, что прогуливаемся. Неудобно будет перед Артаганом. А придешь туда, совестно не копнуть разок-два лопатой. — Вы бы лучше сели в сторонке, не мешали, — скажет Артаган. — Разговаривайте свои разговоры, тогда и мне будет веселее ковыряться. Тут же особенно трудного ничего, стариковская работа. Расчет при этом у Артагана простой — если не пускают, то цабатоевец обязательно полезет: «Дай же, Артаган, хоть что-то сделать!» — Ну, если не сидится, отбери вон из той осыпи булыжники покрупнее, чтобы загатить ложбинку… — уступает Артаган. — Только-то и всего?! Да это я и от скуки сделаю, лишь бы ты большего не просил. Эх, если бы и в колхозе можно было так легко отделываться!.. Разговоры тоже разговаривали. Как известно, общительность — родная сестра любопытства. Здесь, на стройке, встречались и проезжие, и прохожие, люди из всех трех аулов, как в воскресный день на базаре или осенью на мельнице в пору большого завоза. О чем только не услышишь… Сидят, курят, обмениваются новостями, пока кто-нибудь не вскрикнет: — Ва, мужчины, где наша совесть? Этот пень ему одному не выковырнуть! Ну-ка, взялись… Артаган не только не журит бездельников, он то и дело сам присаживается с ними. Слушает или расскажет свое. Людям интересно и лестно потолковать с бывалым человеком. Ведь раньше, когда он крутился в делах и бегах, совестным казалось подступиться к ному с беспредметным разговором. А тут — дорога, которая никого не торопит… — Сколько там еще метров осталось сделать? — воскликнет кто-нибудь весело. — Девятнадцать тысяч девятьсот с лишним? Воллахи, мои внуки и правнуки без дела не останутся! Когда юрт-да нагрянул на такие посиделки, он побагровел от гнева и накинулся на Артагана: — Чего ты этих бездельников, рассадил вокруг себя?! Что здесь, филиал клуба? Пусть или работают, или убираются! Интересно, какого черта я здесь целый день перекидывал гравий? Ни встать, ни сесть не могу после этого, на руке мозоль… — Может быть, она от печати? — догадался кто-то. — Тебе бы рот опечатать! Артаган, все равно никогда ничего путного с цабатоевцами никому не удавалось сделать… — Чего ты кипятишься? — посмеивались люди. — У тебя и бумаги нет на эту стройку. Поэтому, даже когда построим дорогу, она будет считаться несуществующей. Из кустов торчали головы Муни и Маржан. Абдурахман накинулся на них: — А это что за синке́рам?[30] Даже вы, старики, совесть потеряли, бездельничаете среди младших! Другого места не нашли для свидания? О чем ты там лясы точишь, Муни! — Что он сказал? Он сказал — «свидание»? Тьфу на твою пухлую голову! — отозвался Муни. — Люди, почему именно Ца-Батою бог послал такого крикливого председателя сельсовета? Ты бы, Абдурахман, лучше посмотрел сначала, какой у нас тут с Маржан синкерам. Я наготовил лозы, и мы теперь плетем маты, чтобы гравий перетаскивать. А где носилки? Где тачки? Где автомашины? Вот бы о чем твоей голове подумать. Плетенками таскали гравий еще в те времена, когда никаких сельсоветов на земле не было. А что я рассказываю Маржан про индийский фильм, тебя не касается, тебе этого не понять. Может быть, ты прикажешь, чтобы я вместо этого зачитывал нараспев этой женщине твои длинные сельсоветские протоколы, а? Как река собирает свои воды не сразу, а где ручеек-примет, где — приток, где — ливневый водопад, так набирала силу и стройка, привлекала все больше людей. Аульные «тузы», за которыми стояли целые коллективы, пока приглядывались. Свои-то ведомства Абдурахман тряхнул быстро. Целый отряд учителей и старшеклассников привел директор школы, прозванный за лихие усики и жизнерадостный, боевой нрав д’Артаньяном. Пришли медики, почтовики и самыми первыми — культработники (их возглавил заведующий клубом Али, ничуть не обижающийся на кличку Завмяждиг[31]). Но это были коллективы малоимущие, безлошадные. А «тузы» пока раскачивались. Наконец явился к Артагану начальник участка по сбору семян дикорастущих плодов. У него и брички и люди, умеющие все делать в лесу. Надо помочь? Поможем. Дорога участку нужна. Пришел и начальник лесоучастка. Это сильный «туз»: большой коллектив, автомашины — вплоть до семитонок. А главное, человек такой, что живет по правилу: слово — не слово, значит, и клятва — не клятва. Он сказал, что даст автомашины, а относительно самых габаритных стволов для сооружения мостов Артаган может совсем не беспокоиться: «Ничего не пожалею, лишь бы строилась дорога, по которой можно будет вывозить продукцию лесоучастка…» Абдурахман в первые дни с тревогой размышлял, как среагируют на цабатоевскую затею в райцентре. Скажут: почему без согласования развернули стройку? Нагрянет Строгий Хаким — будет дело! И вот ночью звонок домой к председателю сельсовета… Сам первый секретарь райкома. Сказав о срочном деле, секретарь продолжал: — Давно я у вас не был, только что из отпуска. Приеду посмотреть на новости. А пока, кстати, скажи, как там дело с этой дорогой обстоит? — Что, разве есть сигналы, что действуем не по графику? — осторожно схитрил юрт-да. — Значит, у вас уже и график есть? Не узнаю Ца-Батоя. По-деловому начинаете! Смотри, чтобы забота о людях была на трассе; сам приеду проверить! Гармонистку двинь туда, без этого белхи у горцев никогда не проходили. Если доведется пользоваться взрывчаткой, то только через умелые руки, под строгим контролем, а то людей покалечите. Съел, Строгий Хаким? Не прошла твоя линия? «Уф-ф!.. — вздохнул юрт-да с облегчением, положив трубку на рычаг. От этого могучего вздоха зашевелились бумаги на столе. — Впрочем, вот теперь-то и не дадут вздохнуть… — подумал Абдурахман. — Раз дорогу признали, значит, и требовать начнут. Тот же Строгий Хаким первым не будет давать мне покоя с этой стройкой, возьмется подгонять…» Насчет Строгого Хакима юрт-да ошибался. Правда, Строгий Хаким зачастил в Ца-Батой, однако его машина почему-то ни разу не остановилась возле сельсовета. Не видели ее и на трассе будущей дороги. Через своих благожелателей в райцентре любознательные цабатоевцы разнюхали, в чем дело. Оказывается, с возвращением первого секретаря райкома из отпуска все хитроумные межрайонные выкладки Строгого Хакима были признаны надуманными и отвергнуты. «Душа не позволяет видеть, как сами отрезаем от себя Ца-Батой!» — попробовал он постучать кулаком по своему кителю, под которым билось честное сердце районного патриота. «Знаешь что, — ответили ему в райкоме, — если душа не позволяет тебе помогать этой стройке, то хоть не мешай ей: объезжай шалаш Артагана стороной…» Строгий Хаким постарался было использовать последний козырь: эта дорога так или иначе будет отвлекать и силы колхоза, что неизбежно скажется на сельскохозяйственном производстве… «Вот-вот, — ответили ему, — хорошо, что ты вспомнил производство: уж за него-то мы с тебя спросим! По району вообще и по Ца-Батою в частности. Ведь Усман молодой председатель. Твоя помощь и контроль ему пригодятся…» Как человек дисциплинированный, Строгий Хаким перестроился тотчас же после этого. В чисто официальном разговоре он старался вообще не упоминать слова «цабатоевская дорога». Но упрямство есть глубоко в крови у любого горца… Буквально следуя указанию руководства, Строгий Хаким объехал шалаш Артагана стороной. Под видом осмотра скотопрогонной тропы он поколесил по «второму этажу» гор и при этом не преминул заглянуть оттуда, что же делается на трассе дороги. Ведь если Артагану удастся расшевелить этих своих цабатоевцев, они будут тянуть колею неудержимо хоть через весь Кавказ, пока в Черное море не упрутся. Внизу белела сквозь чащу леса совсем коротенькая лента. Сиротливо торчал у ее начала шалаш Артагана. «Ни черта у них с этой дорогой не получится! — решил Строгий Хаким. — Я полысею, пока машина из соседнего района сможет прокатить мимо Гурса с актом агрессии…» Он не без жалости посмотрел на одинокие фигуры, ковыряющиеся в лесу вдоль трассы. На какую забаву тратим силы народа… Да разве раскачать Артагану цабатоевцев на такую долгую, трудную и бесконечную работу? Во всяком случае, без решительной помощи со стороны правления колхоза вся эта затея с дорогой — дело дохлое. А у правления, как правильно указывает руководство района, должны быть несколько иные задачи. И об этих задачах мы сейчас правлению напомним… Строгий Хаким прикатил в правление колхоза, устроил бурю председателю. — Агротехника хромает, на фермах — бескультурье! — перечислял он гневно колхозные грехи. — Да в чем дело? Что случилось? — недоумевал ошалевший от разноса Усман. — В чем дело? Ждешь, пока я сам ткну пальцем в ваши упущения? С утра и до самой ночи мотался Строгий Хаким с председателем по полям и фермам, копался в бумагах. Сам щупал колоски, промерял борозды, облазил все коровники и овчарни, перепроверил человеко-выходы и выработку, структуру затрат на производство… Такой дотошной и придирчивой ревизии в Ца-Батое не видели отроду. При этом Строгий Хаким все время приговаривал: — Запомните, товарищи члены правления, запомните раз и навсегда: у Ца-Батоя забота номер один — колхозное производство! «Что-то он недоговаривает…» — ломал голову Усман, пока не надоумили члены правления, шепнув ему на ухо: «А дорога — забота номер два. Или, скорее всего, двадцать два…» Усман вышел из себя. Теперь чуть какой непорядок в колхозе, будут попрекать этой дорогой? Ну что же, если требуют еще жестче подтянуть вожжи производства, то пусть район получше заботится о колхозе! — Обновлять тракторный парк не помогаете! Стройматериалы даете со скрипом! — перечислял обозленный Усман Строгому Хакиму. — Агронома в штат год ждем! Племенных бычков выделяете всем, но не Ца-Батою! Простых бричек — это же позор! — уже сто лет в райпо не завозят, там ракету легче купить, а живое тягло в результате простаивает! Да я, наконец, до министра дойду! После этой стычки некоторые блага стали отваливаться Ца-Батою щедрее прежнего. Немедленно прислали колхозу и агронома. Колхозники высоко оценили внимание Строгого Хакима к их родному хозяйству. Оказывается, дельный помощник… А то все успевал только сказать: «Нажимайте, нажимайте». Бесхитростный юрт-да Абдурахман глубокомысленно решил, что не будет лишним высказать эту похвалу и вслух, прямо в глаза Строгому Хакиму. Все-таки старается человек для Ца-Батоя… Строгий Хаким скромно отмахнулся от этой похвалы, но видно же, что польщен. Все было испорчено из-за простодушия Абдурахмана, который, не подумав, растроганно добавил: — Должен сказать, и стройка нашей дороги кое-что выиграла благодаря тебе. Ведь теперь, когда Усман немножко разбогател, ему не так легко отказывать мне и Артагану. То брички у него вырвем без ущерба для колхоза, то старенький трактор на денек выпросим. Неплохо ведь, а? По лицу Строгого Хакима юрт-да понял, что перестарался. А тот хмуро пробормотал сквозь сердитую щеточку усов какие-то невнятные слова, которые можно было истолковать так: в этом Ца-Батое все, что ни делаешь, почему-то поворачивается шиворот-навыворот, не как у людей.Пожалуй, даже Строгий Хаким не мог бы упрекнуть молодого председателя цабатоевского колхоза в чрезмерном внимании к дороге. У Усмана хватало своих дел… Во всяком случае, председатель самолично побывал на стройке впервые лишь наутро после того дня, когда Строгий Хаким учинил проверку колхозу. Известно, что каждый подобный крупный разнос со стороны районного начальства немедленно обретает характер взрывной волны. От председателя колхоза эта волна и докатилась наутро до трассы новой дороги. Усман наткнулся там сразу же на безобразную картину: вся бригада колхозных каменщиков увлеченно трудилась на укладке булыжников в тело дороги. Специалисты такого тонкого дела, как кладка кирпича, блоков, они на этой примитивной, грубой дорожной работе трудились весело, со щегольством мастеров высокой руки. В бригаде каменщиков работал и отец председателя, Алаш. Это был невысокий, но приметный своей старческой дородностью человек. В стройбригаде его ценили. Несмотря на годы, дородность, живот, он легко лазил по лесам колхозных строек, одинаково хорошо владел и топором и мастерком. Выцветшие от солнца синие брюки Алаша профессионально залатаны на коленях. На голове — неизменная соломенная шляпа, дырявая и разлохмаченная, как разоренное птичье гнездо. Смотрит на мир Алаш с пристальным спокойствием, держится со всеми независимо, хотя первый готов к шутке. Полную независимость он сохраняет и с сыном-председателем. Однако тут, в лесу, увидев разъяренного сына, Алаш немного оробел и поспешил зайти за деревья. Потому что именно Алаш и подбил сегодня бригаду прийти на стройку дороги. Он не бригадир, рядовой, но среди всех строителей самый старший по возрасту и почитаемый, поэтому его послушались. — Почему вы не на объекте? — загремел Усман. — Кто вас сюда привел? Кто вам позволил бросить производство? Отвечай же, бригадир! Бригадир растерянно молчал. Тогда Алаш степенно вышел из укрытия и холодно обратился к сыну: — Слушай, председатель. Что же нашей бригаде делать на этом твоем объекте? Мы ведь чуть свет туда и явились, а кирпич за ночь так и не привезли. Чем крутить там цигарки, решили податься сюда. Эту дорогу что — для Америки строят? Она же тоже наша. Упорно не глядя на отца, Усман продолжал отчитывать бригадира: — Даешь сбивать себя с толку! Запомни: в этом колхозе председателем не Алаш, а Усман. Фамилия у меня с ним одна, а имена разные. Под общий хохот Алаш подал спокойную реплику: — Вот если бы и фамилии у нас с тобой были разные, я был бы совсем доволен, воллахи! Под руку Алашу в этот момент подвернулся самый младший сын, молоденький Ва́ха. — А ты чего в лесу околачиваешься? — удивился Алаш. — Я же приказал тебе остаться дома и очистить от навоза коровник. И Алаш дал Вахе своей крепкой рукой каменщика здоровенный подзатыльник. Вот куда докатилась взрывная волна от Строгого Хакима! Усман обнял обиженного братишку, пообещал сейчас подбросить его на машине до самого дома, а каменщикам велел: — Давайте на свои места и вы. Сколько поместится — со мной в машину. Нельзя же так, люди! Нет кирпича — другое дело каждому найдется. На ферме проходы в выбоинах, вот и замостили бы сегодня… — А как же дорога, Усман? Этим твоим выбоинам и прорехам в колхозе конца не будет. — Как хотите, мужчины, в первую очередь — производство, — твердо сказал Усман. — Это мы с вами ведь и без района понимать должны. А дороге — свободные часы. Артаган, скажи им, прав я или нет? Если не прав, давайте и мне лопату. Я ведь тоже цабатоевец. Свое я тоже здесь отработаю, за спину отца прятаться не стану… — Усман прав, люди, — отозвался Артаган. — Виноваты мы с ним оба, а не вы: не согласовываем пока действий. За помощь — спасибо. Наверное, не последний раз я вам это слово говорю? Как считаешь, Усман? — Ладно, ладно, — ответил ворчливо председатель. — Свое ты все равно возьмешь, кто этого в Ца-Батое не знает! Эх, люди, хорошо мне было у него заместителем сидеть…
Глава X
«Если Артаган сам, один взялся строить целую дорогу, то неужели…» Фраза эта обретала разные окончания в разных устах: «…неужели я не смогу построить новый дом?», или: «…неужели мы не сможем проложить водопровод в Ца-Батое?», или: «…неужели мы у себя в районе не сможем…» Такой ходовой эта фраза станет со временем. Может быть, родилась она одновременно в разных местах Ца-Батоя и всего района и в разных устах независимо друг от друга. А может быть, впервые она родилась все-таки в интернате. И распространилась по району в силу какой-то таинственной закономерности, согласно которой каждый слух, каждая новость начинают в горах ходить на своих ножках, едва родившись. Началось все с этого злосчастного телевизора. Во дворе он повел себя лучше и начал довольно четко показывать плавно плывущие то вверх, то вниз, за рамку экрана, волнистые поперечные полосы. Малышам это вначале очень нравилось, но ждали они все-таки большего. Как-то забежала Ахчи-Денежка из средней школы, решившая обслуживать новостями и интернат. Она сообщила Заре, что у кого-то из ее соседей телевизор тоже ничего не показывал, а подняли его вчера на горку рядом с домом — и все стало видно. — За что купила, за то и продаю! — скромно добавила Денежка свою излюбленную формулу объективности слуха. Почему не попробовать, если у интерната — своя гора прямо на усадьбе: высоченная Юрт-Корт — Голова Аула. И на просторной ее вершине сохранилась линия электричества, после того как отсюда перевели за село корпус молочной фермы. Ширвани разрешил поднять телевизор туда. Подвернулся Руслан, чтобы сделать это. «Что-то он часто стал подворачиваться… — задумался Ширвани, бормоча стихи. — Чаще, чем требуется расписанием уроков физкультуры!» Телевизор родился на вершине Юрт-Корт заново, стал ловить все передачи! Этот вечер был для интерната праздником. С тех пор ежедневно, перед началом передач, на вершину карабкалась целая процессия. Старшие девочки осторожно несли тяжелый телевизор, младшие ползли поодаль, чтобы не подвернуться никому под ноги. Правда, сущее мучение было, если наверху застигала непогода. Малыши мокли и все же не хотели отрываться от экрана, затевали такой слезный крик, что внизу, в ауле, люди высовывались из-за плетней: может, Ширвани сочинил для детей что-нибудь слишком, уж жалобное? Однажды, когда спасались от дождя, телевизор вырвался из рук на скользком спуске и сам доехал донизу. Но это был очень крепкий аппарат. Наверное, сделанный в горном варианте. Он хоть бы чихнул после катанья на мокрой горе! От Ширвани это происшествие скрыли, да ему было и не до телевизора. Как-то, когда собирались нести телевизор на гору, Ширвани подошел, остановил жестом Руслана и Зару. Долго и серьезно смотрел, закинув голову, на вершину Юрт-Корта.Потом спросил, ткнув пальцем вверх: — Телевизионные волны — там, на горке? Руслан, улыбаясь, переглянулся с Зарой и подтвердил: — Волны — там. Ширвани ткнул пальцем куда-то себе под ноги: — А телевизор — здесь, внизу? — В данную-то минуту здесь, но… — замялся Руслан и с тревогой посмотрел на Зару, словно говоря: «Вот и конец вашему голубому огоньку…» — Ширвани, мы думаем сделать ступеньки наверх. Лестницу! — поспешила снасти положение Зара. — Ведь сделаем, Руслан? И тогда будет легче таскать… Руслан не слышал ее, потому что остолбенело смотрел на вершину горы, потом схватился за голову и вскричал: — Какой же я чудак! Как же я это сразу не сообразил… И пятиклассник бы додумался! — Поставить на горке антенну, а провод — вниз? — неуверенно уточнила Зара. — Наконец-то додумалась. Умница! — насмешливо похвалил ее Ширвани и добавил торжественно: — Для чего интернат создан, Зара? Для того, чтобы девушки умели хорошо думать… Его позвали в кабинет: приехали гости из соседнего ущелья — родители воспитанниц. Он пошел к крыльцу, торжественно отбивая рукой ритм и бормоча в такт этому ритму: «Волны — там, будут здесь, волны — там, будут здесь…» — Где же достать столько телевизионного шнура? — размышлял Руслан, когда поднялись с телевизором наверх. — Черт, стыдно перед Ширвани, что сразу не сообразил с этой антенной… А может, это даже лучше?.. Скажи, Зара? Лучше? — Мне тоже так нравилось здесь, — тотчас поняла его Зара. — Такая уютная эта рощица, и так далеко видно отсюда! Смотри, как Гурс сверкает! — Не убежит твоя гора, — утешил ее Руслан. — Сделать в рощице столик, пару скамеек — и можно здесь заниматься. Выкопать на склоне ступеньки ничего не стоит. А телевизор пусть себе внизу. — Летом — под этим противным навесом, а зимой — в тесной пионерской комнатке? Мало радости… — Уже ползут твои малыши, — показал Руслан вниз. — Мне так хорошо здесь, когда мы только вдвоем! Тут и дышится так привольно… Да ты совсем не слушаешь меня? Он спешил наговориться, пока они здесь одни; Зара же с отсутствующим видом озирала площадку горы, словно видела ее впервые. — Что с тобой, Зара? Что-то потеряла? — Нет. Нашла! Я думала — и придумала. Ведь Ширвани сказал: «Надо уметь думать». Знаешь, что я придумала? — Хрустальный дворец на нашей горке! — Не из хрусталя. Из кирпича. Клуб! Маленький зал со сценой и две комнатки для кружков. Это так просто! — Да ты знаешь, что это такое — поднять сюда гору кирпича? — Горожанин! Вот он, кирпич, под ногами… Это же глина. Замеси ее с соломой и формуй саман сколько хочешь. Я же дома столько перемесила ногами этой глины. У меня ноги поэтому такие сильные! — Постой, Зара. Я думаю, что все это для Ширвани… — Ширвани-то поймет! И Зара побежала мимо удивленных девушек и малышей с горы. Руслан помчался за ней, стараясь поддержать ее на крутом спуске. Они влетели в кабинет директора почти вместе. Увидев в кабинете посторонних, Зара попятилась, но директор привстал: — Что-нибудь случилось на горке, Зара? — Там, на вершине… Нет, там все в порядке, Ширвани! Мы решили… Она оглянулась на гостей, сидевших на диване, и запнулась. — Что же вы решили, Зара? Я тебя слушаю, Зара. — Построить клуб! Своими руками… В комнате стало так тихо, что Руслан слышал и легкое дыхание Зары, и как бьется о стекло пчела, и как засопел Ширвани. В этой тишине словно звук выстрела раздался — это хлопнул ладонью о ладонь один из гостей, вскричал хриплым басом: — Та́маш, я́а![32] Нет, вы слышали, что девочка сказала? Ширвани, это и весь ум, который вы здесь нашим детям даете? Гости заговорили вразнобой. Худощавый рябой мужчина произнес степенно: — Воллахи, не так уж глупа эта девочка: неплохо бы нашим детям иметь клуб. Артисты стали бы из города приезжать, писатели. Может быть, сам Махмуд Эсамбаев перед нашими девочками выступил бы: если я попрошу, он не откажет, у меня с ним есть кое-какое родство. Да и что такое, если вдуматься, клуб? Четыре стены и крыша. Горцам ли бояться такой работы? Только вот если бы интернат был мужской, а не женский… У девочек сил не хватит! — А мы для чего — цабатоевские ребята? — вставил Руслан. — Да помочь-то и мы, родители, можем, — сказал худощавый. — Если все заранее подготовить… Шифер за зиму запасти. Леса в вашем ущелье много. Окна-двери вам лесоучасток и бесплатно сделает. Конечно, и денежки кое-какие понадобятся, но районо тебе не откажет, Ширвани. Руслан наблюдал за директором. Что скажет он? Похоже, что директор безразличен к разговору… — Построить на вершине клуб… Построить на вершине клуб… — бормотал Ширвани, легонько постукивая по столу пухлой рукой и озабоченный, казалось бы, одним: есть ли в этих словах ритм стиха или нет. Однако Руслан заметил в округлых и всегда отрешенных по виду глазах директора быструю, решительную работу мыслей. «Еще чуть-чуть подтолкнуть бы Ширвани…» — подумал Руслан и, кажется, нашел слова для этого: — Уж если Артаган один начал строить такую дорогу!.. — Зара, мы построим клуб, — сказал Ширвани торжественно. Показав на худощавого рябого гостя, он прозаическим голосом добавил: — Зара, возьми бумагу, начни вот с него список наших будущих помощников. Опять раздался гулкий, словно пистолетный, звук. Это обладатель хриплого баса хлопнул ладонью о ладонь, вскричал: — Тамаш яа! А почему девушка меня не будет писать?! Пусть люди скажут: когда я в стороне от таких дел оставался? «Если Артаган сам, один взялся строить дорогу, то неужели мы…» Может быть, повторяем, отсюда, из интерната, и пошла эта знаменитая фраза: ведь в гостях у Ширвани сидел не один горец, а целых трое, что вполне могло утроить скорость распространения по району слов, прозвучавших в кабинете директора.…Руслан побежал в обычный свой путь по горам. Он уже легко преодолевал дистанцию. Наверное, сам Гурс уже не поспевал за ним! Руслану казалось, что он смог бы обойти на этом маршруте и верхового. Впрочем, какой конь пройдет через такие глубокие каменистые лощины, через эти расселины с крутыми стенками? Теперь он соревновался здесь не с Гурсом, грохотавшим где-то внизу справа, а с секундной стрелкой. Чтобы добежать до Гнезд Куропатки, уходило меньше часа, дыхание же оставалось ровным. Кеды давно излохматились, их подошва истончилась. Чтобы было не так больно бежать по камням, Руслан надевал две пары толстых шерстяных носков грубой цабатоевской вязки. Он чувствовал все свое молодое, сильное тело. Ни грамма лишнего веса. Это не только от тренировок: столько земли и гравия перекидал он на стройке дороги вместо с другими учителями, да еще эти ступеньки копал на склоне Юрт-Корт… Другой бы после таких нагрузок не только бегать — ходить бы не смог, а Руслан, судя по секундомеру, даже «прибавил в беге». Он бежал и размышлял об этой затее с будущим клубом, вернее, о том, откуда и как она родилась. Придумала Зара. Но не потому ли, что всколыхнул цабатоевцев Артаган? Всегда найдется дающий. Должен быть и берущий. Иначе эстафета прерывается, бег жизни останавливается. Взявший тоже должен в свою очередь что-то дать людям, но прежде пусть найдет собственную точку деятельного, активного соприкосновения с жизнью. «Я найду, найду эту свою точку, — думал Руслан. — Без нее не может быть того, что делает человека человеком, не может быть простой отваги поступков». Он думал об отваге Артагана, взявшегося за свое смелое дело. И об отваге того же Ширвани. Не о той лишь только отваге, когда Ширвани в свои пятнадцать лет навел отцовскую одностволку на врагов, но и о вчерашней простой отваге: «Я вам разрешаю строить клуб». Ведь ясно же, сколько теперь будничных и вместе с тем героических забот ляжет на плечи директора: со стайкой девчушек возводить здание на крутизне. …Возле Гнезд Куропаток Руслану показалось, что там мелькнула какая-то большая тень. Для тени от бегущего облака она была слишком мала, а куропатка-кейклик мелькает по камням совсем маленькой тенью. Человек? Он перед обратным путем лег на холодный после ночи щебень и по-альпинистски закинул ноги на валун, чтобы они отдохнули. Вдруг где-то вверху зашуршала щебенка; этот шорох в такой мертвенной тишине показался от неожиданности грохотом обвала. — Вот здесь мы и поговорим, кяньк! — услышал он хохоток Харона. Харон прислонил двустволку к скале. Не успел Руслан как следует привстать, Харон сделал два больших шага вперед и нанес сокрушительный, точный удар Руслану в подбородок — такой точный, словно давно уже нацеливался и наметил точку. Руслан запрокинулся. Вскочить сразу он не мог: все плыло в глазах, а ноги не нашли опоры в ускользающей осыпи. Едва он приподнялся, Харон нанес еще один удар, уже по зубам. Ответный удар Руслана получился слабым, потому что Руслан стоял ниже по склону. Этот Харон знал, как драться в горах: он старался забежать выше противника. Как только с заплывшим от синяка глазом Харон бросился на Руслана, тот запрокинулся на спину, уперев ногу в живот Харона, и благодаря этому приему перебросил противника через себя. Харон быстро вскочил, держась обеими руками за затылок и пошатываясь. Руслан заколебался: бить ли еще? Харон дико взвизгнул и прыжками помчался в гору. — Убегаешь, трус! — шагнул было следом Руслан, но охнул и беспомощно присел: подвернулась, застряв между острыми камнями, нога. — Подставляй лоб, собачий сын! — раздалось сверху. Харон щелкнул курками двустволки. Руслан, еще сидя на корточках, нащупал рукой камень. Поднялся и пошел, хромая, в гору. Харон пятился, нащупывая спиной дорогу между камнями и не сводя ружья с Руслана. — Не подходи ко мне! — закричал в страхе Харон и кинул быстрый испуганный взгляд вверх на нависшие скалы. — Я не могу здесь стрелять! Все рухнет, обвал раздавит нас обоих… Руслан остановился и отшвырнул камень. Харон опустил ружье. Тяжело дыша, он сказал прерывающимся голосом: — Получил ты обещанное мною… Не красуйся больше на Юрт-Корте! Дрожащими руками он закинул ружье за спину и быстро пошел прочь. Остановился на миг, бросил через плечо: — Ничего не болтай в ауле, если ты мужчина… «Расчетливый подлец этот Харон, — размышлял Руслан, глядя противнику вслед. — Караулил меня не где-нибудь, а в конце моей дистанции, когда я без сил». …У физрука ободрано лицо, а у Харона под глазом синяк. Ца-Батой немедленно взял эту новость, хоть и незначительную, на исследование, но ничего особенно интересного установить не смог. «Руслан бегает по опасным скалам, как тур, вот и сорвался на осыпи, — решили в ауле. — Когда-нибудь свернет голову. Горец-то он горец, но городской. А синяк у Хурьска? Удивительно не это, а то, что он до сих пор в своих драках без синяка обходился. Что ж, всему свое время приходит».
Денежка-Ахчи разнесла по Ца-Батою известие: Казбек и Майрбек решили создать в школе музей всей истории Ца-Батоя. — Конечно, с моей помощью, — скромно добавила лопоухая Денежка. Если в этом известии и было преувеличение, то самое небольшое. Создать музей давно задумали два учителя: преподаватель литературы Пиктусович и историк Зелимха́н. Но первые экспонаты действительно принесли трое приятелей: Казбек, Майрбек и Денежка. Пиктусович — не то белорус, не то поляк, ходит в пенсне, галстук бабочкой, однако вписывается в цабатоевский пейзаж благодаря большим усам. Правда, усы не совсем горские: рыжие не рыжие — таких в Ца-Батое хватает, а какие-то гнедые и не закручены вверх, а свисают по-гайдамацки вниз. Но все-таки усы. И потом, Пиктусович совсем цабатоевский человек. Он живет здесь чуть ли не четверть века, свободно говорит с горцами на их языке. Сын его закончил в пединституте национальное отделение и преподает где-то чеченский язык. Фамилию Пиктусовича цабатоевцы бесцеремонно ополовинили для простоты: Усович. Он дружит с Зелимханом, высоким и очень сдержанным горцем с орлиным профилем. Казбек, Майрбек и Денежка в своем конном путешествии по горам раскопали где-то после оползня древнюю кольчугу и изъеденное ржавчиной кремневое ружье тех времен, когда в здешних краях владычествовал грозный Шамиль. А Денежке посчастливилось, кроме того, найти матрицу для печатания денег. Видно, решили мальчики не без зависти, помогло ее имя: Денежка. В период гражданской войны как раз в этом районе была столица самозваного властителя «всех мусульман Кавказа» — эмира Узу́на-Хаджи́. Он печатал свои деньги, в народе называли их фальшивками. А какой-то цабатоевец решил, видимо, что он сам не хуже эмира, и стал копировать эмирские деньги, печатать, таким образом, фальшивки в квадрате. Матрица была сделана из белого камня-плитняка, которых по руслу Гурса сколько хочешь. Цабатоевцы проявили к музею совершенно неожиданный интерес. Они поволокли сюда все, что надо и не надо, и все это складывалось пока в учительской. Если во время заседания педсовета не хватало стульев, можно было сидеть на мельничных жерновах прошлого века, хоть это и непедагогично. Вместо звоночка директор школы д’Артаньян использовал иногда по забывчивости огромную деревянную ложку своих предков, постукивая ею по столу, а карандаш затачивал большим, как меч, кинжалом шамилевского воина. Да и вообще у будущего музея профиль складывался почему-то воинственный: гора пушечных ядер в учительской; кулацкий обрез; дуло двуствольного пистолета одного знаменитого цабатоевца, участника гражданской войны; автомат и корпуса гранат Отечественной войны. Попали в музей бумаги соседа цабатоевцев — грозного абрека Зелимхана, который целых тринадцать лет держал в страхе царскую администрацию на Северном Кавказе. Секретарь райкома прислал музею копию земельной карты древнего Ца-Батоя с приложением указа Шамиля, какие он земли закрепляет за этим аулом. На указе красовались вокруг личной печати Шамиля еще штук восемь помельче. Это были печати наи́бов — наместников Шамиля. Вероятно, эти князьки за спиной у своего владыки расхватывали земли аулов. Поэтому Шамиль мудро заставил князьков скрепить цабатоевский указ и личными печатями: пусть потом не говорят, что не знали, чьи это наделы. Цабатоевцы с одобрением разглядывали этот старинный образец бюрократизма, хотя и были в душе противниками бумаготворчества. Руслана удивило, с каким увлечением относится Пиктусович к музею. Ему казалось, что этот старый учитель живет целиком в книжном мире и лишь именно там находит свои точки соприкосновения с жизнью. В школе было всего три тысячи книг, а у Пиктусовича — четыре тысячи. Читать он их никому не давал. У него дома — пожалуйста, хоть всю ночь, что Руслан часто и делал, разлегшись на медвежьих шкурах, подаренных хозяину цабатоевскими охотниками. Однажды Пиктусович, трогая по очереди кончики своих вислых гнедых усов, задумчиво сказал Руслану: — На наших глазах творится история Ца-Батоя, и я от этого начинаю глубже понимать прошлую историю аула. — Какая же история творится сегодня в Ца-Батое? — спросил Руслан и лег на спину, раскинув руки по медвежьей шкуре. — Не дорогу ли Артагана вы имеете в виду? — А хотя бы и так! Безусловно, можно назвать историей и каждодневные общественно значимые факты из жизни нашего аула, их, так сказать, сумму. Однако я хотел бы рассматривать только поворотные события. Создание колхоза в Ца-Батое было таким событием. Прокладка артагановской дороги через ущелье — тоже событие, хоть и неизмеримо меньшее по значению. Частное. Но тоже поворотное для истории данного аула. — Что же повернется? — Что? Я бы сказал… м-м… психология цабатоевца. Он всегда умел пахать. Умел делать маленькие белхи. Колхоз можно назвать большими белхи. Но и в колхозе ни разу не случалось, чтобы сделали сразу одну огромную работу общим трудом нескольких аулов: в силу специализации все рассредоточено по бригадам, полям, фермам, по сезонам. Поэтому цабатоевец привык к определенным масштабам коллективных возможностей, к определенной мере массовости усилий. Согласны? А эта артагановская дорога… — Великое свершение? — перебил Руслан недоверчиво. — Нет, это громко. Просто кусочек примитивной дороги сугубо местного значения. Еще неизвестно, удастся ли ее протянуть до конца, хотя Артаган очень волевой и страстный человек. Не вскакивайте, Руслан, и не удивляйтесь, я не ошибся словом: он человек большой страсти. Но этот кусочек дороги покажет цабатоевцам, на что они способны, вы ведь и сами такую мысль выражали. Я думаю, что у них весьма расширится понятие слова «коллектив» и понимание слова «могу». Скажите, разве это не обернется новой пользой для колхоза? Со своей новой масштабной линейкой люди будут и обычные колхозные дела мерить по-иному, раздвигать их рамки. Мне кажется, Артаган это прекрасно понимает, я говорил с ним. Мне кажется, у него главная страсть не дорога, а колхоз. Если сказать шире, с точки зрения общесоветской формулы: страстное стремление сделать максимальное для материально-технической базы коммунизма. Громко? Скажу еще торжественнее. В многотомной будущей книге «История коммунизма» — будет же когда-нибудь такая книга? — я бы уделил строчки и таким событиям, как прокладка этой малюсенькой дороги, которая и на карты-то не попадет… Так вот, о дороге. Ца-Батой страстно хочет пробить путь, чтобы почувствовать себя еще ближе ко всей стране, к тому же Грозному, к русскому и другим народам страны. И над этим тоже размышляли мы с Артаганом. То-о-онкий он старик!
…Артаган же совсем не думал над тем, что делает историю Ца-Батоя. Он делал дорогу. Каждую ночь, оставаясь после дневной суматохи один у своего костра, он проводил «сход» аула: перебирал каждого, вспоминал, кто уже побывал на стройке, а кто еще нет. Подсчитывал, сколько сделано, мысленно спрашивал односельчан: как поведем дело дальше, на кого и на что можно рассчитывать? Почему вот те, на кого так надеялись, не идут? Зато как случилось, что мы с вами, цабатоевцы, столь мало знаем друг друга и считали никчемными, своекорыстными людьми таких-то и таких-то, а они вдруг оказались беззаветными на общей работе аула! Артаган с наслаждением работал лопатой. Однако теперь ему все реже приходилось это делать. Люди прибывали, причем пока что все шел народ разный: вчера одни, сегодня другие, а завтра совсем новички, вышедшие на дорогу впервые. Всех надо расставить, каждому объяснить, что и как делать. Насчет «как» приходилось разговаривать особенно терпеливо и осторожно. Потому что любой цабатоевец сам знает как. Подумаешь, дорога! В камнях живем, камни на полях перебираем, а тут не та же ли работа? — Ва, нах, вы видели? — изумленно вскрикивает цабатоевец, независимо подбочениваясь и кивая головой на Артагана. — Он мне объясняет, как ребенку, даже то, что надо делать с земляным полотном дороги! Слушай, Артаган, долго тебе жить, но пойми, лопата меня слушается лучше, чем тебя твоя рулетка. Я с ней, лопатой, только что не сплю. Конечно, всегда найдется рядом человек, который заступится за Артагана и крикнет подбоченившемуся гордецу: — Лопата-то у тебя послушная, это мы знаем, но разве над этой лопатой не должна торчать голова, которую следует слушать? — Моя-то голова — голова, какая ни есть. А вот ты ответь, что делать тем несчастным, у которых вместо головы кукурузная кочерыжка с дли-и-инным языком, который любит лезть не в свой разговор? Оставив этих двоих выяснять отношения, Артаган спешит к другим. Впрочем, он никогда не ходит торопливо. Когда он идет, тело у него расслаблено, руки висят, голова свободно склонена к плечу. Гуляет себе человек без всяких тягостных дум. А уж если нужно что-нибудь быстро, тогда только бегом, как бы посмеиваясь на ходу над тем, что позволяет себе такие юношеские выходки.
 Вот тот чудак собирается неправильно подсечь лопатой осыпь, чтобы набрать гравий. Неторопливый, развинченный шаг Артагана молниеносно, но поразительно мягко и естественно переходит в упругий бег. Артаган перехватывает у чудака лопату:
— Я наблюдал, как ловко она у тебя в руках ходит. Мне до этого в мои годы далеко, но дай-ка и я копну, а то целый день только хожу, руки соскучились…
У большинства помощников Артагана — явно выраженный «косметический» уклон. Каждому хочется, чтобы поскорее «стало красиво». Поэтому у таких самое любимое занятие — повозиться с верхним слоем дороги: с гравием. Они его и разравнивают, и притаптывают ногой, обирают каждый камешек, нарушающий ровную красивую линию над кюветом.
Артаган же почему-то не придает ни малейшего значения этой косметике. Он знает, что вся она исчезнет, ее время еще не пришло. После первого же дождя дорога просядет, пойдет ямками, после первой же машины даже укатанное полотно разлохматится по краям. Главное же для дороги, как и для дома, не косметика, а фундамент. Угадать, где какой грунт, максимально уплотнить его, разглядеть места повышенной влажности, знать, где уложить булыжник-фундамент в один слой, а где в два и в три. Следующий слой — фракции помельче, затем — еще мельче, а уж поверх гравия можно будет пустить и нарядную щебенку.
Щебенку Артаган пока что категорически отвергает.
— Ты решил покрыть полотно щебенкой? — тихо изумляется он старательности добровольца. — Воллахи, будет красиво! Эх, жаль, что придется пока отложить это… Понимаешь, здесь со склона обязательно будет просачиваться на полотно ливневая вода. Если преждевременно уплотним гравийный слой щебенкой, вода будет в нем застаиваться, полотно перестанет дышать.
— Ну-у?! Все я насчет дорог знаю, а вот что твоя дорога умеет дышать, не подумал. Хорошо, я согласен пока и без щебенки!
Здорово помог поднять авторитет Артагана приезд инженера из дорожного управления. Приятно было узнать, что прислали его по поручению Совета Министров, о чем цабатоевцы тотчас начали передавать из уст в уста.
— Чего вы обрадовались! Эти дорожники терпеть не могут, если кто-нибудь строит без ученого проекта! — сказал кто-то. — Для чего, думаете, созданы проектные институты?
— У нас есть свой институт — «Артаган-проект»!
— Все равно инженер найдет ошибки. Он только за этим и приехал!
— Я лишь в порядке технадзора, для профилактики технических ошибок, — бесстрастно сказал приезжий, бледный человек с тяжелым портфелем, и рассеянно посмотрел кругом: почему вдруг рассмеялись столпившиеся цабатоевцы?
Помог этот визит Артагану не тем, что инженер сказал что-либо неизвестное Артагану. Получился как бы экзамен на глазах у всех, и люди окончательно убедились, что в их руках дело не столь уж простое и знает Артаган это дело здорово.
— Давайте измерим кое-что, — сказал инженер.
— Пожалста, — вежливо согласился Артаган и начал вытягивать из неказистого, с сошедшим никелем барабанчика рулетки потрепанную желтую ленту, местами заботливо сшитую руками Залейхи.
— Не надо, — остановил гость.
Он чем-то щелкнул. Из зажатой в ладони инженера маленькой сверкающей, словно юбилейный рубль, круглой коробочки с шелковым шелестом вылетела, блеснула змейкой стальная желобчатая лента. Муни под общий хохот отшатнулся в страхе, присел на корточки и потрясение сказал:
— Иш-ша… Дял вейц ва![33]
Инженер измерял лентой полотно и кюветы, что-то высчитывал на листке своей записной книжки и задавал вопросы.
— Как справитесь с ливневыми водами на данном участке? — сухо спрашивал Артагана гость. — Сечение кювета здесь слишком ограниченное.
— Кроме кювета, сделаем тут напорные канавы. Спасут!
— Через эту лощину разве можно вести полотно при такой крутизне ее склонов?
— Смотри, пожалст, кривые радиусов и подъемов-спусков, — листает Артаган свой потрепанный блокнот. — Крутизна — в норме.
— Этот грунт вас задушит. Куда денете его из резервов?
— Немножко — в насыпь, немножко — в кавальеры. Вон уже начали. Пожалст!
— Анна́сыц я́а![34] — хлопнул кто-то в ладоши в полном восторге. — Артаган отвечает как настоящий отличник! Ставь ему пятерку, Бледный Человек!
— Что они кричат? — спросил инженер у Артагана.
Джаби, прозванный теперь цабатоевцами Досрочный Старик за то, что прежде времени оказался старшим в своем тейпе, весело ответил за Артагана на ломаном языке:
— Что ми кричат? Ми кричат: давай Артагана ставляйт дорожный министром! Голосуй, Ца-Батой! Будем демократия!
— Он и так дорожный министр… Ца-Батоя, — неожиданно улыбнулся Бледный Человек.
…Усевшись в «газик» и положив портфель на колени, гость долго и неподвижно смотрел через ветровое стекло, будто размышляя, ехать или нет. Шофер терпеливо ждал команды «трогай».
— Артаган! — вдруг подозвал инженер.
Люди деликатно остались в стороне.
— Артаган, — положил инженер руку на плечо старику, — устроит вас, если я всеми правдами и неправдами добуду вам хотя бы на неделю скре́пер?[35]
Люди услышали и дружно закричали: «Вурро!» Гость оглянулся на них и, заслоняя от них что-то плечом, полез в свой карман.
— Отвернемся! — гаркнул на всех Джаби. — У него сейчас полный секрет…
Цабатоевцы дружно отвернулись и увидели, что гость смущенно сует в руку Артагану блестящую круглую коробочку.
— Пожалст, не надо… — сказал Артаган с просительной улыбкой, протягивая подарок назад. — Каждый дорожник привыкает к своей рулетке!
— Я дорожу своею. Поэтому и дарю… — сказал гость и нетерпеливо крикнул шоферу: — Трогай же…
Машина пробуксовала на месте, но могучие руки цабатоевцев прямо-таки вознесли ее на крутой бугор.
После этого визита люди стали работать вдумчивее. Если кто из новичков лез препираться с Артаганом, его осаживали окружающие: «Ва, ко́нах![36] Твоему уму здесь делать нечего, пусть он продолжает отдыхать. Мы сами видели, как Артаган инженеру отвечал…»
Абдурахман на очередном сходе все-таки узаконил желание цабатоевцев строить дорогу. Проголосовали и за нормы отработки на трассе — кто сколько часов должен отдать стройке. «А то будем поглядывать друг на друга, плодить обиды, — сказали выступавшие. — Теперь, когда народ двинулся, можно ленивых и подстегивать!»
Поначалу Артаган, к удивлению председателя сельсовета, ничуть не беспокоился о количестве людей на трассе.
— Сколько сегодня придет — столько придет! — беспечно отмахивался он.
— Может быть, ты думаешь, что я буду здесь с тобой вдвоем ковыряться на прокладке дороги до конца жизни? — сердился юрт-да. — У меня своих дел много. А тебя мы утвердили вчера на сессии председателем дорожной комиссии сельсовета. Вот и работай!
— Да я и так работаю… Не ты же меня погнал сюда? — посмеивался Артаган.
— Самый ты непонятный и загадочный человек в Ца-Батое! — сокрушался юрт-да.
На самом же деле ничего загадочного не было. Артаган боялся большого скопления людей, пока не найдет себе толковых помощников для наблюдения за качеством работы. Он молча приглядывался, поручал возглавить ту ила иную работу то одному, то другому.
Неожиданно оказался находкой заведующий клубом Али-Завмяждиг. Он был занят в своем клубе вечерами, а днем почти все время находился на трассе. Этот тридцатилетний парень, как заметил. Артаган, разбирался в дорожном деле не больше других, но у него не было ни капли цабатоевской спеси в характере и слова «знаю» в лексиконе. Он пытливо и вдумчиво выспрашивал у Артагана, почему надо делать так, а не этак, свое же выкладывал людям чуть ли не застенчиво.
Этот невысокий парень с худым скуластым лицом, светлыми бровями и ресницами умел без лишнего слова и без шума расставить людей, кратко объяснить им суть работы. У него была куча всяких нагрузок в парторганизации сельсовета. Тем не менее Али безропотно повел всю «канцелярию» Артагана: записывал отработки, высчитывал объемы работ. А в час перекура Али доставал из кармана газету: «Если хотите послушать новости…»
Бот таких помощников и подыскивал Артаган. По мере того как они выявлялись, Артаган говорил Абдурахману: «Людей бы нам еще немножко. Совсем немножко».
Джаби — Досрочный Старик — привел сегодня чуть ли не всю свою ближнюю и дальнюю родню, даже женщин. Сам он шел сзади, шутливо потрясая толстой, как дубина, палкой, и подгонял улыбающихся родичей, словно стадо гусей:
— Веселее, веселее! Не на смерть вас гоню. А если и на смерть — так вы все равно и так мертвые, нигде от вас толку нет… Пусть люди видят, во главе какого пропащего тейпа бог поставил несчастного Джаби — Досрочного Старика.
— Джаби! — крикнул ему тракторист Тута. — Что же это ты у нас в передовом Ца-Батое тейповщину насаждаешь? Помнишь, лектор объяснял, что тейп — пережиток родового общества, девятнадцатый век!
— А что делать, если эти, которых я подгоняю, — пятнадцатый век? Дикари! Один Харон чего стоит…
— Да-а, тяжелый у тебя тейп! Не в тебя ли?
— Ну-ну, полегче! Ты лучше объясни людям, где члены твоей фамилии! — огрызался Джаби. — Мои-то — вот они. А твои — на лекции? Или, может быть, висячий мостик починяют, чтобы ты с него не падал в Гурс?
Не остался в стороне от стройки даже тот, кто ничего общего иметь с Гурсом не желал: рыжий Эми, которого Гурс лишил сына Ризвана.
Сегодня дочь Эми — Сацита приехала сюда, восседая на арбе. Сацита сказала Артагану:
— Отец велел передать, что он и моя на́на[37] не могут прийти к Гурсу, потому что мы после смерти Ризвана даже воду стараемся брать в другом месте. А мне он велел быть здесь целый день ездовой. Нагружайте арбу камешками! У нас хороший конь.
Артаган потрепал ее по щетинистой головке, дал ей большой сверкающий рубль на конфеты и отправил домой, пообещав:
— Коня и арбу вам пригонят в целости. Передай отцу ба́ркалла[38] от всех людей…
На трассе появился также директор интерната Ширвани во главе старшеклассниц.
— Далекого ты, оказывается, расчета человек… — встретил его Артаган.
— У тебя я учусь, у тебя я учусь… — ответил Ширвани нараспев. — Сейчас я привел тебе помощниц, а на будущий год ты приведешь нам кое-кого на Юрт-Корт, строить наш клуб. Хороший расчет?
Ширвани пришел не в ичигах, которые в Ца-Батое носят, кроме него, только богомольные старики, а в своих добрых альпинистских ботинках. Выставил ногу вперед — пусть-ка шутники позлятся, что сегодня-то уж нельзя подразнить его ичигами. Но тотчас по трассе стали перекликаться:
— Люди, слышали новость? Говорят, Ширвани порвал с религией, завязал насчет молитв: не носит больше ичиги! А толстый Сяльмирза по этому случаю сегодня открывает тя́зет[39].
Людей озадачило, когда Артаган выпроводил тех, кто прибыл на помощь из аула Борзи во главе с кузнецом — Кривым Хасаном.
— Ваша очередь еще придет, — сказал он Хасану.
— Как так? — удивился Хасан и начал сразу заводиться: — Мы не навязываемся. Аул Борзи жил и проживет без этой вашей дороги. Может быть, Ца-Батой хочет себе всю славу этой дороги взять? Пожалуйста, мы своей славой обойдемся. Только объясни-ка моим людям, Артаган: ты что, через землю аула Борзи по воздуху потянешь трассу или как? Или нам придется налог брать с цабатоевцев за проезд?
Когда он начал дерзить Артагану, цабатоевцы живо одернули его:
— Тебе-то для чего дорога? Только для того, чтобы за приданым своей жены на равнину съездить? Говорят, шифоньер ее родители выловили, доплыл он туда. Но припрятали. Вот построим дорогу — съездишь за шифоньером. А пока отправляйся домой, конах! Когда понадобитесь — скажут. У нас все по строгому плану идет…
Так сказали цабатоевцы Хасану, однако сами не могли понять поступок Артагана и пожаловались председателю сельсовета: от добровольных помощников почему-то отказывается!
Абдурахман примчался разъяренный:
— Ты что же, Артаган, кричишь «давай людей», а сам целый аул оттолкнул? Ведь там тоже был сход, люди загорелись!
Но Артаган молча взял лопату и пошел к гравийному карьеру.
Вечером юрт-да жаловался председателю колхоза Усману:
— Прямо не верится, что это он, Артаган, заправлял целым колхозом! На стройке никакой организованности. Многие до сих пор не разбиты по группам, каждый делает что хочет. С утра до вечера на трассе шутки, смех, песни, целый цирк! Один Муни со своей Маржан чего стоят… А Артаган посмеивается, будто доволен таким базаром. Ведь серьезное дело затеяли, на виду у всего района, даже у республики… Уже и заметка хвалебная в газете о нашей затее…
— Успокойся. Ты мало знаешь Артагана, хоть вы и были бок о бок много лет. Его разгадать — умереть легче. Не разбивает всех по группам почему — я догадываюсь: группы никому не нужны без командиров, а таких он все еще ищет, приглядывается.
— Допустим. А оттолкнул аул Борзи зачем?
— Тоже какой-нибудь трюк готовит. У-у, это же такой хитрец, политик!
— Чего там «политик»! — не унимался юрт-да. — Строить так строить! Знаешь поговорку наших предков? «Дер те́хха де дез»…[40]
— Начал-то он эту свою дорогу именно так… Мы собирались год обсуждать да раскачиваться, а Артаган вмиг вышел к Гурсу с лопатой. Так что эту поговорку твою он хорошо знает. Но, видишь ли…
Усман помолчал, с улыбкой вспоминая что-то, и закончил:
— Чаще он мне твердил другую горскую поговорку, если я слишком круто и горячо брался за какое-нибудь дело: хороший танцор не становится в начале лезгинки на носочки[41].
Вот тот чудак собирается неправильно подсечь лопатой осыпь, чтобы набрать гравий. Неторопливый, развинченный шаг Артагана молниеносно, но поразительно мягко и естественно переходит в упругий бег. Артаган перехватывает у чудака лопату:
— Я наблюдал, как ловко она у тебя в руках ходит. Мне до этого в мои годы далеко, но дай-ка и я копну, а то целый день только хожу, руки соскучились…
У большинства помощников Артагана — явно выраженный «косметический» уклон. Каждому хочется, чтобы поскорее «стало красиво». Поэтому у таких самое любимое занятие — повозиться с верхним слоем дороги: с гравием. Они его и разравнивают, и притаптывают ногой, обирают каждый камешек, нарушающий ровную красивую линию над кюветом.
Артаган же почему-то не придает ни малейшего значения этой косметике. Он знает, что вся она исчезнет, ее время еще не пришло. После первого же дождя дорога просядет, пойдет ямками, после первой же машины даже укатанное полотно разлохматится по краям. Главное же для дороги, как и для дома, не косметика, а фундамент. Угадать, где какой грунт, максимально уплотнить его, разглядеть места повышенной влажности, знать, где уложить булыжник-фундамент в один слой, а где в два и в три. Следующий слой — фракции помельче, затем — еще мельче, а уж поверх гравия можно будет пустить и нарядную щебенку.
Щебенку Артаган пока что категорически отвергает.
— Ты решил покрыть полотно щебенкой? — тихо изумляется он старательности добровольца. — Воллахи, будет красиво! Эх, жаль, что придется пока отложить это… Понимаешь, здесь со склона обязательно будет просачиваться на полотно ливневая вода. Если преждевременно уплотним гравийный слой щебенкой, вода будет в нем застаиваться, полотно перестанет дышать.
— Ну-у?! Все я насчет дорог знаю, а вот что твоя дорога умеет дышать, не подумал. Хорошо, я согласен пока и без щебенки!
Здорово помог поднять авторитет Артагана приезд инженера из дорожного управления. Приятно было узнать, что прислали его по поручению Совета Министров, о чем цабатоевцы тотчас начали передавать из уст в уста.
— Чего вы обрадовались! Эти дорожники терпеть не могут, если кто-нибудь строит без ученого проекта! — сказал кто-то. — Для чего, думаете, созданы проектные институты?
— У нас есть свой институт — «Артаган-проект»!
— Все равно инженер найдет ошибки. Он только за этим и приехал!
— Я лишь в порядке технадзора, для профилактики технических ошибок, — бесстрастно сказал приезжий, бледный человек с тяжелым портфелем, и рассеянно посмотрел кругом: почему вдруг рассмеялись столпившиеся цабатоевцы?
Помог этот визит Артагану не тем, что инженер сказал что-либо неизвестное Артагану. Получился как бы экзамен на глазах у всех, и люди окончательно убедились, что в их руках дело не столь уж простое и знает Артаган это дело здорово.
— Давайте измерим кое-что, — сказал инженер.
— Пожалста, — вежливо согласился Артаган и начал вытягивать из неказистого, с сошедшим никелем барабанчика рулетки потрепанную желтую ленту, местами заботливо сшитую руками Залейхи.
— Не надо, — остановил гость.
Он чем-то щелкнул. Из зажатой в ладони инженера маленькой сверкающей, словно юбилейный рубль, круглой коробочки с шелковым шелестом вылетела, блеснула змейкой стальная желобчатая лента. Муни под общий хохот отшатнулся в страхе, присел на корточки и потрясение сказал:
— Иш-ша… Дял вейц ва![33]
Инженер измерял лентой полотно и кюветы, что-то высчитывал на листке своей записной книжки и задавал вопросы.
— Как справитесь с ливневыми водами на данном участке? — сухо спрашивал Артагана гость. — Сечение кювета здесь слишком ограниченное.
— Кроме кювета, сделаем тут напорные канавы. Спасут!
— Через эту лощину разве можно вести полотно при такой крутизне ее склонов?
— Смотри, пожалст, кривые радиусов и подъемов-спусков, — листает Артаган свой потрепанный блокнот. — Крутизна — в норме.
— Этот грунт вас задушит. Куда денете его из резервов?
— Немножко — в насыпь, немножко — в кавальеры. Вон уже начали. Пожалст!
— Анна́сыц я́а![34] — хлопнул кто-то в ладоши в полном восторге. — Артаган отвечает как настоящий отличник! Ставь ему пятерку, Бледный Человек!
— Что они кричат? — спросил инженер у Артагана.
Джаби, прозванный теперь цабатоевцами Досрочный Старик за то, что прежде времени оказался старшим в своем тейпе, весело ответил за Артагана на ломаном языке:
— Что ми кричат? Ми кричат: давай Артагана ставляйт дорожный министром! Голосуй, Ца-Батой! Будем демократия!
— Он и так дорожный министр… Ца-Батоя, — неожиданно улыбнулся Бледный Человек.
…Усевшись в «газик» и положив портфель на колени, гость долго и неподвижно смотрел через ветровое стекло, будто размышляя, ехать или нет. Шофер терпеливо ждал команды «трогай».
— Артаган! — вдруг подозвал инженер.
Люди деликатно остались в стороне.
— Артаган, — положил инженер руку на плечо старику, — устроит вас, если я всеми правдами и неправдами добуду вам хотя бы на неделю скре́пер?[35]
Люди услышали и дружно закричали: «Вурро!» Гость оглянулся на них и, заслоняя от них что-то плечом, полез в свой карман.
— Отвернемся! — гаркнул на всех Джаби. — У него сейчас полный секрет…
Цабатоевцы дружно отвернулись и увидели, что гость смущенно сует в руку Артагану блестящую круглую коробочку.
— Пожалст, не надо… — сказал Артаган с просительной улыбкой, протягивая подарок назад. — Каждый дорожник привыкает к своей рулетке!
— Я дорожу своею. Поэтому и дарю… — сказал гость и нетерпеливо крикнул шоферу: — Трогай же…
Машина пробуксовала на месте, но могучие руки цабатоевцев прямо-таки вознесли ее на крутой бугор.
После этого визита люди стали работать вдумчивее. Если кто из новичков лез препираться с Артаганом, его осаживали окружающие: «Ва, ко́нах![36] Твоему уму здесь делать нечего, пусть он продолжает отдыхать. Мы сами видели, как Артаган инженеру отвечал…»
Абдурахман на очередном сходе все-таки узаконил желание цабатоевцев строить дорогу. Проголосовали и за нормы отработки на трассе — кто сколько часов должен отдать стройке. «А то будем поглядывать друг на друга, плодить обиды, — сказали выступавшие. — Теперь, когда народ двинулся, можно ленивых и подстегивать!»
Поначалу Артаган, к удивлению председателя сельсовета, ничуть не беспокоился о количестве людей на трассе.
— Сколько сегодня придет — столько придет! — беспечно отмахивался он.
— Может быть, ты думаешь, что я буду здесь с тобой вдвоем ковыряться на прокладке дороги до конца жизни? — сердился юрт-да. — У меня своих дел много. А тебя мы утвердили вчера на сессии председателем дорожной комиссии сельсовета. Вот и работай!
— Да я и так работаю… Не ты же меня погнал сюда? — посмеивался Артаган.
— Самый ты непонятный и загадочный человек в Ца-Батое! — сокрушался юрт-да.
На самом же деле ничего загадочного не было. Артаган боялся большого скопления людей, пока не найдет себе толковых помощников для наблюдения за качеством работы. Он молча приглядывался, поручал возглавить ту ила иную работу то одному, то другому.
Неожиданно оказался находкой заведующий клубом Али-Завмяждиг. Он был занят в своем клубе вечерами, а днем почти все время находился на трассе. Этот тридцатилетний парень, как заметил. Артаган, разбирался в дорожном деле не больше других, но у него не было ни капли цабатоевской спеси в характере и слова «знаю» в лексиконе. Он пытливо и вдумчиво выспрашивал у Артагана, почему надо делать так, а не этак, свое же выкладывал людям чуть ли не застенчиво.
Этот невысокий парень с худым скуластым лицом, светлыми бровями и ресницами умел без лишнего слова и без шума расставить людей, кратко объяснить им суть работы. У него была куча всяких нагрузок в парторганизации сельсовета. Тем не менее Али безропотно повел всю «канцелярию» Артагана: записывал отработки, высчитывал объемы работ. А в час перекура Али доставал из кармана газету: «Если хотите послушать новости…»
Бот таких помощников и подыскивал Артаган. По мере того как они выявлялись, Артаган говорил Абдурахману: «Людей бы нам еще немножко. Совсем немножко».
Джаби — Досрочный Старик — привел сегодня чуть ли не всю свою ближнюю и дальнюю родню, даже женщин. Сам он шел сзади, шутливо потрясая толстой, как дубина, палкой, и подгонял улыбающихся родичей, словно стадо гусей:
— Веселее, веселее! Не на смерть вас гоню. А если и на смерть — так вы все равно и так мертвые, нигде от вас толку нет… Пусть люди видят, во главе какого пропащего тейпа бог поставил несчастного Джаби — Досрочного Старика.
— Джаби! — крикнул ему тракторист Тута. — Что же это ты у нас в передовом Ца-Батое тейповщину насаждаешь? Помнишь, лектор объяснял, что тейп — пережиток родового общества, девятнадцатый век!
— А что делать, если эти, которых я подгоняю, — пятнадцатый век? Дикари! Один Харон чего стоит…
— Да-а, тяжелый у тебя тейп! Не в тебя ли?
— Ну-ну, полегче! Ты лучше объясни людям, где члены твоей фамилии! — огрызался Джаби. — Мои-то — вот они. А твои — на лекции? Или, может быть, висячий мостик починяют, чтобы ты с него не падал в Гурс?
Не остался в стороне от стройки даже тот, кто ничего общего иметь с Гурсом не желал: рыжий Эми, которого Гурс лишил сына Ризвана.
Сегодня дочь Эми — Сацита приехала сюда, восседая на арбе. Сацита сказала Артагану:
— Отец велел передать, что он и моя на́на[37] не могут прийти к Гурсу, потому что мы после смерти Ризвана даже воду стараемся брать в другом месте. А мне он велел быть здесь целый день ездовой. Нагружайте арбу камешками! У нас хороший конь.
Артаган потрепал ее по щетинистой головке, дал ей большой сверкающий рубль на конфеты и отправил домой, пообещав:
— Коня и арбу вам пригонят в целости. Передай отцу ба́ркалла[38] от всех людей…
На трассе появился также директор интерната Ширвани во главе старшеклассниц.
— Далекого ты, оказывается, расчета человек… — встретил его Артаган.
— У тебя я учусь, у тебя я учусь… — ответил Ширвани нараспев. — Сейчас я привел тебе помощниц, а на будущий год ты приведешь нам кое-кого на Юрт-Корт, строить наш клуб. Хороший расчет?
Ширвани пришел не в ичигах, которые в Ца-Батое носят, кроме него, только богомольные старики, а в своих добрых альпинистских ботинках. Выставил ногу вперед — пусть-ка шутники позлятся, что сегодня-то уж нельзя подразнить его ичигами. Но тотчас по трассе стали перекликаться:
— Люди, слышали новость? Говорят, Ширвани порвал с религией, завязал насчет молитв: не носит больше ичиги! А толстый Сяльмирза по этому случаю сегодня открывает тя́зет[39].
Людей озадачило, когда Артаган выпроводил тех, кто прибыл на помощь из аула Борзи во главе с кузнецом — Кривым Хасаном.
— Ваша очередь еще придет, — сказал он Хасану.
— Как так? — удивился Хасан и начал сразу заводиться: — Мы не навязываемся. Аул Борзи жил и проживет без этой вашей дороги. Может быть, Ца-Батой хочет себе всю славу этой дороги взять? Пожалуйста, мы своей славой обойдемся. Только объясни-ка моим людям, Артаган: ты что, через землю аула Борзи по воздуху потянешь трассу или как? Или нам придется налог брать с цабатоевцев за проезд?
Когда он начал дерзить Артагану, цабатоевцы живо одернули его:
— Тебе-то для чего дорога? Только для того, чтобы за приданым своей жены на равнину съездить? Говорят, шифоньер ее родители выловили, доплыл он туда. Но припрятали. Вот построим дорогу — съездишь за шифоньером. А пока отправляйся домой, конах! Когда понадобитесь — скажут. У нас все по строгому плану идет…
Так сказали цабатоевцы Хасану, однако сами не могли понять поступок Артагана и пожаловались председателю сельсовета: от добровольных помощников почему-то отказывается!
Абдурахман примчался разъяренный:
— Ты что же, Артаган, кричишь «давай людей», а сам целый аул оттолкнул? Ведь там тоже был сход, люди загорелись!
Но Артаган молча взял лопату и пошел к гравийному карьеру.
Вечером юрт-да жаловался председателю колхоза Усману:
— Прямо не верится, что это он, Артаган, заправлял целым колхозом! На стройке никакой организованности. Многие до сих пор не разбиты по группам, каждый делает что хочет. С утра до вечера на трассе шутки, смех, песни, целый цирк! Один Муни со своей Маржан чего стоят… А Артаган посмеивается, будто доволен таким базаром. Ведь серьезное дело затеяли, на виду у всего района, даже у республики… Уже и заметка хвалебная в газете о нашей затее…
— Успокойся. Ты мало знаешь Артагана, хоть вы и были бок о бок много лет. Его разгадать — умереть легче. Не разбивает всех по группам почему — я догадываюсь: группы никому не нужны без командиров, а таких он все еще ищет, приглядывается.
— Допустим. А оттолкнул аул Борзи зачем?
— Тоже какой-нибудь трюк готовит. У-у, это же такой хитрец, политик!
— Чего там «политик»! — не унимался юрт-да. — Строить так строить! Знаешь поговорку наших предков? «Дер те́хха де дез»…[40]
— Начал-то он эту свою дорогу именно так… Мы собирались год обсуждать да раскачиваться, а Артаган вмиг вышел к Гурсу с лопатой. Так что эту поговорку твою он хорошо знает. Но, видишь ли…
Усман помолчал, с улыбкой вспоминая что-то, и закончил:
— Чаще он мне твердил другую горскую поговорку, если я слишком круто и горячо брался за какое-нибудь дело: хороший танцор не становится в начале лезгинки на носочки[41].
Глава XI
Сяльмирза молился впервые в своем новом доме, в который только что перебрался, оставив старый сыну. Когда он делал поклоны, его зад казался особенно широким из-за сборок бешмета. Вошла тощая жена Сяльмирзы и стала у порога. Хозяин еще раз замер в молитве, шевеля толстыми губами. Потом заерзал, подпихивая под себя подушку. Огладил бороду, сбившуюся во время молитвы, и спросил: — Что ты хочешь сказать? Говори. Жена робко спросила мужа: — Тебе решать, но и я сказать должна. Мы что, совсем в стороне останемся от этой артагановской дороги? По воду пойдешь — и там разговоры о стройке, в магазине — тоже. — Я же сказал: караульте мне Артагана. Как увидите, что идет домой ночевать, сразу сказать мне! В любую минуту, кроме времени молитвы… Что еще? Говори. — Так он может и год не прийти! Живет себе в шалаше. Ты прикажи, как мне с людьми держаться, если спросят, почему мы в стороне. И моему делу конец, пропади она пропадом, эта дорога. — Опять о своем! Мне надо поговорить с Артаганом наедине. Понимаешь? Наедине. А с ним всегда люди. Не потащусь же я к нему в шалаш. Что еще? Говори. — А чего бы тебе не позвать его сюда? Придет, невелика теперь шишка. Не председатель. — Отстань от меня с этими разговорами! Ты свое об этой дороге сказала. Знай свое место. Что еще? Говори. — Я слышала еще вот что. Этот Артаган… — Убирайся вон, чтоб мои глаза тебя не видели! Он крикнул вдогонку жене, чтобы не смели прокараулить Артагана. Вздохнул, проворчал, что не дают отдохнуть, опустил ноги с тахты и который уже раз за день пошел осматривать дом. Постоял в ванной. В ауле ни водопровода, ни газа. Ничего, когда-нибудь все будет. Советская власть рано или поздно сделает. А туалет, пожалуй, не следовало торопиться устраивать. Этот унитаз, конечно, красивая штука в доме, но как ею без труб будешь пользоваться? Сяльмирза посидел на новенькой, сверкающей лаком крышке унитаза, перебирая четки и размышляя над тем, что Артаган, по существу, испортил ему все торжество: ведь событием самой большой важности могло стать заселение нового дома Сяльмирзы. Не то чтобы он собирался делать пышное новоселье и угощать Ца-Батой. А просто все взоры были бы обращены на этот дом — самое заметное из всего рукотворного в ауле за последние времена. Жаль, уже поздно и темно, а то можно было бы выйти полюбоваться еще разочек фасонным кирпичом дома, карнизами, коньком в виде цветка. А комнаты… Цабатоевцы ахнули бы от вида этих шести комнат. Пожалуй, только унитаз им не следует показывать: сразу какой-нибудь неуч начнет острить. Да, а теперь главная сенсация в Ца-Батое — стройка дороги. У всех на языке Артаган, а его, Сяльмирзы, будто и на свете нет. «Ничего, эта стройка мне тоже славу среди людей принесет! — думал он. — Придется тебе, Артаган, поделиться со мной славой. Для этого не жаль мне денег!» Пожалуй, самое удивительное в доме были двери: из цельного толстого стекла. Сын работает в Грозном в хозмаге, сумел достать. Как бы неуклюжие домочадцы не разбили их своими железными лбами… Сяльмирза видел в городе в одном из магазинов, где такие же двери, предупреждающие надписи на стекле. Он крикнул, чтобы ему принесли баночку с краской и кисточку. Последний штрих он наведет в своем дворце сам, своей рукой. Сяльмирза поболтал кисточкой в банке и на всех трех внутренних дверях вывел кривыми буквами: «Остор. стикло». Стало красиво. Сразу какой-то городской вид у комнат. Только уж очень прозрачные эти двери. Будешь плавать за ними, как рыбка в прозрачном ручье. А если вдруг голый? Интересно, как городские в своих домах обходятся… У сына-то в городе пока обыкновенные двери в квартире. Надо ему сказать, чтобы подумал, прежде чем заменять. Только Сяльмирза закончил свои художества, как вошла жена. — Что хочешь сказать? Говори. — Я хотела сказать, что этот Артаган… — Вон отсюда! Сколько можно… — Ты же велел доложить… — Идет домой? А что же ты топчешься, молчишь? Живо одеться! Папаху простую, чтобы Артаган не косился, а то начнет показывать эту свою кривую усмешку……Когда Сяльмирза вошел в дом Артагана, тот умывался, подвернув рукава нижней белой рубашки на верхнюю темную. Залейха сливала ему воду из ковшика в ладони, и ковшик казался рядом с темными руками Артагана крошечным. — Лей, лей еще, — терпеливо просил Артаган. Лоб выше линии шапки был у него белый-белый. Лысина почти не просвечивает сквозь жесткую щетину. «Не стареет, — отметил Сяльмирза с завистью, — наверное, потому, что сухой, как доска. Председателем был — и то остался худым». — Разговор у меня к тебе, Артаган, — важно сказал Сяльмирза. — Давно собираюсь поговорить наедине. Залейха вышла. Артаган застегнул рубашку, потрепал папаху и аккуратно надел ее. — Мы с тобой уже старики, Артаган. Наш с тобой сход скоро будет не возле сельсовета, а там, — Сяльмирза ткнул глянцевой гнутой ручкой своей палки вверх. — Пора нам все, что делаем, делать именем бога… «Надолго он завел эту свою зурну…» — подумал Артаган. Сам очень терпеливый по натуре, он почему-то редко когда мог слушать этого велеречивого Сяльмирзу. Да и не церемонился с ним особенно. — Сяльмирза, ты, наверное, слышал такое: веревка хороша длинная, а речь короткая. Сяльмирза пожевал толстыми губами, покачал головой, словно давая понять, что на слове «бог» никак не следовало перебивать. — Хорошо, — сказал гость, долго разглаживал скатерть белой рукой с видом человека, у которого в голове роится несметное число мыслей, и вдруг брякнул: — Давай делать эту твою дорогу именем бога! А? С этим я к тебе и пришел. Артаган рассмеялся, еще не дослушав этих слов. Залейха заглянула, осторожно открыв дверь; и тотчас прикрыла ее, подумав: «Не видела я, чтобы он с Сяльмирзой веселился, не бывало такого…» Артаган встал, по-молодому подбоченился, потом склонился к гостю и сказал тихим голосом, словно выдвигал свое весьма важное условие: — Ты мне ответь, как мой гость, на один вопрос: чай мы с тобой будем пить? Или не будем? Не о чем ему было разговаривать с Сяльмирзой. По повадке он догадался, с чем тот пришел. «Именем бога…» Испокон веков горец делал что-нибудь для людей и трепетно добавлял: «именем бога»… Идет человек по горам, срубит жердь, перекинет ее через расселину и больше всего радуется, что мостик пригодится идущему следом. Напьется из родничка, возле которого не бывала нога человека, а потом, как бы ни спешил, приведет это место в порядок, устроит желобок, поставит возле него берестяной ковшик: «Может, не доведется мне больше никогда пить из этого родника, — напьются другие. Уже добро!..» Нынешние приверженцы религии полагают: теперь нужны дела помасштабнее, чтобы восславить имя бога. В соседнем ущелье, где аулы заперты горами, как и Ца-Батой, припомнил Артаган, люди долго мучились из-за того, что не было мостика. Ущелье очень глубокое, оно, как ножом, рассекло дорогу. Сойди вниз, потом карабкайся наверх, да еще сначала надо обсушиться после речки. Пока в сельсовете решали проблему, изыскивали средства, — успели вклиниться члены религиозной мусульманской секты. И подвесили мост. На головокружительной высоте. Длина моста чуть ли не сто метров. Ахают не только туристы, но и сами горцы. И не без почтения поглядывают на сектантов: «Где же вы нашли деньги, такие могучие тросы, технику, чтобы их натянуть?!» Те отвечают скромно: «С именем бога когда делаешь — все в руки человеку само идет… Наша-то заслуга небольшая».
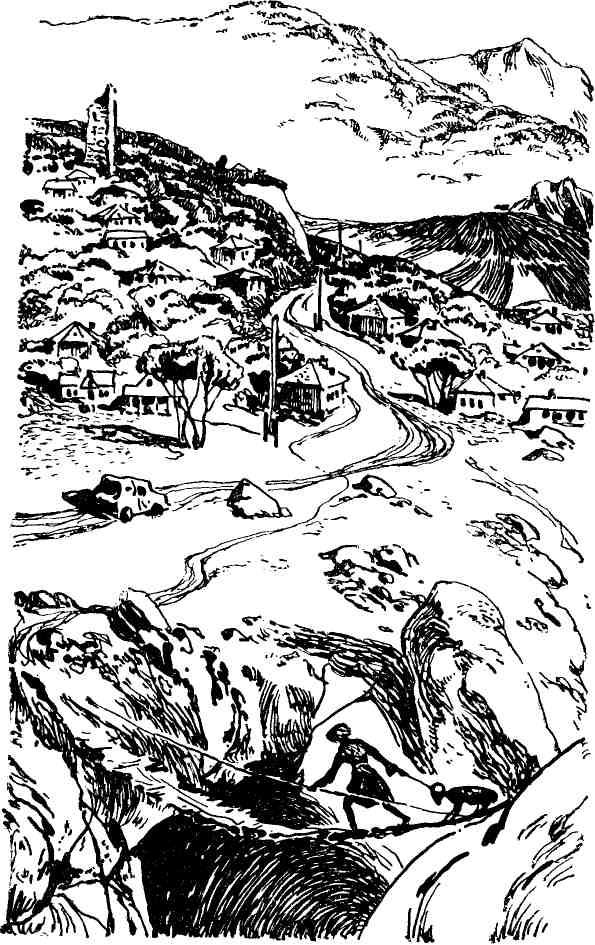 — Я пришел к тебе не чай пить, — обиженно отозвался Сяльмирза. — Я тебе деньги принес. Пятьсот рублей. Найдутся и еще такие, как я, тоже богомольные старики. Вот и трать на свою дорогу. Материалы для мостов и прочее тебе никакое государство бесплатно не даст, так ведь? Каждый может в стройке участвовать: кто лопатой, а кто деньгами!
Сяльмирза положил красный платок с завернутыми в него деньгами на тахту и встал.
— А как же мы с дорогой, в какую ее сводку поместим, когда построим? — усмехнулся Артаган и вскинул глаза на гостя. — Одна сводка будет сельсоветская, а другая — от имени секты? Юрт-да отрапортует району, а ты — богу? Иди, иди, Сяльмирза, я не хочу тратить твое время, если не хочешь моим гостем быть…
«Бог затмил его разум: от таких денег отказывается!» — изумился Сяльмирза.
— Не подумав, не решай… — начал было он опять свое, но осекся под тяжелым взглядом Артагана.
Обескураженный Сяльмирза попятился, неуклюже толкнул задом дверь и вышел.
За плетнем его догнал Артаган, пробежавший через двор своим стремительным, мягким шагом.
— Сяльмирза, ты что же так? Платок со своей полутысячей ты у меня забыл, что ли? Мы ведь хорошо поняли друг друга. Ну-ка, забери! Только побыстрее. Не серди меня!
Сяльмирза шагнул, сопя в темноте, назад к плетню, но бултыхнулся в ручеек, злобно выругался, заворчал, что теперь придется делать особенно тщательное омовение для молитвы. Брызги долетели до Харона, который как раз проходил в потемках рядом и слышал такие подозрительные слова Артагана о каких-тоденьгах…
Харон догнал Сяльмирзу. Тот поспешно спрятал красный сверток за пазуху бешмета и недовольно сказал:
— Чего это ты — словно крадешься за мной? Вином от тебя несет… Тьфу!
— Чем тебя расстроил Артаган, а, старик? — развязно спросил Харон.
— Мне-то Артаган что. Есть он на свете или нет его, я не умру. А вот ты, кажется, видеть его не можешь? Да и кто стерпит, если при всех вором обзовут…
— Не твое дело! Ты лучше скажи, что это у тебя за счеты с Артаганом завелись?
— Тс-с… Чего ты орешь на весь Ца-Батой?
Если бы Артаган принял деньги, то Сяльмирза сам бы трезвонил на весь Ца-Батой о своем вкладе в строительство, но теперь, когда Артаган так его унизил… Этот Харон разнесет слух по всем пивнушкам района!
— Не проболтайся никому, — просительно вцепился он в плечо Харона. — Хочешь хороших, самых почетных сватов, чтобы просить руки Зары? Родители у нее верующие. Я найду среди людей нашей секты таких сватов, которым не откажут. Лишь бы этот Артаган не помешал. Родители Зары его тоже очень почитают.
— Что, и тут Артаган?.. — процедил сквозь зубы Харон.
«Э, да этот дурачок может мне пригодиться… — смекнул Сяльмирза. — Только из злого щенка и вырастает надежный пес».
— Мало ты еще знаешь Артагана, Харон… — перешел Сяльмирза на шепот. — Он же деньги с людей собирает! Будто бы на строительство дороги. А кладет себе в карман. Я предложил ему сегодня деньги от самого чистого сердца, ради аллаха, чтобы эта дорога строилась божьим именем. Но ты же видел, как швырнул он мне мои полтысячи? Считает, что мало. Уж так он торговался… Видишь, даже в пот меня вогнал.
Харон присвистнул и начал соображать что-то свое.
— Так и швырнул назад пятьсот? — переспросил он недоверчиво. — Тут не знаешь иной раз, где червонец на выпивку достать…
Сяльмирза плюнул на большой палец своей руки, полез в карман, чем-то там пошуршал и протянул Харону бумажки:
— Пять червонцев. Я и в темноте не ошибусь. Не на водку тебе даю, понял?
— У меня своя смета расходов, — уклончиво сказал Харон, зажимая деньги в кулак. — Слушай, Сяльмирза, а откуда у вас там такие денежки водятся, а?
— Становись поближе к нам, поймешь многое, — рассмеялся Сяльмирза. — Завтра режу барашка, придут почетные старики и из других аулов, будет зикр[42]. Приходи, но трезвым. Настанет время — сам будешь со стариками к кругу сидеть… Лишь бы проявил святость и послушание, понял? Наша секта ценит верных людей, в обиду их никогда не даст. Но запомни: предательство у нас не прощают. Поэтому все, что я сказал, — между нами…
— Да какой же из меня мюрид, — почесал Харон в затылке, — если я насчет бога как-то и не задумывался…
— А ты задумайся! И имя аллаха заполонит твое сердце, Харон…
В глазах Сяльмирзы сверкнул такой фанатический огонь, что Харону стало зябко, а нависшая над Ца-Батоем тьма словно сгустилась и сделалась зловещей, многозначительной.
— Я пришел к тебе не чай пить, — обиженно отозвался Сяльмирза. — Я тебе деньги принес. Пятьсот рублей. Найдутся и еще такие, как я, тоже богомольные старики. Вот и трать на свою дорогу. Материалы для мостов и прочее тебе никакое государство бесплатно не даст, так ведь? Каждый может в стройке участвовать: кто лопатой, а кто деньгами!
Сяльмирза положил красный платок с завернутыми в него деньгами на тахту и встал.
— А как же мы с дорогой, в какую ее сводку поместим, когда построим? — усмехнулся Артаган и вскинул глаза на гостя. — Одна сводка будет сельсоветская, а другая — от имени секты? Юрт-да отрапортует району, а ты — богу? Иди, иди, Сяльмирза, я не хочу тратить твое время, если не хочешь моим гостем быть…
«Бог затмил его разум: от таких денег отказывается!» — изумился Сяльмирза.
— Не подумав, не решай… — начал было он опять свое, но осекся под тяжелым взглядом Артагана.
Обескураженный Сяльмирза попятился, неуклюже толкнул задом дверь и вышел.
За плетнем его догнал Артаган, пробежавший через двор своим стремительным, мягким шагом.
— Сяльмирза, ты что же так? Платок со своей полутысячей ты у меня забыл, что ли? Мы ведь хорошо поняли друг друга. Ну-ка, забери! Только побыстрее. Не серди меня!
Сяльмирза шагнул, сопя в темноте, назад к плетню, но бултыхнулся в ручеек, злобно выругался, заворчал, что теперь придется делать особенно тщательное омовение для молитвы. Брызги долетели до Харона, который как раз проходил в потемках рядом и слышал такие подозрительные слова Артагана о каких-тоденьгах…
Харон догнал Сяльмирзу. Тот поспешно спрятал красный сверток за пазуху бешмета и недовольно сказал:
— Чего это ты — словно крадешься за мной? Вином от тебя несет… Тьфу!
— Чем тебя расстроил Артаган, а, старик? — развязно спросил Харон.
— Мне-то Артаган что. Есть он на свете или нет его, я не умру. А вот ты, кажется, видеть его не можешь? Да и кто стерпит, если при всех вором обзовут…
— Не твое дело! Ты лучше скажи, что это у тебя за счеты с Артаганом завелись?
— Тс-с… Чего ты орешь на весь Ца-Батой?
Если бы Артаган принял деньги, то Сяльмирза сам бы трезвонил на весь Ца-Батой о своем вкладе в строительство, но теперь, когда Артаган так его унизил… Этот Харон разнесет слух по всем пивнушкам района!
— Не проболтайся никому, — просительно вцепился он в плечо Харона. — Хочешь хороших, самых почетных сватов, чтобы просить руки Зары? Родители у нее верующие. Я найду среди людей нашей секты таких сватов, которым не откажут. Лишь бы этот Артаган не помешал. Родители Зары его тоже очень почитают.
— Что, и тут Артаган?.. — процедил сквозь зубы Харон.
«Э, да этот дурачок может мне пригодиться… — смекнул Сяльмирза. — Только из злого щенка и вырастает надежный пес».
— Мало ты еще знаешь Артагана, Харон… — перешел Сяльмирза на шепот. — Он же деньги с людей собирает! Будто бы на строительство дороги. А кладет себе в карман. Я предложил ему сегодня деньги от самого чистого сердца, ради аллаха, чтобы эта дорога строилась божьим именем. Но ты же видел, как швырнул он мне мои полтысячи? Считает, что мало. Уж так он торговался… Видишь, даже в пот меня вогнал.
Харон присвистнул и начал соображать что-то свое.
— Так и швырнул назад пятьсот? — переспросил он недоверчиво. — Тут не знаешь иной раз, где червонец на выпивку достать…
Сяльмирза плюнул на большой палец своей руки, полез в карман, чем-то там пошуршал и протянул Харону бумажки:
— Пять червонцев. Я и в темноте не ошибусь. Не на водку тебе даю, понял?
— У меня своя смета расходов, — уклончиво сказал Харон, зажимая деньги в кулак. — Слушай, Сяльмирза, а откуда у вас там такие денежки водятся, а?
— Становись поближе к нам, поймешь многое, — рассмеялся Сяльмирза. — Завтра режу барашка, придут почетные старики и из других аулов, будет зикр[42]. Приходи, но трезвым. Настанет время — сам будешь со стариками к кругу сидеть… Лишь бы проявил святость и послушание, понял? Наша секта ценит верных людей, в обиду их никогда не даст. Но запомни: предательство у нас не прощают. Поэтому все, что я сказал, — между нами…
— Да какой же из меня мюрид, — почесал Харон в затылке, — если я насчет бога как-то и не задумывался…
— А ты задумайся! И имя аллаха заполонит твое сердце, Харон…
В глазах Сяльмирзы сверкнул такой фанатический огонь, что Харону стало зябко, а нависшая над Ца-Батоем тьма словно сгустилась и сделалась зловещей, многозначительной.
Визит Сяльмирзы вывел Артагана из равновесия. Залейха догадалась об этом по тому, что Артаган, едва поев, лег на тахту и отвернулся к стене. Он и вообще-то молчалив, никому душу беседой не развеселит, а сейчас лучше вообще его не трогать. Залейха с жалостью посмотрела на мужа, который лежал на жестком домотканом паласе тахты, скорчившись, как ребенок. Она укрыла его плащом. Артаган удивился. Обычно жена укрывала его своим большим пуховым платком, если муж вот так приляжет на минутку. Что-то не лежится под этим непривычным плащом. Артаган вскоре встал. И увидел на столе деньги. — Пятьдесят семь рублей, — сказала Залейха. — Ты говорил, что нужно дать машинисту. Артаган выпросил в соседнем районе на несколько дней копер для забивки свай. Без этих свай не удавалось пройти Мокрый лог, уложить там полотно дороги. Да вот беда — копер неожиданно вышел из строя. Машинист раздобыл в городе запчасти, за которые и требовалось отдать пятьдесят семь рублей. Деньги нужны завтра. И вот Залейха положила их перед Артаганом. Откуда они у нее? Артаган не привык спрашивать, однако сейчас ему не давала покоя одна догадка. — Где твой теплый платок? — спросил он, стесняясь посмотреть на жену. Пожалуй, это был единственный его подарок Залейхе за сорок лет совместной жизни — платок, который он сам выбирал и покупал за Андийским хребтом. Из настоящей, прославленной на всем Кавказе андийской шерсти. Приобрел его Артаган, когда ездил через перевал в Дагестан за семенами для колхоза. Залейха так гордилась перед цабатоевскими женщинами этим подарком! — Я платок в минуту продала, — сказала Залейха, уловив в вопросе мужа догадку. — Только зашла на базар, как платок схватила одна незнакомая женщина с верхних хуторов. Никто и не заметил.
Всё замечают в Ца-Батое! Обязательно необходимо знать цабатоевцам, кто что купил или продал, кто что носит или перестал носить. Усман случайно узнал о продаже этого платка от своей матери и поначалу отмахнулся от такой новости. — Подумать только, за пятьдесят семь рублей продала, — сокрушалась мать. — А цена такому андийскому платку все сто двадцать. Но ведь что этот Артаган, что его Залейха — такие непутевые люди: возьмут лишь столько, сколько им в эту минуту надо, ни копейки больше. Уставший после тяжелого дня Усман лежал и читал газету, как вдруг откинул ее и спросил потрясенно: — За сколько? За пятьдесят семь?! — Я же тебе говорю, она такой человек, эта Залейха… Усман забегал по комнате. Именно эту сумму просил на днях у правления колхоза Артаган! Усман пообещал: невелики деньги. А потом закрутился и забыл распорядиться. Артаган же не повторил просьбы, он такой… Расстроенный Усман опять улегся с газетой в руках. И тут к нему привязался отец, починявший в углу свой любимый мастерок. — Тебе не стыдно, что Артаган бедствует? — спросил Алаш у сына. — Ты побывал ли у него дома хоть раз с тех пор, как он ушел на пенсию? Ты спросил хотя бы из вежливости, не надо ли ему чем помочь? Это ты обязан просто как человек. А как председатель ты обязан помогать ему со строительством этой дороги. А вместо этого я только и слышу… — Завтра посылаю ему два трактора, автомашину… — поспешно перебил Усман. — Что ты от меня еще хочешь? Когда отец начинает так разговаривать, лучше ему не перечить. Алаш подошел к сыну и вырвал у него газету, отшвырнул ее прочь, рявкнул: — Бездельник, разлегся! Иди сейчас же под навес копать погреб! — Да ты что, с ума сошел? — вступилась за сына мать. — Пусть отдохнет. И что ты разговариваешь с ним, как с младшими. Он уже, слава богу, своих детей больших имеет! Нести на плечах такую работу, отвечать за весь Ца-Батой да еще выслушивать дома брань от отца… — Замолчи! — оборвал ее Алаш. — Для кого он председатель, а для меня сын. За нашим плетнем я все от него готов выслушать, но здесь, под моей крышей… Усман поспешно убрался из комнаты и взялся за лопату. Копая погреб, он прислушивался к крикам отца: — Артаган его в люди вывел, Артаган делал для него больше, чем я — родной отец. А он чем отвечает? Вот каким мы его вырастили! И в этом ты виновата больше, чем я, поэтому не лезь. Нашлась защитница! «Разошелся старик… — думал Усман, отирая ладонью пот со лба. — Покою мне нет от тебя, Алаш, и от твоего Артагана. Черт бы побрал эту дорогу! Никуда, видно, не денешься от забот с нею». Ребром ладони Усман смахнул пот со лба и горестно прошептал: — Как же я мог допустить, что Залейхе пришлось продать свой пуховый платок?..
Приехал Строгий Хаким, напомнил председателю сельсовета: — Усильте разъяснительную работу, религиозный праздник на носу — паломничество к «святому» источнику. Отсталые элементы потащатся на поклонение к могиле матери Солта́-Хаджи́. Значит, надо двинуть туда актив: депутатов, учителей, культработников. — Чтобы паломников казалось побольше? — иронически спросил Абдурахман. Строгий Хаким надул щеки, пыхнул воздухом. — Слушай, юрт-да! Должен же ты понимать, что в такой день самая горячая точка разъяснительной работы именно там, возле этой «святой» могилы! А у тебя небось один активист будет отсиживаться где-нибудь в лесном шалаше, другой… Не возражай! Я же не назвал Артагана? Просто так говорю. А кем стал ваш завклубом Али? Прорабом-дорожником? Чтоб я больше не видел замка на клубе. — Хорошо, пойдет к могиле и Али. — Али? Пожалуй, не надо. У него же кличка «Завмяждиг». Запускать человека с такой кличкой к паломникам — это ослабить действенность нашей агитации. И что за нелепая страсть у цабатоевцев — давать всем клички? …От сельсовета Абдурахман решил послать Артагана. — Понимаешь, Артаган, сам я там не смогу. Боюсь, не выдержу, что-нибудь слишком резкое скажу нашим цабатоевцам, если увижу их среди паломников. А у тебя на дороге все равно получится выходной. Выделил я активистов и от колхоза, от лесоучастка. Из школы пойдут Исхак и этот приезжий парень, физрук Руслан. Кажется мне, что он понятливый парень. Избачей тоже двигаю. — Твои эти активисты хоть зикр умеют танцевать? Юрт-да махнул рукой: — Да говорил и я об этом Строгому Хакиму…
Место паломничества было в соседнем ущелье, за тем знаменитым мостиком, что построен «именем бога». …Перейдя через ущелье, Артаган сошел с тропы и двинулся прямо в крутую гору, чтобы сократить путь. Паломники шли группами и в одиночку, шли старые и молодые, мужчины и женщины, с детьми и без детей. Сквозь густой лес, ревя мотором, прополз вверх грузовик, наполненный стариками. Шмелиное жужжание моторов доносилось до Артагана и сверху и снизу. Проехала крытая голубая машина с нарисованными на ней фигурами веселых человечков и зверят и надписью: «Театр кукол». Буквы разноцветные, бегут по борту вприпрыжку. Из окошек этой машины тоже торчали головы в мюридских тюбетейках. Шли паломники молча, сосредоточенно. У стариков были благостные, задумчивые лица, люди помоложе оглядывались по сторонам с любопытством. Артаган заметил впереди мать рыжего Эми, а за ней семенит, как барашек, Сацита в цветном платьице и с косынкой на голове. Бабушка маленькой Сациты то и дело тревожно оглядывалась, словно боясь, не настигнет ли их Эми. Артаган знал, что сам Эми никогда не ходил сюда, он не признает такие штуки и не стесняется говорить это людям в глаза. Один из паломников, пожилой чабан по имени Зайнди́, которого Артаган знал по районным слетам передовиков животноводства, спросил шутливо, обгоняя Артагана: — Что, Артаган, ты тоже к нам записался? — Да вот за тобой иду. Теперь же везде призывают следовать за передовиками!.. — Воллахи, Артаган… — Зайнди замедлил шаг и проговорил сконфуженно: — Ну куда от обычая денешься? Люди идут — и я иду. И многие так. А сказать свое вслух не решаемся, чтобы не обидеть стариков. — Мне же ведь говоришь? — Тебе… ты совсем другой старик! Да и немало у нас теперь таких, как ты. Только жаль, что не часто мы ваш веский голос слышим. Вслед за вами и мы бы смелее говорили — те, что помоложе… — Э-э… — усмехнулся Артаган и сказал вслед чабану: — Смелые мы люди! Только поглядываем один на другого, только подталкиваем друг друга. — И то верно… — сокрушенно отозвался Зайнди. Солнце пекло нещадно. От каменистой тропы шел жар, как в городе от раскаленного асфальта, но только здесь досаждала еще и пыль, поднятая колесами машин и ногами людей. В хуторках, притаившихся вдоль лесной дороги, выставлены у ворот ведра с водой. Люди пьют одной и той же кружкой, а среди них есть и больные. «Ничего, от всех болячек исцелимся святой водой из родника самого Солта-Хаджи!» — утешают они себя, с надеждой шагая в гору. «Все это тоже именем бога…» — с горечью думал Артаган, медленным горским шагом одолевая гору: руки за спиной, голова наклонена. Конечно, сегодня и Сяльмирза будет на поклонении. Артаган никогда не верил, что этот Сяльмирза человек и в самом деле искренне набожный: он всегда был глуп и ленив, но непомерно тщеславен. Из-за этого и примазался к сектантам. Там его способностей хватает, чтобы играть какую-то роль. Выше дороги, через опушку леса, спешил Харон. Этот-то зачем явился? Если люди не врут, Харона видели в доме Сяльмирзы во время сектантского зикра. Что-то связывает этих двоих. Тщеславие? Хоть чем-нибудь выделиться среди других… Ума, терпения, трудолюбия не хватает, так стараются хоть чем-нибудь другим взять и «славу» и рубль… Умные сектантские вожаки — не чета Сяльмирзе — ловко используют это. Молодых жалко… Даже таких непутевых, как Харон. «А хорошо и в этом краю гор! — отвлекся Артаган от своих горестных мыслей, — Красота иная, чем в Ца-Батое. Вот здесь, с вершины, кажется, что не лес простирается внизу в сизой дымке полудня, а бескрайнее волнующееся море. В Ца-Батое такое не увидишь… Там море леса разодрано Гурсом». …Как желтая пена морского прибоя, вокруг домика с могилой матери «святого» кружились паломники. Этот домик с потускневшей голубой крышей стоял в центре поляны, окруженный легкой оградой. Люди гуськом шли по тропке к домику, исчезали там на минуту и так же гуськом двигались назад, но уже спиной к калитке, исступленно пританцовывая на ходу. Они судорожно отрывали лоскутки от своей одежды и привязывали их к кольям ограды: по поверью, тогда сбудется любое твое желание. Вся ограда уже была в тряпичном разноцветье. Мать рыжего Эми шептала трясущимися губами своей внучке Саците: — Рви, рви свое платье… Повяжи лоскуток и ты, тогда аллах пошлет в наш дом милость, даст тебе нового братика вместо Ризвана. Артаган, медленно покачиваясь на ногах, исподлобья смотрел, какие испуганные глаза у Сациты, как она лихорадочно старается оторвать лоскут от платья тонкими, покрытыми ссадинами из-за мальчишеских игр руками. — Сацита, Сацита! — подмигнул ей Артаган. — Ни у одной барышни в Ца-Батое не видел я такого нарядного платья, как у тебя… Она ответила ему с улыбкой: — Новенькое — смотри!.. — но под требовательным взглядом бабушки все же оторвала от платья лоскут. …Сделавшие свое дело спешили к срубу с родником, чтобы испить «исцеляющей» воды. В стороне, на пятачке высушенной солнцем острой горки, бегали вкруговую, приплясывая, бородатые потные мужчины. По поляне разносилось их глухое хоровое пение, выделялось гулкое хриплое: «Ульиллах… Ульиллах… Ульиллах…»[43] Руслан впервые видел все это, никогда не думал, что такое еще живет. Он смотрел на пляшущих бородатых людей с возбужденными потными лицами и отрешенными от мира, от всей сутолоки поляны глазами. Он заметил испуганную Сациту и еще нескольких ребятишек из Ца-Батоя. Заметил и Сяльмирзу, который суетился возле каких-то неподвижных старцев с каменными, замкнутыми лицами. Заметил, что с Сяльмирзой о чем-то пошептался Харон. Больше всего взор Руслана тянулся к домику с голубой крышей. Что там? Что привело сюда людей? — Могила как могила, что там еще может быть? — вполголоса ответил ему Исхак Исхакович и неохотно пошел за ним к домику. — Только помалкивай, а то, не дай бог, заденем какого-нибудь фанатика… Сквозь толпу на крыльце удалось пробиться с трудом. Руслан смог лишь заглянуть через головы в помещение, ничего толком не разглядел: там была полутьма, теснились люди. Закружилась голова от духоты и смрада, от запаха пота. Поскорее отсюда на воздух! — Эти-то зачем сюда пришли? — злобно и истерично вскричала какая-то изможденная старушка в черном длинном платье, кивнув мокрым острым подбородком на Исхака Исхаковича и Руслана. Руслан заметил, каким тяжелым взглядом смотрит Артаган исподлобья через ограду на побледневшее лицо Исхака Исхаковича. Артаган, склонив голову, медленным шагом вошел в калиточку. Он боком легко перепрыгнул через канаву и поднялся на насыпь, поросшую травой. Его видели теперь все, кто был внутри ограды и за ней, на поляне, кроме тех, кто кружился в зикре, вздымая ногами легкую пыль на верхушке горки. Артаган постоял, прикрыв глаза большими веками и медленно покачиваясь на ногах. Говор кругом стих. Только доносилось с горки глухое «ульиллах». Артаган вскинул голову, оглядел поляну своими узкими глазами и слегка поднял руку. — Это что еще за оратор вылез? — крикнул кто-то раздраженно. — Говорят, это Артаган из Ца-Батоя, — ответили ему в толпе вполголоса. — Совершенно не понимаю, о чем он здесь сможет говорить! — прошептал рядом с Русланом Исхак Исхакович, пожимая плечами. — Ва, нах! — негромко обратился к людям Артаган. — Не тем мы с вами сегодня заняты, чем следовало бы… Зарокотали и затем стихли голоса толпы, тем громче послышалось чье-то проклятье в адрес Артагана. Руслан посмотрел в сторону поляны: многие подошли поближе к ограде. Группа важных стариков не тронулась с места, но и там было оживление. Живее заметался Сяльмирза, тряся животом и суетливо поправляя новую папаху. Вдруг он отошел в сторону, замер и кивнул кому-то головой, словно говоря: «Пора». Руслан увидел, как к ограде двинулся по знаку Сяльмирзы, расталкивая людей, Харон. У него было такое лицо, что Руслан успел подумать: «Все же метко дают клички в Ца-Батое: шальное у него лицо. И зачем он сюда пробирается?» — Я такой же простой крестьянин, как и вы, — продолжал Артаган свою речь голосом человека, размышляющего вслух. — Здесь рожден, здесь умру. Пожил я на свете и повидал не меньше других, — и он бросил взгляд в сторону важных старцев, среди которых крутился Сяльмирза. — Понравится вам то, что я скажу, или нет, но я не в силах вернуться к своему плетню, не сказав вам того, что на сердце. Многие из вас пришли сюда из дальних мест, может быть, искренне веря в святость этой могилы… — Святая, святая, святая! — трижды подряд выкрикнула тонким голосом старушка в длинном платье; она заметалась в толпе, и Руслан заметил, как ходуном ходит ее мокрый острый подбородок. — Было время, и недалекое, когда мы могли верить в такое, потому что мы мало знали, — продолжал Артаган, не обращая внимания на этот выкрик. — Но еще наши предки говаривали: недостойно, если человек хочет знать лишь то, что однажды услышал. Теперь и время другое, и мы другие! В этом домике лежит прах женщины. Она была мать и, как всякая мать, достойна почтения. Зря мы тревожим ее прах, зря губим свое время — ведь каждый из нас оставил дома свои дела и заботы, а куда от них денешься? На насыпь прыжком вскочил неподалеку от Артагана Харон. На голове у него вместо кепки вдруг откуда-то появилась мюридская тюбетейка. — Ва, нах! — закричал он истошно. — Это божий враг, не слушайте его, я вам сейчас открою его истинное лицо… Из толпы шагнул вперед чабан Зайнди. — Ты?! — ткнул он пальцем в опешившего Харона. — Ты собираешься говорить людям об Артагане из Ца-Батоя? Да я первый не позволю никому сказать об этом человеке плохое! О нем в нашем крае добрая слава. А ты, Харон, не свои слова пытался здесь произнести. Есть лиса, а есть лисий хвост. Какая же лиса тобою вертит, Харон? Ва, нах! — обернулся Зайнди ко всем. — Воллахи, лишь по привычке пришло сюда большинство из нас: чтобы, как говорится, не отстать от других. Я этот свой потерянный чабанский день и за месяц не наверстаю, такое у меня время сейчас в отаре. Так что прав Артаган, люди… Пусть говорит! Не сердитесь, что я перебил старшего, но как же было промолчать? — Говори, Артаган! — Да я уже свое сказал… Разве что вон о том роднике добавлю для тех, кто пришел издалека. Говорят, он возник оттого, что ударил своей клюкой по земле Солта-Хаджи, и имеет чудодейственную силу, от любого недуга излечивает. Спросили бы у местных… Они у самого родника живут! — Он кивнул в сторону хутора и медленно сошел с насыпи. Люди обернулись к хутору. Посмотрел и Руслан. В калитке ближнего двора стоял хозяин, фигура его была искривлена недугом. Он задумчиво и печально уперся подбородком в скрещенные ручки своих самодельных костылей… Сошел Артаган с возвышения, даже не глядя на бесновавшегося Харона, будто того там и не было. Перед ним расступались — так спокойно шел он своим неторопливым шагом, полуприкрыв глаза и покачиваясь на ходу, и столько импонирующего всегда горцам стариковского достоинства было в его гибкой, сухощавой фигуре. Харон еще продолжал вопить сбивчиво и бессвязно, но многие начали расходиться от ограды. Они группами двигались к краю поляны, держа путь домой. — Я тут побывал, отметился, а что еще мне здесь делать? — говорил один, независимо оглядываясь на остающихся. Другой, словно бы оправдывая и себя и всех идущих рядом, сказал во всеуслышание: — Когда не знаешь, кому верить, делай по обычаю: верь старшему. Не знаю, как вы, а я так и сделал! Разве сказал хоть одно кривое слово Артаган? А этот артист, который так быстро нацепил мюридскую тюбетейку… Сацита, с наслаждением сосавшая большой кусок сахара, который раздавали из мешка мюриды ради поминовения «святого», с любопытством наблюдала за «артистом» Хароном. — Иди-ка, иди-ка сюда, моя землячка! — протянул он к ней руки с лихорадочной улыбкой на лице. — Я понесу тебя в домик к святой могиле. Пусть все видят, что и ты, мале́йк[44], почитаешь веру… Сацита испуганно смотрела на заросшее щетиной, возбужденное и потное лицо Харона. — Оставь ребенка в покое! — шагнул вперед Руслан. — А ты кто? Ты гяу́р![45] — вскричал Харон, стараясь направить на Руслана гнев окружающих. — Это же Руслан, учитель! — посчитала нужным пояснить для окружающих Сацита. — Значит, только его и слушай, девочка! — крикнул кто-то. Сацита, осмелев, схватила Руслана за руку, швырнула под ноги Харону обсосанный кусок сахара и дерзко прошипела ему в лицо: — Пош-ш-шел ты вон, Хурьск!.. Окружающие захохотали. Руслан оглянулся и посмотрел в глаза Харону. Злобные, воспаленные, с красными ободками. Сквозь фанатичный блеск этих глаз Руслану почудилось, что Харон подмигивает. Дурачит кого или в самом деле свихнулся? На улочке хутора, что возле поляны, высилась большая куча земли. Это были сухие комки грязи, накиданной паломниками, — «карла́г», знаменующий проклятье тем, кто когда-то предал «святого». Когда Артаган поравнялся с «карлагом», его окликнули из-за плетня. На лице хуторянина была дружелюбная улыбка: — Это ведь ты и есть знаменитый Артаган, который строит дорогу? Почему же ты не используешь опыт нашего хутора! Люди остановились, ожидая шутки. — Видишь этот карлаг? — продолжал хуторянин. — Сейчас разровняем этот «стройматериал» — и уже нет ямки на дороге! А завтра в другом месте кинет кто комок и ждем, пока глупые прохожие нарастят холмик. Так и ровняем себе дорогу за счет «святого»! Да только жаль — год от году все меньше паломников становится! Разнесся такой многоголосый хохот, что танцующие на горке зикристы сбились на минуту с ноги и бестолково заметались. — Пришли же своего юрт-да Абдурахмана к нам в хутор на семинар! — кричал вслед улыбающемуся Артагану веселый хуторянин.
Возвращался Руслан от «святого места» вдвоем с Артаганом. Он пытался вслух осмыслить все увиденное сегодня. То и дело оглядываясь назад, он огорченно говорил: — Сколько их еще там осталось! Ведь не все послушались тебя, Артаган… Как же это наш народ… — Что ты знаешь, мальчик, о своем народе? — вдруг прервал его Артаган и остановился. Руслан посмотрел на него и увидел, до чего он рассержен. Взяв себя в руки, Артаган заговорил спокойно. Он вспоминал, что эта самая гора бывала черным-черна от паломников. А теперь их горстка, да и те в основном из дальних углов. — Ты думаешь, иду оттуда с легким сердцем я? — спросил Артаган. — Больно мне за каждого, кто там остался! Одними лишь речами трудно подсечь отживающее. — А чем же? — Да хотя бы твоей работой в школе… Помедлив и не зная, как бы спросить поделикатнее, Руслан задал вопрос: — А от твоей дороги, Артаган, тоже зависит? — От моей дороги?.. Погоди-ка, что это там шевелится?.. Он смотрел с обрыва вниз, на дно глубокой лесистой лощины, где зеленел квадратик картофельного поля. Руслан ничего не мог разглядеть — так это было далеко. Артаган же, молниеносно подобрав камень, мощно и точно запустил его с разбега вниз, прямо в центр картофельного поля. Зеленый квадратик словно ожил, взбурлился; среди кустов картофеля замелькали темные спины каких-то существ. — Дикие кабаны… Видел? — усмехнулся Артаган, так же метко запустил еще один камень и лихо, по-молодому гикнул. — Обнаглели совсем. Затем он отряхнул руки и медленно, раздумчиво переспросил Руслана: — Зависит ли от моей дороги? Еще как зависит, мальчик! Сяльмирзе и его дружкам она спать не дает, эта наша стройка. Не бог всемогущ, а сами люди — вот ведь в чем убеждает всех любое наше доброе дело! …Когда прощались, Артаган сказал: — Помнишь, в лесу я говорил тебе: верь в народ. Верь! В его сердце добро всегда сильнее зла!
Глава XII
В ином цабатоевском доме девушка — мечтательная и не в меру задумчивая, как все девушки на выданье, — может от восхода до захода солнца тянуть самую простую уборку. Даже не наклонится, чтобы руками раскатать валик светлого домотканого половичка по комнатам, а попихивает его ногой. Катнет — и задумается на полчаса, неподвижно глядя через окна на горы, на облака, пока не окликнет сердито мать. Так же медленно раскатывался белый половичок дороги на берегу Гурса. Цабатоевцы то вдруг нахлынут в лес такой толпой, что Артаган, его «прораб» Али и другие помощники едва поспевают расставить людей. И смотришь — валик дороги сделал три-четыре оборота, полотно добралось за день до такого места, где планировали быть лишь через неделю. А потом опять редеют голоса в лесу. Не то чтобы цабатоевцы были ленивы или мечтательны, как та девушка. Просто у каждого находились те или иные свои дела. В районе — в других его селах — были завистники, которые отмахивались, когда им в пример ставили Ца-Батой: «А чего им не строить дорогу? У них людей много, а земли мало. Куда девать свободные руки?» Доля правды в этом была, но как ни говори, сколько у любого человека забот, кроме колхозных, даже в многолюдном Ца-Батое! Мужчина должен перекрыть летом обветшавшую крышу, ведь Ца-Батой — аул старый… За топкой — в лес. Не оставишь без внимания огород, а ведь случается, что после ливня вода хлынет по склонам и слизнет возделанное с таким трудом картофельное поле, и начинай все сначала. У женщин помимо всего обуза — таскать издалека воду. Пока сходишь по косогорам к роднику, ноги отваливаются. Хлеб привыкли есть домашний, вот и возись с тестом. Не так-то уж свободны цабатоевцы, к тому же надо учесть, что самые удалые подаются на лето в дальние края — в Сибирь, в Казахстан. На заработки, за большим кушем. Строят там за хорошие деньги коровники. Кое-кто подумывает, не переметнуться ли в город. Не хотят люди жить одной надеждой на свой ненадежный Ца-Батой. Тупик, захолустье… Никогда здесь настоящего благоустройства не будет. Строить себе новые дома? Сяльмирза-то построил, потому что ему из Ца-Батоя пути нет, его сектантская «профессия» — организовывать зикры — нигде не получит спроса. А город не очень-то идет к Ца-Батою. Возвел колхоз дом отдыха для своих шефов. А почему пустует? Да потому, что шефы-машиностроители никак не доедут в Ца-Батой. Далеко! Доберутся до райцентра и размышляют на развилке: может, лучше провести два выходных вот там, у озера, в палатках, чем тащиться в Ца-Батой, делать крюк? И дом отдыха пустует. Шефство над колхозом только на бумаге: поздравления шефы колхозникам к празднику шлют, свои грамоты для колхозных передовиков присылают, но такая почтово-телеграфная любовь не живуча… Дорога, новая дорога изменила бы все! Но как-то рывками движется дело. Черт возьми, этот Артаган мог бы и натянуть вожжи, прибрать коня к рукам. В колхозе он был куда строже…Видимо, Артаган ждал этого «момента нетерпения». Теперь, когда люди всколыхнулись, когда отступать аулу уже некуда, он вдруг раскрылся прежним Артаганом с председательской хваткой и строгостью. Двоих-троих, кто не пришел на стройку в обещанные дни, потом не допустил до лопат: «Что вы! За ваше желание помочь — спасибо. Но нам теперь и без вас пустяки осталось сделать. А вы выпали из графика. Отдыхайте, не утруждайте себя зря…» Каждый, кто приходил на трассу, знал теперь свою работу и свое звено. Впрочем, вскоре здесь появились даже такие понятия, как отряд и колонна. Вот как это произошло. Начались школьные и студенческие каникулы. Это для Артагана было и хорошо и плохо. Часть учителей разъехалась в отпуска, а они во главе с жизнерадостным д’Артаньяном помогали на трассе безотказно. Зато понаехало много студентов. Поначалу они забредали на стройку случайно: пошлет родитель, погрязший в своих домашних делах, вот студент и приходит с лопатой или киркой. Мовлади́, красавец, разбитной и веселый гигант, приехавший на побывку из московского вуза, приходил сюда чаще всего от скуки. Может быть, ему приглянулась какая-то из учительниц или юных колхозниц, а где проще всего перекинуться словом, как не на оживленной трассе. Он мог свернуть киркой или лопатой целую гору, а мог и так: неожиданно отшвырнуть поднятый для очередного замаха инструмент и исчезнуть, «слинять», как говорили студенты. Подоспевший Али заставал пустое рабочее место и вынужден был затевать перестановки. Артаган как-то подозвал Мовлади движением пальца. Дотянувшись до его плеча и положив на него руку, Артаган жестко сказал, глядя, по обыкновению, в сторону: — Ва, кяньк. Без отряда больше сюда не приходи. — Какого отряда? — А вот эти… как их у вас называют в институтах… студенческие строительные. Только, пожалуйста, с музыкой. Не забудь музыку! Артаган вскинул голову, чтобы убедиться, хорошо ли его поняли; увидел, что не поняли совсем, и все же, махнув рукой, удалился по какому-то делу своей мягкой рысью. «Отряд, отряд… Какой отряд? — раздумывал Мовлади. — Ага! Нет в Ца-Батое отряда? Значит, надо создать. И я — командир». Отряд студентов наутро пришел. Он оказался неожиданно большим, потому что Мовлади включил в него и завтрашних студентов — выпускников школы. Старый Муни был поражен магической силой слова «отряд». — Ведь смотрите! — бегал он по трассе. — Дали им имя «отряд» — и тех же самых лоботрясов не узнать. Артаган, а что, если нам сколотить еще один отряд — из стариков? — Тоже с музыкой? — подхватил кто-то из зубоскалов. — С индийской! — поддержали еще. Так возник отряд № 2, который цабатоевцы немедленно окрестили «Муни-Маржан-отряд». У студентов — «ССО», а у этих — «ММО». …Название «колонна» родилось по-иному. Однажды Артаган попросил Муни: — Помоги-ка мне еще разочек перетащить мой шалаш. — Уже четвертый раз! — подтягивая штаны, проворчал Муни. — Что, я на весь остаток жизни обречен таскать на своей тощей спине твой «кабинет»? До самого двадцатого километра? Давай сразу туда и перенесем! — Нет. Поближе. До тринадцатого километра. За аул Борзи. Пора пускать в бой колонну номер два — борзийцев. Первая колонна — цабатоевцы, а вторая — борзийцы. — А? Или я ослышался? — удивленно сказал Муни. — Что ты, Артаган… Борзийцы пальцем не шевельнут! Обижены на тебя… — Разбирай, разбирай шалаш, Муни. Вон арба ждет. Оставив за себя Али, Артаган перекочевал за аул Борзи. Вскоре туда приехал Абдурахман. Постукивая плеткой по сапогу, сказал: — Оттолкнул борзийцев, а теперь к ним же на поклон?! Ох, и тяжелый же ты человек, Артаган!.. Ну что, организовать тебе этих обидчивых борзийцев? — И не вздумай. Этот конечный участок трассы я тоже начну сам. Один. Опыт уже есть. — Э-э, тут ты просчитаешься. Второй раз на один и тот же фокус людей не возьмешь. Там-то ты на удивлении сыграл, на любопытстве людей! — Людские сердца — не зурна, чтобы на них играть, — сухо ответил Артаган. — С тобой уже и пошутить нельзя! Слушай, Артаган, я вижу, уже подходит пора цемент для мостов покупать, гвозди, трубы для водоспусков. Да мало ли расходов? — Что, сельсовет разбогател? — Да какие там у нас деньги, ты же знаешь. Я думаю, тряхнуть бы нам с тобой Усмана. Он теперь в деньгах не откажет. — Не надо! — А где возьмешь? — Я в город не зря эту неделю ездил. — А там что, деньги на улице валяются? И тогда Артаган показал пораженному Абдурахману бумагу на бланке Совета Министров: выделить для строительства дороги пять тысяч рублей. «Деньги небольшие: если бы дорога прокладывалась за государственный счет, она обошлась бы в сто раз дороже, — прикинул Абдурахман. — Но и без этих пяти тысяч дело могло застопориться!» — Через голову сельского Совета действуешь? — несколько уязвленно спросил юрт-да. — Совет Министров тоже Совет, — миролюбиво ответил Артаган. — И потом, я же действовал как твой помощник — депутат. — Слушай, может быть, тебе группу цабатоевцев сюда все же прислать? С ночлегом приедут. Сам их возглавлю… Но упрямый Артаган отрицательно махнул головой и вонзил лопату в целину поляны.
…Борзийцы собирались на пригорке, где стояла кузница, и, поглядывая вниз на Артагана, на его шалаш, подолгу злорадствовали: — Пусть, пусть покопается. Мы не такие простофили, как цабатоевцы, чтобы на его удочку попасться… — Нехорошо как-то… Он все-таки, по существу, ведь гость, — заметил Кривой Хасан и сразу начал заводиться от своих же слов: — Вот подлый старик! Он же нарочно оскорбляет наш аул, разве не видите? Пусть, мол, прохожие смотрят, как хозяева покуривают цигарки, а гость на их же земле в три погибели гнется. Ни за что не пойду помогать! Пока… пока сам не позовет… Артаган, будто услышав эти слова, обернулся, приставил ладонь козырьком ко лбу и крикнул: — Уо, славные борзийцы! Мне было не так обидно, когда эти мои ленивые цабатоевцы заставили меня, старика, одного начинать трассу: там я был все-таки дома. А здесь же я гость. Может быть, и не такой уж почтенный, как вам бы хотелось, но предки говорили: гостя не выбирают. Не так ли? — Опять какая-нибудь хитрость, — зашевелились на пригорке. — Хасан, сходи к нему на переговоры, выведай, чем он дышит. Только смотри, этот старик такая лиса… Он ласковым словом и змею из норы выманит! Переговоры прошли в обстановке взаимопонимания. Артаган покаялся перед бесхитростным Хасаном, что так непочтительно вел себя со славными борзийцами. Но он не хотел тогда смешивать их вместе с ленивыми, неорганизованными, заносчивыми и никчемными цабатоевцами, к которым имеет несчастье принадлежать и он сам, Артаган: ждал, пока сумеет навести там хоть кое-какой порядок! А вот теперь перенес центральный штаб сюда, на самый решающий участок дороги. Последние, боевые восемь километров пусть делают сами борзийцы. Своей колонной. При желании им не возбраняется вызвать на соревнование Ца-Батой. У цабатоевцев участок, правда, побольше, но и людей в Ца-Батое больше, а к тому же там могут помочь люди крайнего аула. …Аулу Борзи пришлось по душе такое решение. Так же горячо, как ругали Артагана, они начали теперь восхвалять его. В самом деле, разве разумно было бы бегать от Борзи до самого Ца-Батоя на отработки? Распылять силы на две колонны тоже вначале было неразумно, потому что Артаган один не смог бы поспеть везде. Словом, все идет толково. И насчет соревнования тоже неплохая мысль. Представляется хороший случай утереть нос этим хвастунам цабатоевцам. Так на трассе стало две колонны: каждый аул — колонна. — А кто же такие мы? — поинтересовались жители третьего аула. — Мы тоже колонна? — Нет, вы прослойка, — сказали свое мнение борзийцы. — Люди, можно ведь назвать их прослойкой? — Можно, можно! — поддержали цабатоевцы. — Из их аула вышло больше всего интеллигенции. Даже больше, чем из «столицы» ущелья — Ца-Батоя! А интеллигенция — это прослойка и есть.
Теперь уже два валика новой дороги продолжали раскручиваться в сторону долины белыми половичками: один — от Ца-Батоя, второй — от аула Борзи. В предзимние дни осени те шоферы-упрямцы, которые желали ездить только кратким путем — через ущелье, а не через райцентр, — уже могли отводить душу на двух отрезках грейдерной трассы. — Разрешаешь, Артаган? — спрашивали они, прежде чем въехать на белое полотно. — Может, еще не готово? — Не только разрешаю, — прошу: вы же своими колесами помогаете укатывать полотно, обнаружить, где оно проседает. В добрый путь!
Уже в сентябре с высоких гор вниз по ущелью Гурса стали все чаще дуть холодные ветры. Здесь, в ущелье, золотилась осень, но Гурс давал знать, что на самых высоких вершинах выпал снег: река начала заметно мелеть, сникать. — Ну, Тута, скоро придет твое счастливое время! — говорили цабатоевцы трактористу. — А что будет? Новые расценки механизаторам? Повышенные? Ты что-нибудь слышал? — впивался Тута в говорившего. — Да нет же! Гурс обмелеет: прыгнешь с камешка на камешек — и уже на том берегу. Даже с мешком. Можно будет обходиться без этого проклятого мостика… Одно за другим колхозные поля покрывались черными бороздами: кончилась жатва, трактористы поднимали зябь. Везде на склонах гор высились стога сена. Колхозное стадо даже на вид стало выглядеть лучше. И не только потому, что животные нагуляли за лето тело: Усман не жалел денег на покупку племенного скота. Глядя на колхозные постройки, Артаган отмечал мысленно, что его ученик и здесь не потерял лето зря. Уже подведен под крышу новый двухрядный коровник, поднялось еще одно зернохранилище, а на берегу Гурса протянулась новая табачная сушилка. Хорошие вести шли с высокогорных пастбищ: овцы прибавили в весе больше, чем ожидалось, не потеряли шерсти. Вот-вот отары спустятся вниз. На счету молодого горного колхоза было еще не так густо. Но уже теперь можно было прикинуть, что годовой доход получится солидным, гораздо выше запланированного. Если бы какой-нибудь лингвист вел в Ца-Батое наблюдения, он бы установил, что до сих пор цабатоевцы расходовали самые свои большие эмоции на смакование наиболее удачных кличек, которые здесь так любят придумывать друг для друга. Эта страсть оставалась неизменной и сейчас, но эмоции номер один приходились теперь на такие простые и давно придуманные людьми слова: «строить», «стройка». Заезжий человек, послушав беседы цабатоевцев, мог бы подумать, что попал в кран великих строителей, создавших незабываемые ансамбли дворцов и бетонированные автострады, а теперь замышляющих невесть что… На самом же деле прибавилось в смысле построек ненамного больше, чем и в обычные годы. Если не считать дороги, которая еще не достроена. Но, может быть, именно она и придала новую окраску языку цабатоевцев. Запал, рожденный ею, не сможет потухнуть на финише трассы, это цабатоевцы понимали чутьем. А поскольку дорогу тянуть дальше будет уже некуда — на равнине хватает своих дорог, — придется обратить страсть на что-то другое. Слишком долго раскачивались, чтобы так быстро остановиться! — Давайте после этой дороги возьмемся прокладывать путь и к нам, — предлагали дальновидные жители самого верхнего аула. — Ведь мир тянется от Ца-Батоя не только в сторону Грозного, но и в нашу сторону. Почему автобус из города будет доходить только до столицы ущелья? — Да до вас-то мы потом легко доберемся! — отвечали им. — Что стоит проложить к вам ветку? Какие-то шесть километров! Доплюнуть можно… Хочется что-нибудь новенькое! И многие начали подумывать о новых домах. Может быть, и без унитаза, как у Сяльмирзы, но таких, чтобы Ца-Батой выглядел не хуже больших равнинных сел. На виду у мира ведь теперь будем, когда приоткроем дверь ущелья. Шефы почаще станут приезжать. Туристы на автомобилях зачастят. Ведь красота в ущелье неописуемая, не хуже, чем на самых нарядных курортных открытках. Руслан не подозревал вначале, какую утеху он принесет этой проснувшейся строительной любви цабатоевцев. И чем? Лестницей, ведущей на Юрт-Корт! Те простые земляные ступени по склону горы, которые он шутя пробил с ребятами из своей школы, не были, кажется, никем даже замечены в Ца-Батое. — Сделай по-хозяйски… — шепнул ему Артаган, словно сообщал секрет. — Ступеньки твои раскиснут после первых же сильных дождей. Я бы на твоем месте построил каменную лестницу. Видел, сколько сланцевого плитняка там, где ты бегаешь по утрам? Вот и облицуй свои ступеньки. В интернате был ишачок с повозкой. На нем Русла и и его помощники подвозили из карьера плиты. Они не считали свою работу такой уж и важной. Однако дел хватило чуть ли не на все каникулы. Плитки не всегда подходили по размерам, надо было колоть их по слою и обтесывать концы. …Белокаменная лестница напоминала издали стрелу, взвившуюся к вершине Юрт-Корт. Пока это стрела в никуда: пока что вершина горы пустынна, если не считать ажурной деревянной башенки, несущей штырь телевизионной антенны. Но этой лестницей полюбоваться вблизи приходили и с самых дальних краев аула. Ничего такого Ца-Батой у себя еще не видел. — Говорят, в Москве даже в метро нет таких лестниц в девяносто три ступени! — хвастливо сообщил Тута. — Дикие вы люди, — поправил Досрочный Старик. — Я же бывал в Москве на выставке. В метро не лестницы, а эскалаторы, по ним и шагать не надо, они тебя сами везут! — Вот бы один сюда, для Юрт-Корт! — вздохнул Тута. — Два! — размечтался другой. — Чтобы один из них можно было через Гурс пустить. Специально для Туты…
…Артаган сидел у себя в шалаше за аулом Борзи, когда вдалеке зашуршали через притихший Гурс колеса автомашины. «Газик», но не усмановский, — определил Артаган, не поднимая головы от бумаг. — У этой машины новые протекторы на шинах. Наверное, приехал кто-то из города». — Наш Артаган всегда рад гостям из города! — послышался голос Кривого Хасана. Артаган выглянул и не сразу узнал, кто же это пожаловал, потому что за спиной приезжего садилось солнце. — Ассала́м але́йкум, Артаган! — сдержанно улыбался гость. Это был шеф, директор машиностроительного завода Маркин, человек худой, полуголодный на вид и веселый, с мальчишеским лицом — из тех, кто и до старости похож на студента. С ним Артаган и затевал когда-то взаимное шефство завода и колхоза, которое со временем обмелело, как зимний Гурс. Сели в шалаше. Хасан разложил перед гостем снедь — холодную баранину с мраморными срезами, вареные початки кукурузы, румяный чурек, черно-коричневые от спелости дикие груши. — Прослышали мы о вашей новой дороге. И вот я приехал снова набиваться на дружбу с колхозом, —сказал Маркин. — Председателем теперь вместо меня другой, — улыбнулся Артаган. — Начинали мы с тобой! С тебя начну и сейчас. Говори, в чем нуждаетесь? Поудобнее усевшись на кошме, Артаган прикрыл глаза веками и, поразмыслив, произнес: — Пиши, Маркин: кровля для интернатского клуба. Понадобится на будущий год… — Запасливы цабатоевцы! Записал. Это мелочь. Дальше? — Пиши, Маркин: трубы для водопровода в Ца-Батое. — Записал. Это нам тоже под силу. Дальше? — Аннасыц яа! Этот возглас удивления вырвался у Кривого Хасана? Ца-Батой затевает себе водопровод! Кузнец выскочил было, чтобы немедленно известить об этом аул, но тут же, передумав, вернулся, боясь упустить что-нибудь из такого важного разговора. — А что же тебе нужно для дороги, Артаган? — удивился Маркин. — Это-то, знаю, ты нам и так не откажешь. У предков была поговорка: если хочешь удержать свой берег реки, борись за противоположный. Так и я: просил сначала не для себя, а теперь скажу и о своем. Цемент надо, Маркин! Деньги нам Совет Министров выделил. И еще две вещи пиши, Маркин. Пожалст! Кулачковый каток для дороги потребуется на время. И помоги вытащить сваи. Видел в долине перед въездом в наше ущелье мост? Новый, а рядом старый. Его разобрали, железные сваи торчат из реки, вид портят. Соседний район говорит: «Бери сваи, не жалко». Дорожное управление говорит: «Бери», потому что управление знает — ни один человек в мире не сможет эти сваи вытащить. А твои подъемники смогут, Маркин. Вытащи! Ну, кушай, пожалст, мясо. А вечером придешь ночевать ко мне домой, Залейха сделает что-нибудь настоящее. — Так это и вся твоя заявка? — Всё. Точка. У гостя вообще неприлично выпрашивать… Завод — и твой и мой. Государственный! Надо нам беречь завод, Маркин. — Как это все! — возмутился Кривой Хасан. — А для аула Борзи? Хотя бы новые мехи для кузницы. И пуд железа на подковы. Пиши, Маркин!..
…Садясь в машину, чтобы ехать в правление колхоза, директор спросил у Артагана: — Что за парень Усман? Я его почти и не помню. Подумав, Артаган коротко ответил: — Мой ученик! — И тут же добавил: — Но будь с ним осторожен… Он пояснил удивленному директору: Усман своенравен и упрям, но одно его всегда отличало — добрый, как ребенок, последнее готов отдать. А стал председателем… Свое личное он и теперь отдаст, у собственных детей отнимет, а отдаст просящему. Но колхозную копейку зажал, даже для дороги вначале отказывался что-нибудь дать. А из других вытягивает для колхоза самым бесстыдным образом. Может и с заводом повести себя неприлично. Обведет вокруг пальца. — Ну, это мы еще посмотрим! — звонко, по-мальчишески расхохотался директор, протягивая руку. — Спасибо, что предупредил. Но я сам слыву в городе таким же, как твой Усман: любого вокруг пальца обведу! …Поздно вечером Маркин приехал в дом к Артагану усталый и растерянный. Он в который раз перелистывал за столом блокнот, перечисляя, какую помощь хочет получить колхоз от завода: — Стенд для испытания тракторных моторов — раз. Слесарно-токарное оборудование для мастерской — два. Реконструировать колхозную баню — три. Паровое отопление в правление — четыре. Монтаж полуавтоматаческой пекарни — пять… Стой-ка, стой-ка… А это как ко мне в блокнот попало?! «Помочь в строительстве колхозного консервного завода». Это как сюда попало? Артаган, посмотри-ка, это мой почерк или не мой? У меня рука дрожала… …Разрывая потом горячего индюка руками, по-горски, Маркин вспоминал: — А разговаривал он со мной как! Грохнул какой-то толстой папкой об стол: «Вот цена вашему шефству — полпуда красивых поздравлений!» В этот момент он мне как раз и подсунул, наверное, консервный завод. И как я все это с завкомом буду согласовывать? Ну и тип этот твой Усман! — Я же предупреждал тебя: будь с ним осторожен. Забыл мой совет? Но Усман тоже такой, как ты: не слушает стариков! Оба они расхохотались, а почему, Залейха не понимала, она едва знала русский язык.
Глава XIII
Снова пришла весна. «Кто не видел Ца-Батоя весной, тот не видел Ца-Батоя!» — любят говорить в ауле. Горы — те же, что были и вчера, и зимой, и осенью. Что же добавляет весна? Ну, деревья оденутся в свой зеленый наряд. Трава пойдет в рост. Нет, не это само по себе обвораживает здесь глаз весной. Не сам по себе сочный зеленый цвет леса и многоцветье горных склонов. Удивительная перемежаемость цвета, чередование трех-четырех главных красок — вот что, наверное! В этом ущелье нет, как в иных местах, бирюзовых озер, нет красных скал, не бывает здесь солнце оранжевым, как над степью. Из всех красок радуги ущелье Гурса скромно отобрало себе три: голубую, зеленую и белую. Есть и любые другие цвета здесь, но это уже частности, просто мазки на картине, — например, разные там цветочки и прочее. Или же краски, которые привнес человек, но они не главенствуют. Зачернел квадрат крутого склона — это «закрасил» пахарь; зажелтел квадрат — опять же рука человека: он вырастил пшеницу, расстелил на склоне ее желто-золотистый ковер. А главные цвета — голубой, зеленый и белый — определяют всю картину. Они, эти цвета, очень дружны между собой и то и дело уступают место друг другу. Лес в иные часы дня не зеленый, а синий. Голубое небо в грозу мрачнеет и прорезается огненно-зелеными молниями. Белая весенняя вода Гурса вбирает в себя голубизну неба и делается лазоревой, а в тихих забережках колышется, как в зеркале, зелень курчавых деревьев. Белый цвет сам по себе вроде бы и не цвет. Но без него в Ца-Батое не было бы всей прелести этой перемежаемости красок, наконец, того ритма, который свойствен и горам, и людям, и языкам. Белые туманы медленно взвивают утром, когда чуть потеплеет, свои мягкие пологи от реки вверх. Но часть своего цвета они оставляют на земле, и каменное, оголенное русло Гурса тянется весной через зеленое ущелье белоснежной россыпью. На черных наклоненных к этому руслу полях сахарными горками белеют камни, выкорчеванные из черной земли, чтобы освободить место бороздам. Черна, влажно сверкает на склоне полевая узкая дорога, но и тут белый цвет словно прожилки в мраморе: это ночной ливень обнажил, отмыл камень дорожной колеи. Белые, чистые облачка дремлют на небе, на его чистой голубизне. Ослепительно белы на солнце и покатые улицы Ца-Батоя. Цабатоевец не жалеет белой краски, он любит ее, он старается добавить ее ущелью. Зеленые склоны гор прочерчены белыми горизонтальными линеечками — это корпуса ферм. Возведенные за время бесснежной, на редкость теплой зимы, новые дома сельчан не запестрели весной всеми цветами радуги: двери, переплеты окон и неизменных горских веранд покрывают теперь только белой краской. Артаган тоже добавил ущелью белой краски. Если бы посмотреть сверху, с самолета, то можно было бы увидеть, какой снежно-сверкающей полосой вьется артагановская дорога по ущелью. А если посмотреть снизу на гору Юрт-Корт, то видно, как белая лестница стрелой взвилась к вершине. «Значит, и мы с Зарой поработали, расцвечивая землю Ца-Батоя! — думает Руслан. — Грешно и совестно было бы человеку ходить по такой земле, уперев взор в тропу. Совестно мчаться среди такой красоты лишь бегом, когда краски только мелькают перед глазами». Бегает Руслан до Гнезд Куропаток по-прежнему, но делает и медленные прогулки по окрестностям Ца-Батоя. Задумавшись, идет через молчаливую поляну и вдруг вздрагивает от грохота, звона. Это в шелковистой, прохладной траве притаилась изгородь картофельного поля: на проволоке навешаны низко над землей консервные банки, старые чайники, корпуса от будильников, детские леечки. Гремящее ожерелье — спасение картофелю от диких кабанов. Цабатоевцы уверяют, что занимают в мире первое место по потреблению консервов на душу населения: им нужно неисчислимое количество жестянок. Все дается человеку в горах трудно. И злак. И дорога к людям. Но зато и характер горца получает кое-что. Руслан размышляет об этом потому, что увидел на камнях речного русла странную пичужку. Она храбро ковыляла по камешкам, не проваливаясь между ними. Не взлетела даже тогда, когда Руслан чуть ли не коснулся ее рукой. «Камни — мой дом, кто же посмеет меня тут тронуть?» — словно бы говорила она. Чем же кормится здесь птаха? На чистых белых камнях — ни червячка, ни травинки, ни личинки. Но у птички Руслан разглядел непомерно длинный клюв: обзавелась, чтобы доставать корм меж камней. У птички удивительно разлапые ноги: отрастила, чтобы не проваливаться. Так и горцы. Руки, ноги, головы у них — как у всех живущих, разве что носы чуть посолиднее, чем у прочих племен. Но горец обзавелся редкостным упорством. Без этого в горах не сделаешь свое. Упорству природы здесь надо противопоставлять свое упорство. Упорству каменных склонов — упорство пахаря. Упорству Гурса — упорство Артагана и его помощников.Есть в Ца-Батое три человека, три высокие натуры, которые начисто отрешены от земных дум и живут только и только небесными. Это Майрбек, Казбек и Денежка-Ахчи. Под водой, как мы знаем, они были. Под землей были: разворачивали осыпи, лазили по пещерам ради музея. Потом вернулись на время к земным заботам: попробовали добыть немного взрывчатки из запасов Артагана, чтобы сделать ракеты. Взрывчатку, которой на трассе подрывают пни чинар и делают гравийные карьеры, Артаган хранит не где-нибудь, а на складе лесоучастка. Но ни один из этих красивых беленьких ящичков добыть друзьям не удалось. И тогда они, хоть и не имели ракет, устремились всеми мыслями к небу. Цель скромная: надо убедиться своими глазами и известить весь Ца-Батой, что спутники пролетают над Гурсом. Сегодня ночью дежурит, ведет наблюдение за небом Денежка-Ахчи. Весь аул спит. Не слышно даже собак. Спят куры. Лежат себе в теплых постелях Майрбек и Казбек. И только она одна во всем Ца-Батое не спит, да еще не спят, мерцают и перемигиваются высокие звезды. Денежка притаилась на крыше за теплой печной трубой, старается не шевелиться, чтобы не услышали родители. Холодно, страшно. Зато, может быть, Денежка первая переполошит завтра весь Ца-Батой новостью: над нами был спутник. Не «за что купила, за то и продаю», а «сама видела».
…Вдруг в конце переулка послышались чьи-то осторожные шаги. В лунном свете показалась тень. Денежка прижалась к теплой трубе, чтобы ее не увидели. Не дай бог, если это вдруг сам директор д’Артаньян: ведь всю троицу друзей уже водили к нему за то, что спят на уроках. Харон! Его это тюбетейка! Что это он тащит в руках? Чемодан? Да это же тот самый ящичек со взрывчаткой… Беленький! Что же он такое задумал, этот Харон, почему крадется среди ночи? «Идет на Юрт-Корт взрывать интернатскую вышечку с антенной и всю гору назло Заре! — осеняет Денежку. — За то, что Зару не отдают за него!» Денежка мышью соскользнула вниз по приставной лестнице, тенью метнулась на улицу. Кому сообщить новость? Вернуться, сказать родителям? Спросонок будет трепка за то, что лазила ночью по крыше. И так все уши оттянуты. Бежать к директору школы? Но д’Артаньян может проговориться родителям. Куда же бежать? Может быть, за Хурьском? Страшно. И он так быстро идет в гору, его не догонишь. Его только бегун-спортсмен догонит… Только Руслан! Он никогда не выдаст Денежку. К нему, скорее к нему, потому что к Казбеку и Майрбеку тоже нельзя: их не разбудишь так, чтобы не слышали родители. …Денежка мчится с замирающим от страха сердцем вниз по кривой улочке аула. Больше всего она боится собак. Их на ночь отвязывают, а чабанский волкодав может сигануть и через плетень. Но вот и мостик. Гурс не рычит, перебегать через его почти пустое ложе не страшно. Руслана дома не оказалось, каморка была пуста. Денежка заплакала и пошла назад. Крикнуть, разбудить всю улицу? Собаки выскочат первыми… Растерянная девочка опамятовалась только в своем переулке. Поднять отца! Пусть будет трепка… Денежка потрогала свои горящие после бега уши. И вдруг вспомнила: Руслан спит, наверное, у учителя Пиктусовича-Усовича. На медвежьей шкуре, а вокруг — книги… Бежать туда, назад, в школу — к Усовичу! …Руслан, жмурясь через окошко на лунный свет, долго не мог сообразить, какую новость принесла Денежка на этот раз. Интернатскую антенну хотят взорвать? Что за чепуха. Он бестолково спрашивал у нее, который час, пока где-то внутри дома не раздался сонный, жалобный голос Пиктусовича: «Руслан, имейте совесть!» Руслан в минуту оделся и, прыгнув в окно, опередил девочку. Скоро Денежка услышала шум его шагов на мостике. Вот мчится! Не догонишь… Руслан бежит через ночной аул в гору. Не рассчитывая дистанции, он бежит так, словно вышел всего-навсего на стометровку. Лишь бы держать дыхание… Быстрее, быстрее. И поглядывать по сторонам, чтобы ускользать от шальных волкодавов. Как бы они девочку не покусали… Где она там плетется? Влетев во двор интерната, он обежал здание. Нет никого. И сторожа не видно. Какие все это глупости! Что за сон приснился Денежке? У этой троицы вечно фантазии. Но что болтала девочка про антенну? Руслан взбегал на вершину Юрт-Корт по своей лестнице, на ступенях которой знакома каждая щербинка. Восемьдесят одна… Восемьдесят пять… Так. Тут чуть-чуть отдышаться. На случай, если придется схватиться с Хароном. Вдруг он уже запаливает шнур, если все это Денежке не померещилось. Руслан выскочил на залитую лунным светом вершину и побежал к вышке неслышным шагом, таясь за деревьями рощицы. Пустынно было и на вершине Юрт-Корта. О, какая глупая девчонка! Руслан присел на скамейке в рощице. Аул смутно белел внизу, нигде ни единого огонька. Куда же подался Харон? Если у него и взрывчатка, то он ее просто украл, чтобы продать рыбакам-браконьерам. Понес прятать где-нибудь в скалах. Черт с ним, все равно попадется. Он ведь совсем ошалел после неудачи с Зарой: засылал к ее родителям Сяльмирзу и сватов еще более важных, но получил отказ. Говорят, Харон теперь совсем ударился в мюридство, призывает божью кару на Артагана и на его дорогу. Свет луны выхватил только аул и его округу. А дальше по ущелью, куда сбегал Гурс, темно. Лишь где-то над аулом Борзи что-то вроде слабой колеблющейся зарницы. Отблески луны? Пожалуй, это ближе, чем Борзи. «А-а, — вспомнил Руслан о секрете, который ему вчера выдал Завмяждиг Али. — Это же борзийцы вышли на последний штурм трассы, светят факелами». Дело в том, что послезавтра Ца-Батой будет торжественно перерезать ленточку новой дороги. Но сначала он должен погасить свой долг, «добить» еще метров сто дороги вблизи аула Борзи. Этот отрезочек цабатоевцы, которые уже довели свою часть дороги до самой околицы аула Борзи, пропустили, потому что не оказалось труб для водоспусков. Вот завтра цабатоевцы и собираются туда, чтобы всем аулом достроить последний отрезок дороги. Но борзийцы решили сделать им сюрприз: пользуясь лунной ночью, погасить их долг сегодня. Пусть позлится чванливый Ца-Батой! Пусть будет чувствовать себя в долгу перед аулом Борзи. «Никто в Ца-Батое об этом замысле не знает, — предупредил Руслана Али. — Кроме, конечно, Артагана, юрт-да и меня. А то испортим борзийцам эффект…» «Никто не знает!» — улыбнулся Руслан. Да разве скроешь в Ца-Батое тайну?! Сегодня о секрете борзийцев узнал председатель колхоза. Завмяждиг сказал Руслану. Усман вначале очень рассердился, кричал, что Артаган и юрт-да лихорадят весь ритм колхозной работы. Тогда Артаган посоветовал Усману с улыбкой: «Вместо того чтобы злиться на борзийцев, ты бы лучше вышел с ними сегодня ночью на трассу. Возглавь их сам. С лопатой в руках!» — «Но я же цабатоевец. Мне не простят предательства!» — «Ты вожак всего колхоза, а не одной цабатоевской бригады, — ответил Артаган. — Аул Борзи тоже твой. А если выселят тебя цабатоевцы за такое «предательство», придешь жить ко мне в лесной шалаш. Хотя ужиться с тобой мне трудно». «Веселые люди в этом ущелье! — думал Руслан. — Но гордые, самолюбивые». Да, это светят факелы борзийцев, а не луна. И это примерно на километр ближе, чем аул Борзи. Как раз под Гнездами Куропаток. Руслан встал. Намокшая после бега спина озябла. Подумывая, не следует ли пойти разбудить начальника лесоучастка — вдруг Харон и вправду украл взрывчатку? — Руслан пошел к лестнице. И тут услышал крадущиеся шаги. Он отпрянул в рощицу. Взойдя на гору, человек, без всякого груза в руках, обошел рощицу, потоптался возле башенки с антенной и неожиданно запел дребезжащим старческим голосом заунывную песню. Да это же Махты́, сторож интерната! — Ты что делаешь ночью на нашей территории? — строго спросил он, узнав Руслана. — Смотри, Ширвани тебе голову отвернет… — Махты, скажи, ничьих ты шагов внизу не слышал? — Слышал, да не сразу проснулся. И вот поднялся на всякий случай сюда — не таится ли кто здесь? Теперь-то вижу, что шаги возле интерната были твои. — Нет, а раньше? Никто не проходил? — Да прошел какой-то. Один сумасшедший найдется и в Ца-Батое, такой, что и ночью своей дурной голове покоя не дает. Воллахи, и вправду у него, наверное, дурная голова: вроде бы без шапки он был![46] А может, в тюбетейке… — В тюбетейке?! Слушай! В какую же он сторону пошел, не заметил? Говори же скорее! — Да вот в ту, где по утрам еще один сумасшедший мотается по скалам: это я уже про тебя… А кого ты ищешь, какого своего кровника? Но Руслан уже не слушал. Он мчался вниз по лестнице, а за аулом свернул на свой знакомый маршрут. «Божья кара на Артагана и на его дорогу…» Только в одном месте обвал после взрыва может достичь трассы: под Гнездами Куропаток! Нет, не сделает Харон этого… он, наверное, свернул в отщелок, чтобы спрятать ворованное. Но вдруг этот сумасшедший решится на взрыв? «Мое дело — добежать до Гнезд Куропаток, — твердил себе Руслан. — И караулить там до утра. Как на боевом посту!» Какая чепуха! Какой взрыв?! Не посмеет ничего Харон… Внизу ведь вышел на трассу весь аул Борзи! «Смотри, это секрет…» — ударили в голову слова заведующего клубом, и Руслан сделал новый рывок через камни, рискуя сломать ноги. Харон ведь не знает, что на трассе люди! И в том месте он не увидит сверху ни людей, ни факелов… Да и захочет ли такой сумасшедший вникать в это… Денежка, бежавшая за Русланом, едва отдышалась у своего плетня. Прижавшись к нему и вцепившись пальцами в холодные от ночной росы прутья, она глядела в сторону горы Юрт-Корт.
Денежке показалось, что по белокаменной лестнице горы промчалась вверх тень. Неужели это Руслан так быстро взбежал? Девочка зажмурилась в страхе и долго не открывала глаза. Ей казалось, что стоит открыть глаза — и она увидит белое пламя взрыва. Такой белый, разрастающийся гриб. Молчаливый, как в кино. А потом до ушей дойдет грохот взрыва, и гора Юрт-Корт начнет медленно падать, роняя белокаменные ступеньки. Но взрыва не было. Значит, Руслан успел отобрать у Хурьска светленький красивый ящичек. И, наверное, дал Хурьску раза два по шее. Так Хурьску и надо. Но почему же Руслан не возвращается? Его обратный путь был бы отмечен лаем собак. А собаки молчат. Пожалуй, лучше сейчас не попадаться Руслану под руку. Может быть, Харон шел своей дорогой и ничего взрывать не собирался? Может быть, в ящичке совсем не динамит? Мог же Харон выпросить себе пустой ящичек у складчика и носить в нем бутылки. Лучше забраться опять на крышу и спрятаться за трубой… И Денежка начала, прижимаясь к влажному от росы плетню, пятиться опасливо к калитке. Однако длинные и нескладные ноги Денежки не успели выслушать голову, как это не раз случалось и прежде: они понесли девочку не во двор, а прочь от двора. Девочка бежала, не обращая внимания на лай собак, к Майрбеку и всхлипывала на ходу: — Как же я не подумала… Как же я не подумала… Ведь у Хурьска всегда в кармане нож. А если у него и взрывчатка, то он просто взорвет Руслана! Надо поднимать людей на помощь Руслану… Денежка отчетливо представила себе ужасную картину. Руслан догоняет Харона и спрашивает: «Ты куда и зачем? И что у тебя в ящичке?» А для любого цабатоевца такой допрос — оскорбление. Все равно, что пощечина, на которую мужчина может ответить ударом кинжала. А сумасшедший Хурьск может пустить в ход и динамит: поджечь его и швырнуть под ноги Руслану! Блеск пламени, гром взрыва. Руслан падает на дымящиеся камни и видит звездное небо, и плавно кружатся в хороводе верхушки бронзовых чинар, а среди них плывет бледное, печальное лицо Зары… Ловко вскарабкавшись, как кошка, на знакомый выступ цоколя, Денежка постучала в окно к Майрбеку. Постучала громко, лихорадочно, ничего не боясь. В доме зашевелились. На стук отозвался отец Майрбека. — Потише, потише, если весь Ца-Батой еще не охвачен сипим огнем, — проворчал он неторопливым и совсем не сонным голосом, будто всю ночь сидел и ждал стука. — Денежка я. Ахчи, Ахчи… — Ахчи? Знаменитая Ахчи? Какую же ты нам новость принесла на хвосте? Как раз тебя нам и не хватало среди ночи! — Скоро рассвет, — приврала Денежка. — Солнышко скоро проснется. Разбудите Майрбека! Встревоженно скрипнула кровать, было слышно, как засуетился отец Майрбека: — Как же я проспал? Обещал бригадиру быть на рассвете у фермы. Гм!.. И отчего такое темное утро… Вставайте, эй! Хватит дрыхнуть! Печка холодная, чурек не испечен… Уо, Ахчи, а зачем тебе понадобился Майрбек? — У нас пионерский сбор. Срочно собираем всех по кольцу. Это такая военная игра… Майрбек, скорее! В комнате чиркнула спичка. Отец Майрбека взвизгнул в гневе: — Только два часа ночи! Устраивать сбор детей в такое время? Я усы оборву вашему директору! Так ему и передай, а сама убирайся от окна сейчас же! А куда этот чертенок улизнул? Вернись, Майрбек! Но Майрбек и Ахчи уже мчались по кривым улочкам к дому Казбека. Его Майрбек вызвал условным свистом. Пока все втроем, задыхаясь, бежали к горе Юрт-Корт, оба мальчика наперебой ругали Денежку. Это же надо додуматься — ящик с взрывчаткой могут кинуть в человека, как гранату! А Руслан будет стоять и терпеливо ждать, пока Харон наладит детонатор, зажжет шнур? Ха-ха! И вот с такой девчонкой приходится водиться. Из-за нее придется получить трепку от родителей. Наврала насчет сбора. У-у, Денежка… …Выслушав сбивчивые вопросы трех друзей, сторож Махты зевнул и сказал: — Каков ваш Руслан, таковы и вы: разве ученики могут быть умнее учителя? Вот туда побежал ваш Руслан, а зачем, даже его голова не знает… — У Харона взрывчатка! — крикнула ему Денежка, скатываясь по лестнице вслед за мальчиками. — Стойте, стойте! Какая взрывчатка? — кричал вдогонку обеспокоенный Махты. — Я взрослых разбужу, подниму Ширвани! С Хароном шутки плохи… Но друзья не слышали его. Они мчались по горам, оставив позади Ца-Батой.
Тень мелькнула перед Русланом среди серых скал неожиданно, словно выросла из-под земли. — Ты что задумал? — крикнул Руслан. Будто серебристая форель в рычащей волне Гурса, сверкнул в свете луны клинок Харона.
 Сделав ложный бросок в сторону, Руслан кинулся на Харона и обхватил его. Стараясь вырваться, Харон пятился назад, не соображая, что они уже у самого обрыва.
— За твоей спиной… пропасть! — предупредил Руслан, задыхаясь от борьбы.
В этот миг Харон сумел высвободить руку и ударить Руслана ножом в шею.
Из последних сил Руслан толкнул Харона обеими руками в грудь и сам опрокинулся назад, на камни, захлебываясь кровью и уже не слыша, как закричал в смертельном страхе Харон, рухнувший с обрыва.
Сделав ложный бросок в сторону, Руслан кинулся на Харона и обхватил его. Стараясь вырваться, Харон пятился назад, не соображая, что они уже у самого обрыва.
— За твоей спиной… пропасть! — предупредил Руслан, задыхаясь от борьбы.
В этот миг Харон сумел высвободить руку и ударить Руслана ножом в шею.
Из последних сил Руслан толкнул Харона обеими руками в грудь и сам опрокинулся назад, на камни, захлебываясь кровью и уже не слыша, как закричал в смертельном страхе Харон, рухнувший с обрыва.
— Стойте! — сказала Денежка мальчикам. — Слышали крик? Все трое прислушались. — Наверное, тебе померещилось от страха, — отозвался во тьме Майрбек дрожащим голосом. — Скорее вперед! …Руслан был недвижен. Он лежал на спине, раскинув руки, будто прилег отдохнуть после долгого бега. Денежка, Майрбек и Казбек замерли в растерянности и страхе, боялись шевельнуться. Денежка кинулась к Руслану. — Он дышит! Видите? Он дышит! Давайте свои рубашки. Рвите на полоски. Я перевяжу его. Я умею!
…Врач, вызванный в интернат, куда взрослые перенесли Руслана, похвалил Денежку за умелую перевязку. Больше того, он сказал, что если бы ребята не нашли Руслана вовремя, он к утру истек бы кровью и умер. Зара при этих словах побледнела, но ничего не произнесла, а только укутала плечи озябшей Денежки своим теплым шарфом. Ширвани вытащил носовой платок и сказал: — Зара. Девушка взяла платок и вытерла слезы, бежавшие по темно-коричневым конопушкам Денежки. Ширвани достал из-за книжного шкафа альпинистский ледоруб, потом с сомнением посмотрел на свои ичиги. Зара тотчас вышла и принесла директору его тяжелые альпинистские ботинки. Ширвани переобулся. — Мы с тобой, Ширвани… — просительно прошептали хором Майрбек и Казбек. — С этим бандитом я и одни справлюсь, — торжественно ответил Ширвани, засовывая в карман фонарик и взвешивая на руке свой тяжелый ледоруб. Однако Харона не нашли ни ночью, ни утром, когда для поиска вышли на «тропу Руслана» целым отрядом. Ширвани, облазивший головокружительный склон над Гурсом, объяснил: — Руслан победил Харона, скинул его в пропасть. Но Харона выручили кусты, он повис на них. Вот клочья его одежды. А ушел он, судя по следам, недалеко от Ца-Батоя!
А Харон и не ушел от аула. Наоборот, он вернулся в Ца-Батой: спустился по обрывистому склону к реке и прокрался по ее пустынному берегу в аул. Полумертвый от страха, с ободранными руками и лицом, он добрался до пустующих табачных сушилок и залег в заброшенной сторожке. Расчет Харона был прост. Ночью и днем его будут искать и в горах, и на выходе из ущелья. Могут заглянуть к нему домой. А уж следующей ночью поиски прекратятся. Значит, надо отлежаться до ночи. Потом прокрасться к дяде Джаби, прийти там за несколько дней в себя, попросить у дяди денег и исчезнуть из Ца-Батоя. Харон провел в сторожке мучительный день. Страшнее всего оказалась жажда. Гурс бежал рядом, так близко, что его брызги, наверное, долетали до стен сторожки. Но выйти к реке нельзя. Временами Харон впадал в беспамятство, стонал, но не особенно старался сдерживаться: рокот Гурса заглушал стоны. Нож Харон не выпускал из рук. …Когда над Ца-Батоем спустилась ночь, Харон вышел из укрытия и долго, жадно пил из Гурса. Потом обмыл: лицо студеной водой и заковылял по глубокому логу вверх, к дому Джаби. На пути, спиной к логу, высился дом Сяльмирзы. В окошке туалета светился огонь. Наверное, Сяльмирза сидит на блестящем унитазе, он любит подолгу сидеть среди нарядных кафельных плиток. «А что, если я укроюсь не у дяди, а у Сяльмирзы?» — подумал вдруг Харон. Конечно, дядя никогда не выдаст, В случае чего он горой станет за сородича. Старший в тейпе! Его боятся в ауле. Из-за этого никто не посмеет донести на Харона, даже если обнаружит его местопребывание. «А с другой стороны, если рассудить. — уныло размышлял Харон, отдыхая на откосе лога и поглядывая на огонек в доме Сяльмирзы, — лучше бы не попадаться дяде на глаза. Конечно, он приютит и сделает все, как надо, но поначалу двинет в сердцах кулаком так, что свернет скулу». Харон потрогал распухшее, ободранное лицо, охнул. И решительно пополз вверх, к дому Сяльмирзы. Этот ведь тоже верный человек, хоть и не родич. Разве Харон не угождал ему? По его же наущению пошел вчерашней ночью устраивать взрыв! Харон дотянулся палкой до светящегося окошка, осторожно постучал и укрылся за кустом. Высунулась голова Сяльмирзы. — Это я, Харон… Собаки у тебя привязаны? Сяльмирза помедлил и соврал: — Отвязаны. Разорвут! Потом он свесился с подоконника и зашептал зло, встревоженно: — Кто тебя к моему плетню звал, а, бандит? Ну-ка, убирайся сейчас же, пока я собак не отвязал! Створка захлопнулась. Свет потух. Харон поспешил прочь, боясь волкодавов Сяльмирзы. «У, какой подлец!» — думал он с ненавистью. Подлость Сяльмирзы потрясла его. Ведь сам ввел Харона в дома именитых вожаков религиозной секты, обещал засватать ему невесту, которая не чета нищей Заре: у родителей две автомашины, два дома… Всячески обхаживал! И вот теперь прогнал от плетня, как собаку. …У дяди же все прошло как по писаному. Когда Харон минут через десять — пятнадцать пришел в себя после мощного удара железным дядиным кулаком, он услышал его бодрые слова: — Ну вот, теперь спи, набирайся сил! Проснулся Харон утром счастливый и довольный. Хрустела чистая простыня. На спинке кровати висело дядино трикотажное белье, приготовленное для него, Харона, а на спинке стула — дядин костюм. Тоже для него, Харона. «Молодец Досрочный Старик! — растроганно думал Харон, одеваясь и изредка трогая сдвинутую набок скулу. — Лучше удар от ближнего, чем милость от дальнего, подлого, такого, как этот паршивый Сяльмирза. Все-таки великая это сила — тейп… Теперь расколоть дядю насчет денег, и можно не спеша подаваться к Грозному, а оттуда — куда глаза глядят. Со специальностью шофера и счетовода нигде не пропадешь. И уезжаю я, как ни говори, отомщенным:. Руслан получил свое. А до Артагана и Сяльмирзы очередь тоже когда-нибудь дойдет…» — Побольше масла ему в кодар положи, пусть повкуснее поест! — крикнул Джаби жене, и эта забота опять тронула Харона так, что слезы выступили на глазах. Харон макал горячий чурек в горячее масло с брынзой, жадно заглатывал большие куски и запивал душистым калмыцким чаем. Дядя, присев с другой стороны стола, смотрел на Харона каким-то странным, долгим взглядом, а потом скомандовал жене: — В мешочек положи ему еще пару белья про запас, носки и еду. — Что же, до ночи не успею, что ли? — заикнулась было жена, но Джаби оборвал ее. Жена подошла к мужу и с отчаянной смелостью в глазах сказала: — Побойся бога! Ведь Харон — плоть и кровь твоего тейпа. Его и расстрелять могут, если Руслан умрет. Что тогда люди скажут? Скажут, что ты сам убил своего племянника… Харон подавился куском чурека. Сквозь выступившие слезы он со страхом и мольбой смотрел на дядю. — Прекрати этот тязет! — крикнул Джаби на жену, не оборачиваясь к ней, и стукнул кулаком по столу. От этого удара противоположный конец столешницы оторвался, железная миска с кодаром взлетела в воздух. Горячее масло залило Харону ободранное лицо. Он взвыл и начал судорожно отирать ладонями лоб, щеки. — Одежду, одежду оботри, а не свою гнусную морду! — закричал Джаби. Продолжая ворчать, что «костом» — так горцы называют пиджак — выдан ему, Харону, не для того, чтобы он заливал его маслом, Джаби приказал немедленно собираться. — Пойдешь в сельсовет, к Абдурахману, сам, — деловито наставлял он племянника. — А юрт-да вызовет из района машину с красной шейкой, и покатишь себе по новой дороге прямо в грозненскую тюрьму. Только не вздумай по пути в сельсовет свернуть в переулок и податься в горы, понял? Отвечай: понял или нет? Харон посмотрел на поднятый кулак дяди и с ненавистью процедил: — Понял. Опасливо выглядывая из кухни, жена шептала мужу дрожащим голосом: — Сам своего племянника за решетку шлет, о аллах! Вечного позора на свою голову не боишься… — Э-э, лишь бы большего позора в жизни не испытать, чем этот, — ответил Джаби. — Никто не скажет, что я плохой дядя своему племяннику. Ну иди, Харон. Харон пошел по улицам Ца-Батоя, залитым лучами весеннего радостного солнца. Люди молча выглядывали из-за плетней. Вчерашние дружки трусливо ныряли в переулки. Ребятишки стаей бежали впереди Харона и кричали: — Харон в тюрьму отправляется! Досрочный Старик сам его в тюрьму направил! Дочь рыжего Эми Сацита, с обкорнанной рыжей головой, верховодила в этой стае. То и дело оборачиваясь к Харону, она приплясывала на каменистой дороге и бесстрашно выкрикивала: — Харон-Хурьск! Сумасшедший Харон! Проходивший мимо Артаган окликнул ее и сказал укоризненно: — Непристойно ты себя ведешь, девочка… Эми не позволил бы тебе этого… Проходя около дома Сяльмирзы, Харон увидел, что хозяин сидит на бетонированной завалинке и перебирает четки. «У, святоша! — подумал Харон. — Твердил, что братья по вере никогда не оставляют в беде друг друга». Сяльмирза сделал вид, что не замечает Харона, но красные губы старика чуть шевельнулись, и Харон услышал угрожающие слова: — Харон, не стоит тебе в милиции болтать лишнее. У нашей секты рука длинная, везде до тебя достанет…
…А Джаби тем временем, как и каждое утро, выводил людей своего тейпа в поле. Прохожие смотрели на него так, словно видели его впервые. Артаган через улицу поприветствовал Досрочного Старика: — Доброе утро, Джаби! Тот поспешил к Артагану, как к старшему по возрасту. Но Артаган опередил и своим легким, быстрым шагом пересек улицу первым, на виду у всех подал руку. — И ты уже начинаешь седеть, Джаби, — сказал Артаган. — Скоро нас догонишь… — Всему свое время, Артаган. Был Досрочный Старик, а стану просто стариком, — с горькой усмешкой отозвался Джаби. — Уменьшился мой тейп сегодня на одного человека… Извини, мне пора в поле. Артаган сказал напутствие, которое принято в горах говорить тому, кто приступает к делу: — Да будет счастлива твоя работа, Джаби.



Последние комментарии
9 часов 46 минут назад
13 часов 21 минут назад
14 часов 4 минут назад
14 часов 5 минут назад
16 часов 18 минут назад
17 часов 3 минут назад