В. Э. Молодяков Россия и Япония. Золотой век, 1905–1916
ebooks@prospekt.org
Изображения на обложке: Николай Японский, Япония, ок. 1900 г. (garystockbridge617.getarchive.net), Гото Симпэй, 1920-е гг. (wikimedia.org), а также с ресурса Shutterstock.com В оформлении макета использованы иллюстрации из собрания автора и с ресурса wikipedia.org
Автор: Молодяков В. Э., кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио), автор более 40 книг.
© Молодяков В. Э., 2025 © ООО «Проспект», 2025
* * *
Пролог
Что мы знаем о русско-японских отношениях в минувшем XX веке? Что мы помним из их истории? Вероломное нападение японцев на русскую эскадру и геройскую гибель крейсера «Варяг» в 1904 году, о которой сложены песни. Трагедию русской армии в осажденном Порт-Артуре и разгром русского флота в Цусимском проливе, что описали в своих знаменитых романах Александр Степанов и Алексей Новиков-Прибой. Интервенцию на Дальнем Востоке против советской власти в 1918–1922 годах и революционера Сергея Лазо, сожженного японцами в паровозной топке. Бесконечные провокации на далекой границе с Маньчжурией, которую зловещие «самураи» так и норовили перейти под покровом ночи. Союз Страны восходящего солнца с гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Наконец, претензии на четыре южных острова Курильской гряды, которые в Японии демонстративно называют Северными территориями. Сплошной кошмар, да и только… Беспримерный бой «Варяга» и «Корейца» под Чемульпо. Плакат времен русско-японской войны
Беспримерный бой «Варяга» и «Корейца» под Чемульпо. Плакат времен русско-японской войны
Все это было, хотя и популярные романы, и учебники истории многое преувеличивали. Но было не только это. Не умаляя заслуг предков, павших в боях, — в том числе против Японии, — необходимо вспомнить и о том, что в XX веке наша страна не только воевала.
 Игра в шашки. Плакат времен русско-японской войны
Игра в шашки. Плакат времен русско-японской войны
И царская, и советская, и постсоветская Россия умела и умеет дружить, выстраивать партнерские и союзнические отношения с ближними и дальними соседями — но не любой ценой, а отстаивая независимость и суверенитет. Как показывает исторический опыт, такие отношения идут на пользу не только нам, но и нашим партнерам — дружить и сотрудничать выгоднее, чем враждовать и тем более воевать. А когда Россия оказывалась вовлеченной в конфликт с кем-то из соседей, это шло на пользу лишь «третьему смеющемуся», не желавшему нашего усиления и процветания. «Тень Цусимы» до сих пор падает на русско-японские отношения. К сожалению, и в России, и в Японии остается немало людей, заинтересованных в ее сохранении. Больше всего они боятся правды о мирных, партнерских, дружеских отношениях между нашими странами, опыт которых доказывает, что Россия и Япония — не враги. «Российско-японские отношения плохие, и это нормально», — много десятилетий повторял известный в Японии кремлинолог Кимура Хироси[1], старый солдат холодной войны. «Российско-японские отношения плохие, и не это ненормально», — повторяет уже не одно десятилетие автор этой книги. Без четкого осознания этого мы не поймем событий прошлого века и не сделаем правильных выводов в веке нынешнем. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает только об одном десятилетии отношений между нашими странами: от окончания русско-японской войны летом 1905 года до русской революции 1917 года. Его по справедливости называют золотым веком дружбы и сотрудничества, уровня которого наши страны не достигали ни до, ни после. Разумеется, сказанное не означает, что между Петербургом и Токио не существовало никаких проблем. Проблемы были, порой очень серьезные, но было и стремление к их полюбовному решению, была политическая воля, было понимание общности интересов по важнейшим международным вопросам. Был искренний интерес к истории и культуре друг друга, стремление понять соседа и попытаться заговорить с ним на его языке. Поэтому на страницах книги вы встретите не только дипломатов и генералов, но писателей и ученых, священников и поэтов. У них есть чему поучиться.
Глава первая. НИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НИ ПОБЕЖДЕННЫХ
 Николай II
Николай II
Русско-японскую войну 1904–1905 годов называли «последней рыцарской войной» — последней войной, которая велась по правилам и не привела к массовому озверению людей, как Первая мировая, не говоря уже о Второй. Воевали не народы — воевали армии. После одного из сражений японский военачальник через нейтральные страны послал русскому императору Николаю II телеграмму с просьбой… наградить противостоявшую ему воинскую часть Георгиевским оружием — настоящий самурай ценит и чтит достойного врага. Отношение к пленным в обеих странах было гуманным и даже уважительным, поскольку взаимная враждебность ограничивалась полем боя да газетными страницами. Умные люди и в Петербурге, и в Токио понимали, что война рано или поздно закончится, а жить по соседству все равно придется. Исход конфликта решили многие факторы. Разгром русского флота в Цусимском проливе 27–28 мая 1905 года[2] был полным и безусловным. На суше положение русской армии, несмотря на ряд тяжелых поражений и неумелое командование, было не столь безнадежным, но по стране уже заполыхал «красный петух» революционных пожаров, в том числе не без помощи японских денег (вспомним рассказ Александра Куприна «Штабс-капитан Рыбников» и развивающий его сюжет роман Бориса Акунина «Алмазная колесница»). Николай II и его окружение пришли к выводу, что надо спасать монархию даже ценой признания своего поражения. Они не знали, что силы Японии истощены до предела, а ее финансы на грани банкротства.
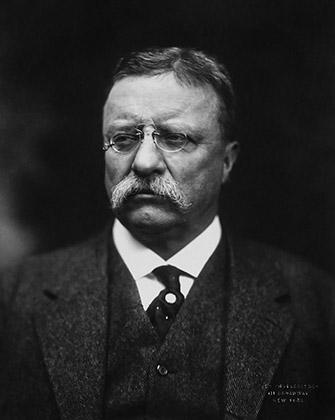 Теодор Рузвельт
Теодор Рузвельт
Президент США Теодор Рузвельт с самого начала войны был на стороне японцев, хотя формально придерживался нейтралитета. Несмотря на репутацию воинственного и агрессивного политика, он решил выступить в роли миротворца и предложил русскому и японскому императорам свои услуги «честного посредника». Но прежде чем выступить официально, президент начал зондировать почву — готовы ли воюющие стороны сесть за стол переговоров, могут ли они договориться и не сорвут ли его честолюбивый замысел.
 Комура Дзютаро
Комура Дзютаро
Чтобы уговорить упрямых русских, которые никак не хотели признавать себя побежденными, он убеждал российского посла в Вашингтоне Романа Розена, что японцы скоро захватят всю Сибирь. Пять лет спустя Розен писал: «По впечатлению, вынесенному мною из весьма частых сношений с ним, господин Рузвельт, несмотря на все его старания высказываться всегда в самом дружественном нам смысле, несомненно, не питал к России и русскому народу искренней симпатии». С японцами, не уступавшими русским в несговорчивости, поступили проще: американские банкиры дали понять, что больше не будут давать им займы на ведение войны и потребуют возвращения долгов. Аргумент подействовал безотказно. Тридцать первого мая 1905 года японский министр иностранных дел Комура Дзютаро, выполняя принятое накануне решение своего правительства, обратился к Рузвельту с просьбой о посредничестве в примирении воюющих сторон и о приглашении их на мирные переговоры. После Цусимы японцы имели все основания рассчитывать на мир в свою пользу. Дал свое согласие и русский царь, напуганный перспективой дальнейших военных поражений, которые могли только усугубить революционную смуту. Восьмого июня Рузвельт послал в Петербург и Токио официальные приглашения начать переговоры на американской территории, которые были сразу же приняты.
 Император Мэйдзи. Официальный портрет
Император Мэйдзи. Официальный портрет
Император Мэйдзи[3] (Муцухито) делегировал на переговоры Комура — искушенного и умного дипломата, успешно представлявшего свою страну во многих столицах, в том числе в Петербурге. С назначением главы русской делегации возникла заминка, поскольку труд ему предстоял тяжелый и неблагодарный. Николай II в детали особо не вникал, но четко сформулировал главное условие: «Ни пяди земли, ни рубля уплаты военных издержек. На этом я буду стоять до конца», — хотя японцы рассчитывали и на территориальные приобретения, и на денежную контрибуцию. Министр иностранных дел граф Владимир Ламздорф, занимавший этот пост с 1900 года[4], ехать за океан не собирался: на протяжении долгой дипломатической службы он умудрился ни разу не выезжать за границу с официальными миссиями, предпочитая как можно реже покидать здание министерства у Певческого моста в Петербурге. Он предложил царю кандидатуру посла в Париже Александра Нелидова, но пожилой и мудрый вельможа немедленно отказался, сославшись на «расстроенное здоровье». Точно так же поступил посол в Риме Николай Муравьев: нежелание рисковать оказалось сильнее честолюбия, которым он славился. Вместо себя Нелидов назвал кандидатуру председателя Комитета министров, бывшего министра финансов Сергея Юльевича Витте. «Только не Витте», — написал император на записке Нелидова. Это был не просто каприз самодержца. Витте служил еще его отцу Александру III и на протяжении почти десяти лет, с 1894 по 1903 год, был одним из ближайших помощников и советников Николая II, которого не стеснялся ненавязчиво поучать и направлять. Этого царь не любил. За Витте числились несомненные успехи вроде введения золотого рубля и сооружения Транссибирской и Китайско-Восточной железных дорог (КВЖД), однако именно его авантюристическая политика в Маньчжурии стала одной из главных причин войны с Японией. Властный и амбициозный министр нажил себе много врагов, поэтому в марте 1903 года царь отправил его в почетную отставку, назначив председателем Комитета министров. Должность не имела ничего общего с нашим представлением о главе правительства — это был почетный пост для пожилых сановников, отрешенных от реальной власти, но не лишившихся монаршего расположения. Для 54-летнего Витте это была именно опала — он был полон сил и тяжело переживал удаление от реальной работы.
 Сергей Витте
Сергей Витте
Вот каким он запомнился в те годы современникам: «Отличительной чертой его внешности были высокий рост и широкие плечи. Он был на голову выше человека обыкновенного роста даже в России, где часто встречаются люди высокого роста. Все телосложение его вызывало представление о работе, сделанной грубыми ударами топора. Его манеры были резки, по-видимому, намеренно: может быть, он практиковал это, чтобы защитить себя от смущения, которое испытывал при дворе и в высшем обществе столицы, с обстановкой которого он никогда не мог освоиться. Что всегда производило неприятное впечатление, так это его голос, который звучал очень резко, и в особенности произношение, усвоенное им в юности, когда он жил в Одессе». Витте еще с начала 1905 года выступал за мир с Японией, в необходимости которого его укрепила предательская сдача крепости Порт-Артур 2 января 1905 года начальником Квантунского укрепленного района генералом Анатолием Стесселем. Владимир Ульянов-Ленин — в то время не слишком известный лидер одной из групп социал-демократов — писал: «Самодержавие ослаблено. В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». Витте понимал это, а потому забил тревогу. Первого февраля 1905 года он писал военному министру генералу Алексею Куропаткину: «Не будет ли наше положение через несколько месяцев еще безвыходнее, не придется ли принять мир еще худший?» Вопрос остался без ответа. А возможно, и не предполагал его — и так все было ясно. Тринадцатого марта полуопальный председатель Комитета министров обратился лично к царю, нарисовав ему удручающую картину, к которой приведет продолжение войны: финансовый крах, лишение заграничных кредитов (те же проблемы, что и у японцев!), увеличение бедности, озлобление и «помрачение духа» народа. Зная, что Николай не любил депрессивных докладов, Витте постарался найти положительную сторону: «Россия покуда еще имеет такой престиж, что можно надеяться, что мирные условия не будут ужасающими», а прекращение войны позволит использовать армию в самой России для наведения порядка. Император никак не отреагировал на послание, но вынужден был считаться с докладом о том, что французские банкиры — вернейшие союзники и кредиторы — отказались дать России новый заем. Посол в Париже Нелидов был в курсе дел, поэтому не захотел ехать на мирные переговоры, не будучи уверен в успехе. Кандидатуру Витте лоббировал его приятель Ламздорф. Искушенный «техник» дипломатической игры, не отличавшийся ни самостоятельностью мышления, ни силой характера, министр иностранных дел давно стал послушным орудием проведения политики своего амбициозного друга. Сергей Юльевич не испугался трудной задачи, поскольку считался крупным специалистом по экономическим вопросам и хорошо знал железнодорожное дело, а этот пункт должен был стать одним из важнейших на переговорах. Но главное заключалось в том, что не министерство иностранных дел, а именно он на протяжении десяти предвоенных лет руководил политикой России на Дальнем Востоке. Столкнувшись с отказом Нелидова и Муравьева и отсутствием других претендентов, Николай II уступил и 12 июля 1905 года назначил Витте первым уполномоченным на переговорах. Вторым уполномоченным стал посол в США барон Розен. Главной задачей было добиться от японцев «благопристойного мира». Витте знали как сторонника жесткого курса в отношении Японии, но его связи с банковскими кругами Европы и Америки заставляли многих подозревать, что ради интересов «финансового интернационала» и для удовлетворения собственного честолюбия он может пойти на неоправданные уступки. Споры об этом продолжаются и сегодня. Одни утверждают, что Витте сознательно «продал Россию» и пошел на излишний компромисс, хотя русская армия еще не была разгромлена. Другие резонно напоминают о стремительно разраставшемся революционном пожаре и полагают, что русские делегаты сделали все возможное в данной ситуации, отстояв как можно больше выгодных для нашей страны позиций. Обратимся к фактам — так надежнее. В начале июля русский и японский императоры утвердили инструкции своим полномочным представителям. В портфеле Комура лежали три группы требований: обязательные, важные и желательные. По первой Россия должна была признать право Японии на свободу действий в Корее, вывести войска из Маньчжурии, использовать КВЖД исключительно для торгово-промышленных, т. е. не военных, целей и передать Японии свои права на южную ветку КВЖД от Харбина до Порт-Артура и на аренду у Китая Ляодунского полуострова. Вторая группа предполагала компенсацию Россией военных расходов Страны восходящего солнца, уступку ей острова Сахалин, предоставление прав на рыболовство в водах Приморья и передачу Японии русских военных кораблей, интернированных в нейтральных портах. Третья шла еще дальше, замахнувшись на ограничение морских сил России на Дальнем Востоке и полное разоружение Владивостока. Наиболее воинственные круги требовали наложить на Россию контрибуцию в 3 млрд долларов (фантастическая сумма по тем временам!) и присоединить к Японии Приморье, но правительство во главе с генералом Кацура Таро не подписалось под этой авантюрной программой. Инструкции, полученные Витте, категорически отвергали требования об уступке русской территории, контрибуции, отказе от прав на КВЖД, разоружении Владивостока или запрещении иметь военный флот на Тихом океане. Взамен Японии предлагались самые широкие экономические льготы, в том числе на Сахалине. Южную ветку КВЖД и Ляодунский полуостров предполагалось передать Китаю, у которого они были взяты в аренду в 1897–1898 годах, чтобы пекинское правительство само разбиралось с токийским. Россия соглашалась признать преимущественные права Японии в Корее в обмен на формальное гарантирование независимости этой полуколониальной страны. Позицию Токио укрепляли союз с Англией и поддержка США. Нашей стране оставалось надеяться на французские займы — под мир деньги давали, под войну нет — и попытаться склонить на свою сторону американское общественное мнение. Витте тщательно подобрал себе помощников из числа знающих Дальний Восток дипломатов и финансистов. Перед отъездом он обстоятельно побеседовал с важнейшими министрами, договорившись поддерживать с ними постоянную связь по телеграфу. «Внутри у нас полное разложение. Можно сказать, что мы находимся в первом фазисе революции», — признавал Сергей Юльевич, но перед иностранцами не подавал виду, что озабочен внутренним положением России. Точно так же вел себя и Комура, знавший о плачевном состоянии финансов своей страны. А ведь в XX веке войны выигрывались не только силой оружия, но и силой денег. Местом проведения переговоров был назначен небольшой старинный город Портсмут в штате Нью-Гемпшир, в 60 милях к северу от Бостона. Витте поехал в Америку через Европу — потянул время, а заодно посетил Францию и Германию в надежде укрепить союз с первой и партнерские отношения со второй, которые, впрочем, сам же подпортил в бытность министром финансов. Двадцать седьмого июля он отплыл в Америку из французского порта Шербур. Свою тактику Сергей Юльевич определил подробно, четко и даже цинично. Послушаем его — это неплохой совет дипломатам и государственным деятелям: «1) ничем не показывать, что мы желаем мира; вести себя так, чтобы внести впечатление, что если государь согласился на переговоры, то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена; 2) держать себя так, как подобает представителю России, то есть представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность; 3) имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо предупредительно и доступно ко всем ее представителям; 4) чтобы привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично; 5) ввиду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке, и американской прессы вообще не относиться к ним враждебно».
 Российская и японская делегации за столом переговоров. Портсмут, 1905
Российская и японская делегации за столом переговоров. Портсмут, 1905
Эту программу Витте выполнил. В первый же день он назвал президента Рузвельта «гениальным вождем», американскую прессу — «великой», затем побеседовал с финансовыми воротилами Уолл-стрит, посетил нью-йоркскую биржу и бедный эмигрантский квартал, демонстративно пообщавшись с его обитателями. Император Николай, как известно, подозревал, что Сергей Юльевич мечтает стать «президентом Российской республики». Рузвельт, однако, остался недоволен беседой с русским уполномоченным, который мягко, но решительно отказался следовать его «дружеским советам». В первый день переговоров президент и уполномоченные позировали фотографам. Громадная фигура «русского медведя» возвышалась не только над щуплым Комура, но даже над крепким и плечистым Рузвельтом.
 Перед началом переговоров в Портсмуте (слева направо): Сергей Витте, Роман Розен, Теодор Рузвельт, Комура Дзютаро и Такахира Когоро. Фото из журнала «Current Literature». Сентябрь 1905. Собрание В. Э. Молодякова
Перед началом переговоров в Портсмуте (слева направо): Сергей Витте, Роман Розен, Теодор Рузвельт, Комура Дзютаро и Такахира Когоро. Фото из журнала «Current Literature». Сентябрь 1905. Собрание В. Э. Молодякова
Стороны держались холодно, но с безукоризненной корректностью. Начальный этап переговоров был посвящен обсуждению японских условий, которые оказались тяжелее, чем предполагали в Петербурге. Японцы не скрывали, что чувствуют себя победителями и намерены диктовать свою волю побежденным. Отклонив восемь из двенадцати представленных требований, но только одно — безоговорочно (выдача русских кораблей, задержанных в нейтральных портах), Витте произнес знаменитую фразу: «Здесь нет победителей, а потому нет и побежденных». Демонстрировавший полную уверенность в своих силах, Комура не думал соглашаться, но именно этим словам суждено было определить общий настрой переговоров. Что имел в виду Сергей Юльевич? Здесь мы подходим к самому важному для нас моменту переговоров. Как пишет биограф Витте А. В. Игнатьев, глава русской делегации «предложил противопоставить японскому методу достижения мира путем максимального ослабления России иной подход — союзное сближение двух держав (Японии и России) с целью совместной защиты нового положения на Дальнем Востоке (выделено мной. — В. М.). Его идея оказалась для коллег по меньшей мере неожиданной… Витте упорно отстаивал свой замысел союза или иного соглашения общего характера, ссылаясь на некоторое совпадение будущих интересов двух держав на Дальнем Востоке. „Если мы скажем японцам, что обязуемся защищать права, которые за ними признаем, — говорил он, — то этим можем облегчить принятие наших условий“». Мир еще не был заключен, а Витте уже думал о том, как выстраивать отношения с Японией в новых условиях, изменившихся не в пользу нашей страны. Даже умный Комура продолжал мыслить категориями военного времени, хотя не испытывал к России какой-то особой враждебности. Но в Стране восходящего солнца уже раздавались голоса более дальновидных людей, одним из которых был Гото Симпэй, в недалеком будущем — ключевая фигура русско-японских отношений и один из главных героев этой книги. Когда газеты соревновались друг с другом в требованиях к «поверженной» России, он заявил: «Мы должны настаивать на максимальных размерах контрибуции и территориальных уступок, но мы не должны поддаваться вульгарному мнению толпы: успех или поражение этих требований не должны тревожить нас. Если они будут удовлетворены и мы получим просимое, очень хорошо. Не получим — тоже хорошо. Нам следует пропустить это без особого внимания, если нам удастся разрешить более широкие проблемы, ценность которых в десятки и сотни раз более велика». Передав Комура официальный русский ответ на японские условия мира, Витте занервничал и велел узнать расписание пассажирских судов, отплывающих из Америки в Европу. Он опасался, что японцы отвергнут его ответ и переговоры придется прервать. Но перед ним был достойный противник. Японский министр иностранных дел объявил, что его делегация внимательно изучила русские контрпредложения и готова перейти к их детальному, постатейному обсуждению. Значит, компромисс возможен! В будущем отношения между нашими странами много раз будут заходить в тупик — из-за важных вопросов или из-за мелочей. Когда за них брались такие люди, как Витте и Комура, компромисс находился, хотя той или иной стороне приходилось уступать. Когда никто не уступал, наступала, как говорят шахматисты, патовая ситуация, не приносящая победы ни одной из сторон. Дипломатия есть искусство возможного, искусство компромисса. Главное — не путать твердость, необходимую при отстаивании государственных интересов, с упрямством, способным погубить любой диалог.
 Иван Коростовец
Иван Коростовец
Не вдаваясь в технические подробности, отмечу главное: диалог удался, хотя оказался очень трудным. Как вспоминал секретарь русской делегации Иван Коростовец, «японцы упорно твердили одно и то же. Был момент, когда спор принял довольно резкий характер и стало казаться, что японцы хотят сорвать переговоры… Барон Комура сухо заявил, что Япония не нуждается в поддержке России и что для него достаточно, если господин Витте поддержит его здесь, на конференции». Забегая вперед, скажу, что переговоры в Портсмуте стали хорошим уроком и для японского министра. Именно Комура, через несколько лет снова занявший пост главы внешнеполитического ведомства, станет одним из главных сторонников партнерских отношений с Россией. Уверенный тон и барские, но неизменно корректные манеры Витте произвели впечатление и на японцев, и на сочувствовавших им американцев. Однако за этим фасадом скрывалась неуверенность в успехе переговоров, которые он не мог вести на свой страх и риск, а указания царя порой не отличались реалистичностью и конкретностью. Возможно, Сергей Юльевич осознал, что поражение России в войне в значительной степени является расплатой за его прежние авантюры в Маньчжурии. Во всяком случае, 14 августа он телеграфировал в Петербург министру финансов Владимиру Коковцову — еще одному из героев нашего повествования — о необходимости готовиться к тяжелой длительной войне и искать деньги за границей для ее продолжения, если японцы не примут предлагаемый максимум уступок. Эти уступки по соображениям великодержавного престижа исключали любое прямое возмещение военных убытков Японии, хотя сделать это косвенным путем Витте считал возможным. Он предлагал Комура такие варианты, как выплаты на содержание военнопленных, но успеха не имел. Япония очень нуждалась в деньгах, поэтому ее делегация проявляла чудеса упрямства. Главным рабочим языком переговоров был французский — в ту пору основной язык дипломатии. В качестве второго языка использовался английский, как знак внимания в адрес хозяев. Американские дипломаты и тем более политики не блистали знанием иностранных языков, а в глубине души недоумевали, почему «остальной мир» не говорит по-английски. Витте и Комура соревновались в красноречии, но нередко срывались на колкости. Например, при обсуждении болезненного вопроса об интернированных русских кораблях Витте заявил, что ожидал от японской стороны большего миролюбия и искренности, а Комура порекомендовал ему руководствоваться не только чувством национального достоинства. Японский министр вел переговоры дипломатично, но настойчиво. Пока были свежи воспоминания о победах Страны восходящего солнца, он стремился получить от России максимум уступок, которых требовало разгоряченное войной и националистической пропагандой общественное мнение, но в то же время не затягивать заключение мира. Наиболее острыми из спорных вопросов оказались железнодорожный и территориальный. Витте был особенно чувствителен к первому, поскольку его карьера до назначения министром финансов Российской империи в августе 1892 года была связана именно со стальными магистралями, а в качестве министра финансов он подчинил себе все железнодорожное строительство, и как выгодное предприятие, и как средство проведения внешней экспансии. Его любимым детищем стала не только Транссибирская магистраль, доведенная в ту пору до Читы, но и Китайско-Восточная железная дорога — кратчайший путь от Читы до Владивостока, проложенный по безлюдным маньчжурским землям, которые формально принадлежали Китаю. Умные люди — и русские, и китайцы — советовали ограничиться этим, но неугомонный Сергей Юльевич, возжелавший стать хозяином всего Дальнего Востока, не послушался даже советов Ли Хунчжана, прозванного китайским Бисмарком. Захват Россией китайских портов Даляньвань и Порт-Артур в конце 1897 года был инициативой тогдашнего министра иностранных дел графа Михаила Муравьева, но Витте постарался извлечь из этого максимум выгод для своего министерства, потихоньку создававшего в Маньчжурии собственное «государство в государстве». Именно Витте добился того, что порту Даляньвань, получившему русское название Дальний, был предоставлен максимум торговых привилегий за счет Владивостока. Именно Витте добился огромных казенных ассигнований на строительство Южной железнодорожной ветки от Харбина — главного города КВЖД — до Дальнего и Порт-Артура, которая теперь почти целиком оказалась в руках у японцев. «Маньчжурское предприятие графа Витте, — писал в своих мемуарах министр иностранных дел Российской империи в 1906–1910 годах Александр Извольский, — бесполезное и даже опасное само по себе, являлось особенно роковым для внешних русских дел и может быть рассматриваемо как первопричина русско-японской войны». Император Николай I гордо говорил: «Где русский флаг раз был поднят, он более спускаться не может». Это стало общеимпериалистической аксиомой. До Харбина японцы не дошли, но были не так уж далеко. Точно так же под их контролем оказалась половина острова Сахалин. Отобрать занятое у Японии можно было только военной силой, но именно этого России в тот момент не хватало. Отдавать железную дорогу Витте не хотел — получалось, что его детище оказалось «подарком» японцам. Но, считаясь с реальностью, вынужден был согласиться на передачу той части дороги, которая уже была занята японскими войсками, то есть до станции Куаньченцзы (Чаньчунь). Еще 6 июня 1905 года на совещании у Николая II в Царском Селе военный министр генерал Владимир Сахаров философски заметил: «Решение этого вопроса будет зависеть, главным образом, от того, какая часть линии окажется во власти маршала Ояма», главнокомандующего японскими войсками. Через несколько дней министр финансов Коковцов, не склонный к авантюрам, но умевший мыслить стратегически, писал министру иностранных дел Ламздорфу: «К жизненным интересам России на Дальнем Востоке необходимо в настоящее время причислить сохранение в нашем полном распоряжении или в крайнем случае под нашим исключительным влиянием рельсовой линии, соединяющей Владивосток с Сибирской железною дорогою. Если бы по условиям мирного соглашения эти сообщения, и в особенности указанный рельсовый путь, были изъяты из нашего распоряжения, то, на мой взгляд, такое соглашение не могло бы служить залогом прочного мира, а, напротив, заставило бы каждую из сторон по-прежнему относиться к намерениям другой с недоверием и опасением и истощать свои экономические силы на приготовления к новому вооруженному столкновению. То же самое имело бы место и в том случае, если бы мирный договор предоставил японскому правительству право держать в течение продолжительного времени свои военные силы после заключения мира в районе Китайско-Восточной железной дороги, ибо присутствие здесь японских войск не могло бы не служить постоянным поводом к возникновению между нами и Японией нежелательных недоразумений». Осторожные, обтекаемые, многословные формулировки бюрократов легко переводятся на язык практической политики: дорога от Читы до Владивостока должна остаться нашей, поскольку она является не только кратчайшим, но и единственным путем между двумя стратегически важными городами Российской империи. А на то, что мы уже потеряли, можно закрыть глаза. Витте пришлось это сделать, но лично он пожертвовал только своим самолюбием. Миллионы государственных денег пришлось списать в безвозвратные потери. Успехом можно было считать лишь взаимное обязательство сторон «эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих и промышленных, но никак не в целях стратегических». Южная ветка КВЖД перешла к японцам и стала основой полугосударственной акционерной компании Южно-Маньчжурской железной дороги. История с Сахалином не менее интересна и драматична. До русско-японской войны он был не только самой далекой, но, если так можно выразиться, самой гнилой окраиной Российской империи. Его знали прежде всего как каторгу для наиболее опасных преступников. Да и то знали немногие, пока побывавший там Антон Павлович Чехов не выпустил в 1893 году нашумевшую книгу «Остров Сахалин». Ни стратегического, ни экономического значения острова никто толком не понимал. Зачем же он понадобился японцам? Для ответа на этот вопрос отступим на 10 с небольшим лет назад.
 Альфред Тайер Мэхэн
Альфред Тайер Мэхэн
В конце 1880-х и начале 1890-х годов в Японии получили большое распространение теории американского адмирала Альфреда Мэхэна о «влиянии морской силы на историю». Опираясь на опыт мировых колониальных империй — Испании, Португалии, Нидерландов, затем Франции и Британии, — Мэхэн сделал вывод, что путь к мировому господству лежит через контроль над важнейшими морскими путями, а его проще всего добиться, разбросав по всем океанам свои колониальные владения, пусть даже небольшие по площади. Удобные гавани, неприступные крепости с запасами угля, продовольствия и пресной воды для проходящих военных кораблей — вот залог успешной войны на море, которую флот Его или Ее Величества мог вести за многие тысячи миль от метрополии. Японцы, жадно учившиеся у европейцев и американцев всему новому, с готовностью восприняли идеи Мэхэна. Разгромив в 1895 году Китай, они именно по этой причине отобрали у него остров Тайвань, который был знаменит в основном тропическими лихорадками. Местное, некитайское, население не хотело менять одних пришлых хозяев на других и попыталось организовать сопротивление. Японские войска подавили его, потеряв убитыми, по официальным данным, 164 человека. Еще 4642 человека — то есть почти в 30 раз больше! — умерли от болезней, а более пяти тысяч встретили окончание кампании на госпитальной койке. Среди безвозвратных потерь был даже член императорской фамилии — генерал-лейтенант принц Китасиракава Есихиса, умерший от малярии. Поэтому вслед за военными первыми на остров поехали врачи. Сахалин был нужен японцам по соображениям престижа — они победили Россию, а значит, должны увеличить территорию своей империи — а также для упрочения господства на море. Правящим кругам Российской империи далекий остров показался ненужным. В начале апреля 1905 года группа американских предпринимателей предложила купить Сахалин за 85–90 млн руб., поскольку его захват японцами считался делом близкого будущего. Однако царский наместник Дальнего Востока генерал-адъютант Евгений Алексеев категорически выступил против. Его аргументы весьма любопытны и заслуживают подробного цитирования. Документы эпохи настолько красноречивы, что много теряют в пересказе.
 Адмирал Евгений Алексеев. Портрет работы А. Ф. Першакова
Адмирал Евгений Алексеев. Портрет работы А. Ф. Першакова
Итак, вот что писал о Сахалине министру иностранных дел Ламздорфу императорский «вице-король», как его не без иронии называли в Петербурге: «С точки зрения экономической в случае перехода острова в американские руки не подлежит сомнению, что колоссальные естественные богатства его получат сильный толчок к развитию и что доходы с них, будучи капитализированы, значительно превысят вышеупомянутую сумму в 85–90 млн руб. Так что, независимо от других соображений, самая цена, предлагаемая американцами, представляется ничтожной. Сверх того, Сахалин в руках американцев обратится в могучую факторию (здесь: экономическая и торговая зона. — В. М.), через посредство которой они не преминут поработить в экономическом отношении весь северо-восточный край, и никакими таможенными мерами мы не в силах будем остановить такого порабощения. С точки зрения политической мы до сих пор имели на Дальнем Востоке в качестве ближайших соседей государства азиатские. В случае же перехода Сахалина в собственность американцев мы сразу приобретаем в лице правительства Соединенных Штатов, которое не преминет взять под свое покровительство упомянутых капиталистов, могучего соседа и возможного врага, который будет иметь законное право вмешательства и политического воздействия на все дела Дальнего Востока. Наконец, в отношении стратегическом едва ли удобно предоставлять сильной военно-морской державе базу, которая даст ей господство на восточных берегах Азии, окончательно закрыв для всей Сибири и Приамурского края выход в океан. В этом отношении нам легче, по ходу событий настоящей войны, примириться с тяжелою необходимостью перехода острова в руки Японии, от которой мы в будущем могли бы надеяться отвоевать его, чем соглашаться на уступку острова третьей державе, с которой нам воевать невозможно. По всем этим соображениям я вынужден признать продажу острова американским капиталистам совершенно невыгодною и нежелательною и полагал бы предпочтительным, ввиду неизбежности, переход его во владение Японии, в особенности если бы нам удалось при переговорах с нею придать такому владению временный характер и обставить его известными условиями». Возможно, именно это письмо начало готовить Николая к мысли об утрате острова или его части. В том же духе, уже во время переговоров в Портсмуте, высказался военный министр Российской империи генерал Александр Редигер, не только умный человек, но и безупречный патриот, несмотря на нерусскую фамилию. «От меня спешно требовалось заключение о военном значении Сахалина, — вспоминал он. — Мы обсудили этот вопрос и составили ответ в том смысле, что, при слабости нашего флота, собственное военное значение Сахалина ничтожно».
 Генерал Александр Редигер
Генерал Александр Редигер
Поначалу император Николай категорически отвергал мысль о передаче японцам хотя бы пяди русской земли. Витте во всеуслышание заявил: «Народное чувство в России не может допустить утраты территории, которая долго находилась в ее законном и мирном владении (т. е. не была завоевана. — В. М.). Подобное событие создало бы в стране всеобщее негодование, мало способствующее делу умиротворения на Дальнем Востоке, к которому мы стремимся». Тогда Комура предложил разделить Сахалин, с тем чтобы Россия выплатила Японии компенсацию за остающуюся у нее северную часть, согласившись не требовать выдачи интернированных русских кораблей и запрещения иметь на Тихом океане военный флот. Иными словами, японцы хотели получить и территорию, и деньги. Опытный финансист и политик, Витте увидел в этом завуалированный вариант контрибуции и поспешил «слить» газетчикам информацию о жадности противной стороны: «В случае разрыва все увидят, что Япония продолжает войну только ради денег, а совсем не из-за возвышенных мотивов, которые она выставляла сначала». По его мнению, для России лучше было бы отдать весь Сахалин, но ничего не платить. Президент Рузвельт через своего посла в Петербурге Мейера уговаривал Николая II примириться с потерей всего Сахалина, а в Портсмуте убеждал в этом Розена. Ради успеха переговоров Витте был готов пойти на удовлетворение японских требований, но советовал не оговаривать сумму возможной компенсации. Однако Россия оставалась самодержавной монархией, и последнее слово в любом вопросе было за царем. В итоге он решил отдать японцам южную часть острова, уже оккупированную ими, а северную, до пятидесятой параллели, оставить за собой и ничего не платить. Из Царского Села в Портсмут полетела личная телеграмма государя первому уполномоченному: «Ее Величество и я искренне благодарим вас. Стойте крепко за землю русскую». Отступать было некуда. И тут у Витте как будто сдали нервы. Сообщив Комура монаршую волю, он распорядился заготовить телеграмму в Петербург о неудаче переговоров, приступить к составлению меморандума об их ходе для передачи в прессу, расплатиться за гостиницу, сложить вещи и приготовиться к отъезду. Впрочем, все это было сделано с таким расчетом, чтобы японцы узнали о «чемоданных настроениях» русской делегации. Комура попросил подождать два дня до получения им ответа из Токио, а затем попытался выпросить еще один день. Но царь с несвойственной ему твердостью настоял на скорейшем завершении переговоров. Твердость вкупе с готовностью к компромиссу сделала свое дело. Позже Витте вспоминал, что ночь перед решающим заседанием 29 августа он провел «в какой-то усталости, в кошмаре, в рыдании и молитве». В половине десятого утра началась конфиденциальная беседа глав делегаций, с глазу на глаз. «Часов в одиннадцать, — записывал Коростовец, — Витте вышел из зала совещания; он был красен и улыбался. Остановившись среди комнаты, он взволнованным голосом сказал: „Ну, господа, мир, поздравляю, японцы уступили во всем“. Слова эти прорвали плотину светских условностей. Все заговорили вместе, перебивая друг друга, пожимали руки, обнимались. Витте поцеловал меня и некоторых моих товарищей. Довольны были все. Даже барон Розен, не сочувствовавший последнему компромиссу, утратил свойственное ему беспристрастие и улыбался, говоря: „Молодец, Сергей Юльевич!“». Только таким образом русская делегация узнала, что 28 августа совещание императора Мэйдзи, членов правительства, государственных старейшин гэнро[5] и высшего командования постановило заключить мир без контрибуции. Секретом осталось то, что тремя днями раньше американский банкир Якоб Шифф, один из главных кредиторов Токио, объявил японским уполномоченным: «К моему величайшему прискорбию, финансовые рынки США, Англии и Германии, по всей вероятности, не смогут больше соответствовать требованиям Японии и ее стремлениям бесконечно продолжать войну». Комментарии, как говорится, излишни.
 Торжественное свидание членов мирной конференции статс-секретаря С. Ю. Витте и барона Комура
Торжественное свидание членов мирной конференции статс-секретаря С. Ю. Витте и барона Комура
Общее заседание делегаций закрепило достигнутую договоренность, и эксперты приступили к выработке текста договора. Он был подписан 5 сентября в 15 часов 45 минут. Витте и Комура пожали друг другу руки и обменялись речами. О символическом рукопожатии, положившем конец войне, узнал весь мир. Еще одно не менее символическое рукопожатие русского и японца, которое живо обсуждалось в газетах всего мира, произошло годом раньше, в августе 1904 года. На первом же заседании Амстердамского конгресса Второго интернационала лидеры русской и японской социал-демократии Георгий Плеханов и Катаяма Сэн демонстративно пожали друг другу руки, показав, что воюют меж собой только их императоры, но никак не народы. «Заключение Портсмутского договора, — пишет А. В. Игнатьев, — может по справедливости считаться вершиной дипломатического искусства Витте. В очень неблагоприятной обстановке он сумел добиться столь необходимого и в то же время единственно приемлемого для царизма „почти благопристойного“ мира. Думается, что секрет успеха Витте, помимо выдающихся личных качеств, заключался в ясном и широком понимании задач, позволявшем через все перипетии дипломатической борьбы вести целеустремленную линию на примирение. Гибкость сочеталась у него сумением в нужный момент проявить решимость и заставить противника поверить в нее». Многие обвиняли и до сих пор обвиняют Витте в «капитулянстве» перед японцами, хотя он отстоял почти все принципиально важные позиции, в том числе о неуплате контрибуции. Стоит прислушаться к авторитетному мнению Александра Извольского, которому вскоре предстояло возглавить внешнюю политику России: «Во время переговоров в Портсмуте Витте обнаружил не только исключительный талант как руководитель переговоров, но также твердость характера и самозабвение, которые не отличали его в другие периоды деятельности. Он принял на себя все последствия договора, последовавшего в результате несчастной войны. Он обнаружил также моральную стойкость игнорировать указания из Петербурга, которые были часто противоречивыми и иногда носили печать неискренности. Он принял на себя всю ответственность за компромисс, более благоприятный, чем Россия могла бы ожидать, но который по самой природе своей мог вызвать по его адресу упреки». Справедливость требует воздать должное и барону Комура, который честно и решительно отстаивал интересы своей страны. Он добился несомненных успехов, постаравшись получить побольше и при этом не злить «русского медведя», но соотечественники решили, что он привез слишком мало трофеев. Находившийся в то время в японской столице французский журналист Лодовик Нодо писал: «Ни одного флага. Ни одного „ура“. Молчание и смятение. Токио как будто в трауре. Столица узнавала постепенно одно за другим условия мира. Когда она узнала все, она погрузилась в мрачное оцепенение. Она не может примириться с тем, что здесь называют плачевной реальностью». Ведущие газеты назвали договор «постыдным и унизительным». Вернувшийся домой Комура был встречен оскорбительными заявлениями и демонстрациями, которые в Токио и Иокогама переросли в настоящий бунт: несколько человек было убито, больше тысячи ранено. Выступления были жестко и оперативно подавлены властями, объявившими в столице чрезвычайное положение. Когда страсти улеглись, Комура получил титул маркиза. В Петербурге волнений по поводу договора не было, но не было и особой радости, хотя на бирже начался рост русских ценных бумаг. Николай II пожаловал Витте графский титул, однако острословы окрестили его графом Полусахалинским. Четырнадцатого октября договор был одновременно ратифицирован обоими императорами. Семнадцатого октября император Мэйдзи обратился к армии и флоту со словами благодарности, а 23 октября принимал военно-морской парад в Иокогаме. Россия переживала разгар революции. Витте ждало назначение на должность председателя Совета министров — на сей раз настоящего премьера. Но японскими делами он больше не занимался.
Глава вторая. «ВСТУПЛЕНИЕ С ЯПОНИЕЙ В ТЕСНЕЙШЕЕ СОГЛАСИЕ»
Портсмутский мир выгодно отличался от большинства «мирных» договоров XX века тем, что не содержал в себе неизбежных предпосылок новой войны. Напротив, как писал министр иностранных дел Александр Извольский, «он открывал путь к установлению нормальных отношений с Японией и, больше того, к действительному сближению и даже к союзу между обеими странами». Договор закрепил те уступки, на которые сознательно пошел российский император, а не условия, навязанные японцами в одностороннем порядке. Как непохоже на Версальский договор 1919 года победителей-союзников с поверженной Германией, представителям которой осталось только подписать унизительный документ, выработанный без их участия. И стоит ли удивляться тому, что в тексте Версальского «мира» можно найти весь сценарий будущей политики Гитлера. Портсмутский договор готовился в спешке, с целью скорейшего урегулирования отношений между державами, а потому не решил всех проблем, связанных с войной и ее последствиями. Дипломатам и экспертам осталось много рутинной работы, не слишком увлекательной, но жизненно необходимой. Например, 30 октября 1905 года был подписан протокол об эвакуации русских и японских войск из Маньчжурии — за исключением «охранной стражи» железных дорог и арендованной территории Квантун, права на которую перешли к Японии. Вопрос об арендных правах причинил официальным лицам немало головной боли. Часть Ляодунского полуострова с гаванями Дальний и Порт-Артур, а также участок земли, по которому была проложена Китайско-Восточная железная дорога (так называемая полоса отчуждения), формально оставались территорией Китая, у которого Россия по соглашениям 1897–1898 годов взяла эти земли в аренду на 99 лет. Фактически же Министерство финансов Российской империи и подчинявшееся ей акционерное общество КВЖД распоряжались там как у себя дома. Дорогу и собственность надо было охранять, но держать там регулярную армию Россия не имела права, за исключением военно-морской базы в Дальнем. Поэтому Витте придумал «охранную стражу» — охранное предприятие, за службу в котором платили больше, чем в обычных войсках, и к тому же из государственного бюджета. Но ни регулярная армия, ни «охранная стража» не смогли противостоять японцам. Предвидя неизбежное поражение, правящие круги России попытались еще до окончания войны «вернуть» арендные права на Ляодунский полуостров и Южную ветку КВЖД китайскому правительству — дескать, пусть Пекин сам выкручивается. Но такой вариант никого не устраивал, в том числе китайцев, понимавших, что сила японской армии может обрушиться на них. Поэтому Портсмутский договор закрепил передачу Россией Японии указанных арендных прав и арендованных владений — с согласия Китая, которому в его тогдашнем положении оставалось только соглашаться. Двадцать второго декабря 1905 года в Пекине Комура заключил с китайским правительством договор, который определил режим перехода к Японии российских прав в Маньчжурии. Равноправным назвать это соглашение трудно: Китай не только уступил все права, но и обязался не строить железнодорожных линий, могущих составить конкуренцию Южной ветке КВЖД. Эту магистраль японцы решили превратить в главное средство своего проникновения в Маньчжурию. Неизбежным, но неприятным делом стало проведение новой границы на Сахалине по пятидесятому градусу северной широты. Русские отдавали принадлежавшую им территорию, японцы ее забирали, но постарались сделать это в максимально корректной форме. Об этом рассказал в своих воспоминаниях дипломат Павел Юрьевич Васкевич. Представлю читателю этого интересного и несправедливо забытого человека, записки которого помогут нам ощутить аромат безвозвратно ушедшего времени. Павел Васкевич
Павел Васкевич
Почему забытого? И почему несправедливо? Царский дипломат Васкевич остался верен той России, которой служил всю жизнь, и закономерно оказался в эмиграции, а потому в советское время попал в число «запрещенных» людей. Для эпохи возвращения забытых имен он, видимо, оказался слишком незнаменитой фигурой — всего-то генеральный консул. Первым о нем написал историк П. Э. Подалко, за рассказом которого мы и последуем. Павел Васкевич, родившийся в конце 1876 года на Волыни в семье сельского священника, готовился продолжать образование в родных краях. Однако, узнав о создании в 1899 году во Владивостоке Восточного института[6] для изучения Японии, Китая и Кореи, круто поменял свою жизнь. Предприимчивый юноша отправился за тридевять земель, сумев найти спонсоров на непростое путешествие. Подробно рассказывать об институтских годах Васкевича я не буду, хотя его легко ставить в пример — студентом он был исправным. Уже тогда его отличали умение ладить с людьми, находить неожиданные выходы из неблагоприятно складывающихся обстоятельств, практичность, терпение и упорство в достижении цели. Летом 1900 года, по окончании первого курса, Васкевича послали на стажировку в Китай, но разгоревшееся там восстание ихэтуаней[7] против «белых варваров» помешало выполнить задуманное. На следующее лето студентов-японистов отправили в Токио, где к ним с вниманием и заботой отнеслись посланник Александр Извольский (будущий министр иностранных дел) и глава православной церкви в Японии епископ Николай, жизни и трудам которого посвящена следующая глава этой книги. «Поселились мы поблизости Токийского университета, — не без удовольствия вспоминал Васкевич на склоне лет, — в одной из гостиниц, до отказа переполненной студентами. Оделись в кимоно, очень удобное и подходящее для летней жары Токио, питались исключительно японской пищей. Посещали по вечерам театры, которые являлись одним из лучших средств для ознакомления с прошлым Японии, которое так тесно у них связано с настоящим, несмотря на некоторое увлечение Европой и ее достижениями. Встретили нас японские студенты очень приветливо, и никто из них не отказывался помочь нам в наших затруднениях. Они явились прекрасным дополнением к урокам, которые давал нам опытный преподаватель одной из гимназий». Будучи студентом, я стажировался в Японии через 90 лет после Васкевича и должен сказать, что токийская жара по-прежнему невыносима, кухня — великолепна, театры — интересны, а японцы готовы помочь иностранцу, взявшему на себя труд овладеть их языком. Только вот кимоно они уже почти не носят, а зря… С мая по август 1902 года Васкевич путешествовал по северо-западу Японии, получив от Восточного института задание изучить тамошнюю промышленность и торговлю. Японские чиновники, известные своей въедливостью и подозрительностью, оказались на удивление внимательными к гостю, не только исполняя все его пожелания, но и предлагая дополнительную программу. «В городе Канадзава, — рассказывал Павел Юрьевич, — при посещении мной губернского управления, после получения всех нужных мне статистических данных, мне было предложено осмотреть отдел Красного Креста. Мне были показаны его склады, переполненные походными кроватями для подноски раненых, и полное оборудование полевых госпиталей, включая обмундирование его служащих и сестер милосердия. Показывавший мне это все счел нужным заметить, что „мы готовы к войне“. С кем — не требовалось пояснений, так как к этому времени выявлялась явная агрессия России в отношении Маньчжурии и Кореи. Я могу смело и открыто сказать, что самурай шел с открытым забралом против России, не нося кинжала за пазухой». Васкевич понял, что японцы приняли его за шпиона, маскирующегося под студента, и решили произвести максимально сильное впечатление на русское командование. Он подробно описал увиденное в отчете, который был удостоен золотой медали и опубликован, но внимания начальства так и не привлек. Вскоре по окончании Восточного института наш герой оказался в роли военного переводчика — началась русско-японская война. Квалифицированных толмачей было мало и с той, и с другой стороны, поэтому судьба свела молодого человека с главнокомандующим на Дальнем Востоке генералом Алексеем Куропаткиным, а затем с его преемником генералом Николаем Линевичем. При непосредственном участии Васкевича генералы Владимир Орановский и Фукусима Ясумаса заключили перемирие на Сыпингайских высотах, к северу от Мукдена. Переговоры проходили быстро и по-деловому: обе стороны понимали, что уже не могут продолжать войну.
 Генерал Николай Линевич. Портрет работы М. Фейхтера
Генерал Николай Линевич. Портрет работы М. Фейхтера
Этот рассказ — не просто лирическое отступление. История лучше всего познается через живых людей — через тех, кто ее творит, причем необязательно в больших чинах. После заключения мира Васкевич получил назначение в Сеул, откуда его направили на Сахалин участвовать в проведении новой границы. «Работы по разграничению прошли гладко, — вспоминал он, — при самых дружественных отношениях между членами разграничительной комиссии. Стоявший во главе комиссии с японской стороны полковник Осима Кэнъити, впоследствии занимавший пост военного министра, всячески старался подчеркнуть, что все прошлое должно быть забыто, что в будущем отношения между японцами и русскими должны зиждиться на тесной дружбе». Документы сохранили для нас примечательную подробность: в начале работы Осима деликатно попросил у русского военного агента (в нынешней терминологии — военный атташе) полковника Владимира Самойлова, своего давнего знакомого, помочь в работе комиссии, потому что у японцев не было надежных и точных карт острова. Самойлов охотно помог, ибо старался поддерживать дружбу с японскими офицерами, от которых узнавал много ценной информации. Это были не шпионаж или предательство, а нормальные отношения мирного времени между странами, которые перестали считать друг друга врагами. «По окончании работ по разграничению острова Сахалин, — продолжает Васкевич свой рассказ, — председатель комиссии и я были приглашены полковником Осима в Токио в качестве гостей. Нам был устроен исключительно радушный прием. Нас знакомили с высшими государственными деятелями Японии, и от них мы только и слышали, что прошлое во взаимоотношениях России и Японии должно быть забыто и что между ними должны царить единение и дружба».
 Российский пограничный столб на новой границе на Сахалине. 1907
Российский пограничный столб на новой границе на Сахалине. 1907
Можно считать эти речи дипломатической любезностью, но снова воевать с нашей страной дальневосточная соседка действительно не собиралась. Еще в декабре 1904 года бельгийский посланник в Токио Альбер д’Анетан, умудренный многолетним опытом работы в Стране восходящего солнца, писал: «После войны Япония сосредоточит все усилия на восстановлении подорванных сил, оживлении промышленности, обустройстве Кореи и эксплуатации ее ресурсов. Ни одна держава не будет более заинтересована в мире. И я знаю, что император, правительство и все японские государственные деятели прекрасно понимают, что для длительного сохранения мира нельзя ни угрожать имеющимся владениям и существующим интересам других держав, ни покушаться на них».
 Генерал-лейтенант Павел Унтербергер. Портрет работы А. О. Карелина
Генерал-лейтенант Павел Унтербергер. Портрет работы А. О. Карелина
Наблюдательный и здравомыслящий посланник оказался прав. Разговоры о войне велись лишь в корыстных интересах отдельных групп. Японское военное министерство мотивировало «русской угрозой» необходимость увеличения своего бюджета. Приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер пугал Николая II, правительство и общественность записками о «японской угрозе» — отчасти для лучшего финансирования своей вотчины, отчасти для придания себе большего политического веса — пока его в решительных выражениях не отчитали премьер Петр Столыпин и министр иностранных дел Извольский. Увы, человеческая психология устроена так, что легче завоевать популярность криками об опасности и призывами к бдительности, нежели кропотливой работой по созданию и укреплению добрососедских и союзнических отношений. Демаркация новой границы на Сахалине была важным, но все же частным моментом послевоенного урегулирования. Тем не менее император Мэйдзи счел необходимым лично принять русских гостей и заговорил с ними напрямую, без обращения к своему переводчику, что было знаком особого уважения. «Конечно, такое внимание, — пояснял Павел Юрьевич, — не могло быть принято нами на наш личный счет, а как внимание особое в отношении русских, с которыми должны царить мир и единение, что было отмечено также императором». В ту пору монархи редко принимали иностранных подданных, если это не были члены других царствующих домов или министры, прибывшие с официальными визитами. Даже с иностранными послами они общались редко — при вручении верительных грамот, на многолюдных торжественных приемах или при исключительной необходимости. Здесь особой необходимости не было, но император, возможно, хотел загладить чувство горечи, которое не могло не возникнуть у русских из-за потери своей территории. Знаменательная деталь: подводя итоги 45-летнего царствования императора Мэйдзи (1867–1912), японцы отнесли демаркацию новой границы на Сахалине к числу его важнейших событий. Она изображена на одной из 80 картин в Мемориальной галерее Мэйдзи в Токио, запечатлевших основные моменты жизни и правления императора — от его рождения до смерти. А в парке рядом с галереей стоит один из подлинных пограничных столбов. Вернемся к исполнению условий Портсмутского договора. Двадцать пятого ноября 1905 года в Вашингтоне состоялся обмен ратификационными грамотами, поскольку дипломатические миссии в Петербурге и Токио еще не были восстановлены. В начале 1906 года посланником в Россию был назначен талантливый дипломат Мотоно Итиро, успешно представлявший Японию в Париже и усвоивший все тонкости рафинированной европейской культуры. В пышной атмосфере Северной Пальмиры аристократ Мотоно чувствовал себя как рыба в воде и быстро стал популярной фигурой в высшем свете. В Петербурге Мотоно не был новичком, потому что еще в 1897 году служил здесь поверенным в делах. Однажды он навестил Романа Розена, будущего посланника в Токио, чтобы неформально поговорить с ним о необходимости по-хорошему решить накопившиеся в двусторонних отношениях проблемы. Собеседники пришли к полному согласию, но, увы, не они делали политику своих стран. Девятнадцать лет спустя, на третьем году мировой войны и незадолго до революции, Розен напомнил Мотоно давнюю беседу. «Да, — ответил тот, — если бы тогда наши усилия увенчались успехом, мы вполне могли бы предотвратить войну между нашими странами. Хотя в конце концов, может быть, и лучше, что мы воевали. Мы как следует узнали друг друга!» Сказано это было без малейшей враждебности или, упаси господи, легкомыслия.
 Мотоно Итиро
Мотоно Итиро
Еще один примечательный случай из жизни японского посла. В августе или сентябре 1909 года Мотоно — впервые за три года пребывания в должности — испросил персональной аудиенции у Николая II для откровенного разговора. Император редко записывал свои беседы на политические темы, но в данном случае сделал исключение. Почему? Изложенная им речь японского посла говорит сама за себя. «Если бы они (японцы. — В. М.) думали напасть на Россию, то почему не сделали этого до сих пор, когда вся морская граница, включая и крепость Владивосток, совершенно беззащитна. Они прекрасно осведомлены, что мы (русские. — В. М.) не начали еще самых основных работ. Его Величество государь имеет полную возможность вовсе не строить укреплений, поскольку Япония и не помышляет о каких-либо агрессивных действиях. Вся цель его (посла. — В. М.) аудиенции заключается в том, чтобы сказать, что они осведомлены о тех тревожных донесениях, которые мы получаем с места, но эти сведения решительно ни на чем не основаны, только напрасно беспокоят нас и вселяют недоверие к ним, тогда как они желают лишь одного — закрепить наши взаимные отношения самым тесным и искренним сближением». Прочитав эту личную запись министру финансов Коковцову — тоже редчайший случай — Николай не скрыл изумления относительно того, насколько в Токио хорошо осведомлены о состоянии обороны России на Дальнем Востоке. «Очевидно, Мотоно говорил с полной искренностью», — задумчиво заметил царь. Первым после войны посланником в японскую столицу поехал Юрий Петрович Бахметев, сведущий и опытный дипломат, но явно не того калибра, что Мотоно. Подобно своим предшественникам Михаилу Хитрово и Александру Извольскому, он раньше служил на Балканах, бывших сферой повышенной политической активности России. В глазах иностранных дипломатов это было не лучшей рекомендацией, поскольку предполагало склонность к интригам и привычку вести себя в стране пребывания как дома. В Японии так поступать не рекомендовалось.
 Георгий Бахметев садится в коляску
Георгий Бахметев садится в коляску
Напутствуя Бахметева, только что назначенный министром иностранных дел Извольский поручил ему приложить все старания к поддержанию с Японией дружественных и добрососедских отношений. Смысл общих фраз раскрывался в конкретных инструкциях. Во-первых, территориальные потери и вынужденное отступление из Маньчжурии напомнили правящим кругам России о необходимости скорейшего освоения пустынных земель Приамурья и Приморья, что требовало много времени, сил и средств. «Нельзя работать плодотворно над развитием края, коему ежеминутно угрожает опасность войны», — пояснил министр. Во-вторых, учитывая общий характер Портсмутского договора, в котором не были отражены многие важные проблемы, и неизбежность уступок японцам, посланнику ставилась задача добиваться решения оставшихся вопросов в пользу России и смягчения отдельных невыгодных для нее положений мирного договора. Граф Витте, хоть и был отставлен от внешней политики, принимал отношения с Японией близко к сердцу. По возвращении из Портсмута он говорил министру иностранных дел Ламздорфу, предшественнику Извольского: «Необходимо в Японию послать не посланника, а посла, показав тем, что Россия придает особую важность сношениям с Японией и трактует ее как великую державу[8], что, несомненно, подействует успокоительно и благоприятно на самолюбие японцев». Выбор Бахметева в качестве посланника Витте не одобрил, но Ламздорф сказал, что государь принял решение по каким-то ему одному известным мотивам и не собирается его менять. От себя министр добавил: «Вероятно, я сделаю так, что Бахметев будет назначен посланником, а когда решится вопрос о назначении посла, то тогда я выставлю кандидата более соответствующего». Глобальные проблемы решались в Петербурге Извольским и Мотоно, поэтому на долю Бахметева остались технические вопросы. Одним из них стала компенсация за содержание военнопленных. Не получив в Портсмуте никаких репараций, Япония надеялась хоть как-то поправить свое финансовое положение. После долгих переговоров 10 ноября 1907 года Россия выплатила ей около 46 млн руб. (49 млн иен) в качестве разницы в расходах по содержанию пленных. Русских в Японии оказалось значительно больше, чем японцев в России (70 400 солдат и 1430 офицеров против 1700 солдат и офицеров), но министр финансов Коковцов считал, что токийское правительство завысило свои реальные расходы примерно в два раза. Двадцать восьмого июля 1907 года между нашими странами были заключены торговый договор и рыболовная конвенция. Переговоры о них тоже оказались нелегкими, но когда торговые договоры заключались легко и просто?! Что касается рыболовного вопроса, то он был и остается отличным «барометром» состояния двусторонних отношений: как только они портятся, в территориальных водах обеих стран начинается усиленный отлов браконьеров, за которым следует обмен нотами протеста. Договоры содержали некоторые частные уступки в пользу Японии, особенно в отношении рыболовства, но талант дипломата должен выходить за пределы двух арифметических действий: отнимать и делить. Важнейшим событием того времени стал общеполитический договор между Россией и Японией, заключенный Извольским и Мотоно 26 июля 1907 года, за два дня до торгового. Уже в 1905 году Витте настаивал: «Для того чтобы установить более или менее прочные отношения с Японией, нельзя ограничиваться Портсмутским договором, нужно пойти далее и установить entente cordiale (сердечное согласие, франц.) с этой державой, род союзного, но, конечно, ограниченного договора». Двадцать восьмого января 1907 года Извольский представил Николаю II записку о беседах с Мотоно и высказал мысль о желательности двустороннего соглашения общего характера, которое могло бы надежно обеспечить мирное развитие отношений между странами. Мотоно выразил готовность обсудить любое конкретное предложение российского правительства. Царь коротко написал на полях документа: «Очень рад». Опубликованный текст договора провозглашал взаимное уважение Россией и Японией территориальной целостности друг друга и всех прав, вытекающих из существующих между ними соглашений, а также признание независимости и территориальной целостности Китая и принцип общего равноправия (равных возможностей) по отношению к нему. Это был существенный шаг вперед по сравнению с Портсмутским миром — стороны показали, что имеют общие интересы в Азии и готовы защищать их совместными усилиями. Вместе с заключенными в том же году франко-японским (10 июня) и англо-русским (31 августа) соглашениями и уже существовавшими англо-японским, англо-французским и франко-русским союзами новый договор завершил оформление блока Англии, Франции, России и Японии. По-французски — главный язык тогдашней дипломатии! — его стали называть entente cordiale, т. е. «сердечное согласие»; отсюда в русском политическом лексиконе появилось слово «Антанта». Неслучайно, выступая в Государственной думе, Извольский подчеркнул, что «сила и значение» нового договора с Японией «усугубляются тем обстоятельством, что он является как бы звеном целой цепи других международных соглашений, преследующих те же мирные цели, и что он вполне гармонирует с общей системой наших международных договоров».
 Александр Извольский
Александр Извольский
Разумеется, ни в одном из соглашений прямо не говорилось, против кого оно направлено. Но не надо было обладать слишком острым умом, чтобы понять — искусно сплетенная и охватившая полмира сеть союзов была направлена против европейских Центральных держав, т. е. коалиции Германии, Австро-Венгрии и Италии. Это полностью соответствовало курсу Извольского на союз с Парижем и Лондоном против Берлина и Вены. Политика Российской империи, доселе не считавшая Германию главным противником, делала существенный поворот. Япония в расчетах русского министра иностранных дел играла сравнительно небольшую роль, но Извольский понимал, что с ней нельзя не считаться. К скорейшему согласию с Японией его подталкивали правящие круги Лондона, стоявшие за созданием глобальной антигерманской коалиции. Британский министр иностранных дел Эдуард Грей хотел, чтобы англо-японские и русско-японские переговоры происходили параллельно и закончились бы примерно в одно время. Дело должна была ускорить финансовая подпитка России французскими и английскими займами, поскольку после разрушительной войны и революции царский режим особенно нуждался в деньгах. Германский император Вильгельм II чувствовал, что его державу постепенно окружают со всех сторон, и попытался склонить к заключению союза американского президента Теодора Рузвельта, но потерпел неудачу. Отверг Рузвельт и предложения Токио о бóльшем сближении двух стран, видя в Японии все более опасного соперника в борьбе за Тихий океан. К договору от 26 июля 1907 года прилагалось секретное соглашение, которое стало достоянием гласности только после большевистской революции. Оно фиксировало раздел сфер влияния двух держав в Маньчжурии по реке Сунгари, японский контроль над Кореей (т. е. признание Россией ноябрьского японско-корейского соглашения 1905 года о протекторате) и «специальные интересы» России во Внешней Монголии (территория нынешней Монгольской Народной Республики). Практика раздела сфер влияния между крупными империалистическими державами была в то время общепринятой, но говорить об этом вслух считалось недопустимым. Поэтому договоры такого рода оставались в тайне между теми, кто их заключал. Иногда их содержание — тоже в глубокой тайне — сообщалось ближайшим союзникам. Рассмотрим подробнее раздел Маньчжурии, которая формально продолжала оставаться китайской территорией. Как мы уже знаем, стратегические интересы России были сосредоточены вдоль Китайско-Восточной железной дороги, которая оставалась кратчайшим путем от Читы до Владивостока, но проходила по чужой территории. Россия имела арендные права на саму дорогу и прилегавшую к ней «полосу отчуждения» сроком на 99 лет. Фактически русской территорией был и город Харбин, столица «империи КВЖД». На эти владения и зону влияния японцы не покушались, поскольку их интересы лежали к югу. Японские государственные и особенно военные деятели считали Порт-Артур и Дальний «кинжалом, нацеленным в сердце Японии», а потому во время войны захватили их в первую очередь. Затем, продвигаясь на север, они заняли большую часть Южной ветки КВЖД, от Порт-Артура до станции Куаньченцзы (Чаньчунь).
 Генерал Федор Палицын
Генерал Федор Палицын
Первым этапом раздела сфер влияния стало решение сугубо частного вопроса — какая станция будет конечной на той линии, что останется у России. В Портсмуте Витте настоял на том, что Япония получила «железную дорогу между Куаньченцзы и Порт-Артуром» длиной 941 км, хотя амбиции японцев простирались до Харбина или пересечения линии с рекой Сунгари, на которой стоял город. Главнокомандующий Линевич потребовал оставления за Россией станции и города Куаньченцзы ввиду их стратегического и экономического значения. Окончательное решение было принято на Особом совещании[9] 4 октября 1905 года на квартире Витте. Кроме хозяина, на нем присутствовали председатель Комитета государственной обороны великий князь Николай Николаевич (дядя императора), министр финансов Коковцов, военный министр генерал-лейтенант Редигер, морской министр вице-адмирал Алексей Бирилев, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Федор Палицын и товарищ (заместитель) министра иностранных дел князь Валериан Оболенский. Витте поддержал предложение Линевича и настоял на его принятии. Тринадцатого июня 1907 года были подписаны временная конвенция о соединении русских и японских железных дорог в Маньчжурии и протокол, по которому станция Куаньченцзы (по ней прошло разделение линий) осталась за нами. России не надо было сооружать новый железнодорожный узел, но пришлось уплатить японцам 560 тыс. руб. компенсации, поскольку права сторон в отношении этой станции были признаны равными. В ходе переговоров с Извольским Мотоно предложил разграничить сферы влияния по реке Сунгари, утверждая, что это удобная естественная граница. В 1905 году в Портсмуте Витте отверг аналогичное предложение, поскольку в японской зоне оказывалось 130 верст русской железной дороги от Харбина до Куаньченцзы. Четырнадцатого июня 1907 года Особое совещание обсуждало окончательный вариант соглашения с Японией. Ратуя за его одобрение, Извольский указывал, что «договор укрепит положение России, тем более что он является лишь звеном в сети соглашений (с Англией и Францией. — В. М.), которое не может не служить серьезным сдерживающим элементом для возможной экспансионистской политики Японии». Министр финансов Коковцов и военный министр Редигер признали линию по Сунгари невыгодной, но поддержали проект соглашения. «За отсутствием такового, — сказал осмотрительный Редигер, — Япония, пользуясь свободой действий, может предпринять, например, в области железнодорожного строительства ряд мер, направленных прямо против безопасности и прочности нашего положения на Дальнем Востоке. Если путем отказа от некоторых своих прав на протяжении 130 верст[10] пути мы застрахуем себя от подобной опасности, то жертву эту следует признать совсем небольшой». Через 12 лет он вспоминал: «Наши отношения с Японией уже не внушали опасений за ближайшее будущее. Я считал, что мы должны добросовестно примириться с создавшимся на Востоке положением и жить в мире с Японией, по крайней мере лет пятьдесят. Надо ли будет со временем бороться с Японией — об этом пусть судят потомки». Советские историки дружно ставили сделанные уступки в вину Извольскому и царской дипломатии в целом, повторяя утверждения самых «упертых» черносотенных публицистов старого времени о «продаже России». Однако уступки не всегда означают поражение, а эффектные победы могут оказаться пирровыми. Положение, сложившееся на Дальнем Востоке по итогам русско-японского договора 1907 года, вполне укладывалось в сценарий, который еще во время японско-китайской войны 1894–1895 годов предлагал начальник Главного (позднее — Генерального) штаба генерал Николай Обручев. Современники прозвали его русским Мольтке — в честь начальника прусского, а затем германского Большого генерального штаба, сравнение с которым делало огромную честь любому генштабисту.
 Генерал Николай Обручев
Генерал Николай Обручев
Признавая не только военную мощь Японии, но и ее потенциальную опасность для нашей страны, генерал Обручев считал необходимым мирно договориться с ней о разделе сфер влияния в Маньчжурии и Корее (где Россия тоже пыталась закрепиться и политически, и экономически) и категорически выступал против союза со слабым и внутренне неустойчивым Китаем. Ценой уступки южной Маньчжурии и портов Ляодунского полуострова Россия могла и должна была приобрести бассейн реки Сунгари. Далее Обручев предлагал «по-тихому» аннексировать северную Маньчжурию, сократить протяженность границы с Китаем почти на 2000 верст и создать в бассейне Сунгари сильную русскую провинцию — экономическую и стратегическую основу нашего могущества на Дальнем Востоке. По мнению генерала, России следовало не пытаться силовым давлением лишить японцев плодов их победы над Китаем, а вступить в соглашение с Токио и добиться территориальных компенсаций, которые существенно укрепили бы ее собственное стратегическое положение. Предложенная им новая граница проходила примерно по линии будущей КВЖД, но министр финансов Витте, занимавший в ту пору антияпонскую и прокитайскую позицию, «утопил» проект Обручева, который на 100 с лишним лет оказался погребенным в архиве. В 1895 году китайцы, только что потерпевшие сильнейшее поражение от японцев, были готовы отказаться от северной Маньчжурии — в обмен на русские займы и дипломатическую поддержку — но не от южной, куда направил свою экспансию неугомонный Сергей Юльевич. За успешное завершение переговоров с Россией в 1907 году Мотоно получил баронский титул. Япония добилась многого, но сумела сделать это, не вызвав антагонизма ни у русского правительства, ни у общественности. Договор положил конец послевоенному состоянию отношений. Теперь можно было дружить, как подобает добрым соседям. Одним из первых за дело взялся Гото Симпэй, первый президент компании Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), созданной по императорскому указу 7 июня 1906 года. Этот патриот Японии и друг России заслуживает подробного рассказа. Люди приходят в Большую Политику разными путями, порой совершенно неожиданными. Шестого апреля 1882 года один из виднейших политических деятелей Японии Итагаки Тайсукэ, бывший министр, а ныне идеолог и трибун оппозиции, был ранен политическим противником после митинга в городе Гифу. Его слова «Итагаки может умереть, но свобода — никогда!» вошли в историю, хотя есть основания сомневаться, что они были произнесены на самом деле. Городские доктора, зная, что местный губернатор принадлежит к противникам Итагаки, забыли про клятву Гиппократа и отказались лечить раненого. На помощь пришел 24-летний Гото, практикующий врач и директор медицинской школы в соседней префектуре. Итагаки выздоровел и вернулся к политической деятельности, а Гото предстояла бурная карьера, включавшая стажировку в Германии и тюремное заключение, дезинсекцию завшивевшей в Китае японской армии и службу на Тайване (первая японская колония) в качестве гражданского губернатора. Решающую роль в его жизни сыграло знакомство с влиятельным генералом Кодама Гэнтаро, прославившимся не только на поле брани, но и на административном поприще. Именно его армию Гото в 1895 году, после войны с Китаем, в кратчайший срок избавил от паразитов. Став три года спустя военным губернатором Тайваня, известного своими тропическими лихорадками, Кодама вспомнил о толковом враче и сделал его своим заместителем. Он не ошибся в выборе: Гото профессионально покончил с эпидемиями, а затем руководил строительством железных дорог и ирригационных систем, развил сахарную и чайную промышленность, открывал школы и больницы. На Тайване его память чтут до сих пор. Восемь лет успешной работы в качестве колониального администратора (1898–1906) сделали имя Гото известным в правящих кругах Токио. Разработка планов освоения южной Маньчжурии, доставшейся Японии от России, была поручена опытному Кодама. Он пригласил в столицу своего заместителя и предложил ему возглавить компанию ЮМЖД, которая, формально будучи акционерной, находилась под полным контролем государства. Как предписывает японский этикет, Гото отказался от назначения, заявив, что недостоин его. Кодама и члены правительства настаивали. Наш герой колебался и принял назначение только после внезапной смерти своего старшего друга и благодетеля 22 июля 1906 года. Но вытребовал себе широкие полномочия, понимая, что на его плечи ложится руководство не только железной дорогой, но и всей колонизацией Маньчжурии, относительно которой у Японии имелись далеко идущие планы.
 Гото Симпэй
Гото Симпэй
Многогранная деятельность Гото заслуживает отдельного рассказа, но нам важна только одна ее сторона — отношения с Россией. До войны Гото, обеспокоенный российской экспансией в Корее и Маньчжурии, был настроен антирусски, считая, что остановить ее можно только силой. Во время мирных переговоров в Портсмуте он занял компромиссную позицию, считая, что долгосрочное партнерство с Россией важнее любых аннексий и контрибуций. Теперь ему предстояло работать с русскими по долгу службы — железные дороги Маньчжурии не могли существовать отдельно друг от друга. В конце октября 1907 года Гото сообщил посланнику Юрию Бахметеву, что хочет поехать в Россию для переговоров о размещении там заказов на производство рельсов для ЮМЖД, а если дело пойдет на лад, то и для всех государственных железных дорог Японии. Он попросил посланника сохранить разговор в секрете даже от собственной канцелярии (Бахметев просьбу уважил и послал Извольскому личное письмо, написанное от руки), чтобы о нем раньше времени не узнали ни русские заводчики, которые могли бы взвинтить цены, ни тем более союзники-англичане, претендовавшие на все выгодные японские заказы. «Энергичный и влиятельный управляющий Маньчжурской железной дорогой, — сообщал посланник в Петербург, — с самого начала нашего знакомства неоднократно говорил мне о своем стремлении развить сношения между Россией и Японией… Он желал бы без потери времени доказать, что наше сближение, так радостно принятое в Японии, есть не только чисто политический уговор, но может послужить основой для установления более практических, специальных связей, обоюдных интересов». Документы дипломатических архивов — бесценные свидетельства эпохи, ставшие доступными нам лишь недавно, — раскрывают и другие интригующие детали. Подлинным инициатором встречи оказался не сам Гото, а токийский представитель российского министерства финансов Григорий Виленкин, протеже Витте. За месяц до беседы президента ЮМЖД с русским посланником он известил своего начальника — министра финансов Коковцова, что работает над увеличением русского экспорта в Японию, для чего хочет привлечь на свою сторону здешних государственных мужей. В качестве первой кандидатуры выбор пал на Гото, который «с момента назначения на пост президента Южно-Маньчжурской дороги всячески старается выказать свое к нам расположение». Коковцов, Извольский и министр путей сообщения Николай Шаффгаузен-Шенберг-эк-Шауфус (бумаги он подписывал просто «Шауфус») решили принять японского гостя «по первому классу», вняв аргументам Бахметева. «Личность барона Гото, его ум и энергия, — отмечал посланник, — делают его одним из самых влиятельных японских политических деятелей. Я убежден, что из посещения бароном Гото Санкт-Петербурга мы можем извлечь весьма существенную пользу».
 Генерал-лейтенант Николай Шаффгаузен-Шенберг-эк-Шауфус
Генерал-лейтенант Николай Шаффгаузен-Шенберг-эк-Шауфус
Гото выехал из Токио 21 апреля 1908 года и 13 мая прибыл в Петербург. Это был первый после войны визит в Россию японского государственного деятеля такого уровня. Принимали гостя прекрасно: с ним беседовали Столыпин, Коковцов, Извольский, Шауфус и, наконец, сам император. Девятнадцатого мая правление КВЖД дало в его честь обед в одном из лучших ресторанов столицы — у Эрнеста на Каменноостровском проспекте — на который собрался весь цвет чиновной и деловой России, начиная с нынешнего премьера Столыпина и бывшего премьера графа Витте. Как положено по протоколу, произносились речи. Процитирую несколько фраз из того, что сказал Гото: «Железные дороги и банки столь же необходимы для развития и укрепления торговли и промышленности, как две пары колес для вагонов… Мы, неопытные в международных железнодорожных сообщениях, должны учиться у России, опытной и талантливой в этом деле. Очень любезный и сердечный ваш прием показывает, что Россия как великая держава желает развития всемирного блага и не жалеет своих трудов, чтобы учить нас. Ваше содействие имеет большое значение не только для блага Дальнего Востока, но для блага всего мира». Разумеется, важные вопросы решались не на банкетах, а на переговорах, проходивших за закрытыми дверями, без стенограмм и протоколов. Главным итогом визита стала договоренность о восстановлении прямого сообщения по ЮМЖД и КВЖД как части транзита между Европой и Азией, причем обе дороги должны были устанавливать тарифы таким образом, чтобы избежать ненужной конкуренции. Состоялся и заказ на рельсы, бывший главным поводом поездки. Вернувшись домой, Гото сердечно благодарил Извольского и Коковцова за содействие. «Почетный и любезный прием, оказанный барону Гото в России, — писал Бахметев, — не только польстил столь чуткому самолюбию японцев, но возбудил и более серьезный отголосок в стране, в особенности в финансовых и торговых кругах, надеющихся, что политическое сближение между нашими государствами также создаст и установит прямой обмен товаров между нами, без существовавшего до сих пор немецкого и китайского посредничества, наживающегося на счет обоих и не приносящего им никакой пользы. Заказ бароном Гото рельсов в России может служить первым доказательством желания его избавиться от западноевропейской и американской промышленной опеки и иметь дело непосредственно с нами». Сама логика событий велак русско-японскому сближению. При очередной смене правительства в Токио в июле 1908 года кабинет возглавил генерал Кацура Таро, занимавший эту должность во время русско-японской войны и переговоров в Портсмуте. Пост министра иностранных дел он снова предложил Комура, пост министра путей сообщения — Гото, оценив результаты его работы, в том числе на русском направлении.
 Кацура Таро
Кацура Таро
Возвращение к власти дуэта Кацура-Комура в Петербурге могли воспринять как шаг назад, к временам войны. Но не восприняли и правильно сделали, потому что древние верно заметили: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Прежние противники России, будучи мудрыми государственными деятелями, оценили выгодность партнерских отношений с ней. Двенадцатого февраля 1910 года министр иностранных дел сказал русскому послу: «Пока маркиз Кацура стоит во главе кабинета, а он, Комура, управляет внешними делами империи, русское правительство может быть уверено, что почва для взаимного сближения будет найдена». И это были не пустые слова. Главным проводником пророссийской политики в Японии считался государственный старейшина князь Ито Хиробуми, с 1885 по 1901 год четырежды возглавлявший кабинет министров. В конце 1901 года Ито был с официальным визитом в Петербурге и встречался с Николаем II, Витте и Ламздорфом, которых уговаривал полюбовно разделить сферы влияния в Маньчжурии. Царь и министры оказали ему пышный прием, но на договор не пошли. В итоге правящие круги Токио выбрали союз с Англией и неизбежное обострение отношений с Россией. Русофильская репутация князя была столь сильна, что во время волнений в Токио после заключения Портсмутского мира в сентябре 1905 года его статую сбросили с пьедестала. Однако, несмотря на почтенный возраст (он родился в 1841 году) и наличие сильных врагов, Ито оставался одним из безусловных лидеров японской политики: с 1906 года он был генеральным резидентом (полномочным представителем) Японии в Корее, а в начале 1909 года вторично возглавил Тайный совет. Именно к нему Гото обратился в 1907 году за содействием в проведении курса на сближение с нашей страной.
 Ито Хиробуми
Ито Хиробуми
Князь с радостью откликнулся, выразив желание лично вести переговоры, но неизбежная дипломатическая рутина отняла много времени. Только 26 октября 1909 года Ито встретился в Харбине с Коковцовым, совершавшим инспекционную поездку по Дальнему Востоку и КВЖД. Российский министр тепло приветствовал гостя, но переговоры так и не успели начаться. При выходе на перрон японский сановник был почти сразу в упор расстрелян корейским террористом и тут же скончался. Сохранилась уникальная фотография, сделанная за несколько минут до трагедии. Ничего не подозревая, маленький (ростом чуть выше полутора метров) старичок, похожий на сказочного гнома с большой седой бородой, приподнимает над головой цилиндр, а перед ним вытянулся в струнку громадного роста русский офицер.
 Владимир Коковцов. Портрет работы Э. О. Визеля
Владимир Коковцов. Портрет работы Э. О. Визеля
Харбинская встреча, какой бы короткой она ни была, породила немало слухов. Всех интересовало, о чем собирались и о чем успели поговорить государственные мужи. Коковцов так запомнил слова Ито, сказанные во время обмена приветствиями: «Я уже старый человек и привык много думать, прежде чем выразить мои мысли. Я надеюсь, что мы будем о многом говорить с вами. Пока скажу вам только еще раз, что я счастлив встретиться с вами, потому что, мне кажется, вы выражаете свои мысли очень открыто, согласно своим убеждениям. У меня тоже нет никакой причины быть с вами неискренним. Вы не услышите от меня ничего, что могло бы быть неприятным вашему государю или шло во вред вашей великой стране, которой я желаю самого счастливого будущего. Уверен, что она никогда более не встретит в Японии врага». Убийство почтенного князя вызвало в России сердечные соболезнования вперемешку с беспокойством: трагедия произошла в полосе отчуждения КВЖД, которая считалась русской территорией, но обострения отношений не произошло. Гото решил продолжить начатое. В середине ноября 1909 года барон посетил русского посла[11] в Токио Николая Малевского-Малевича (он готовил торговый договор 1907 года и с лета 1908 года представлял в Японии Российскую империю) и повел с ним интригующий разговор. Оговорившись, что выступает как сугубо частное лицо — любимый прием японских чиновников при проведении зондажей, — Гото сообщил, что Ито собирался вести с Коковцовым переговоры о координации деятельности русских и японских железных дорог в Маньчжурии. Далее он назвал три конкретных вопроса, требующих скорейшего разрешения: 1) согласование тарифов КВЖД и ЮМЖД; 2) обеспечение ввоза японского шелка в Россию по железным дорогам, а не морем через Одессу; 3) политическое сближение на почве общей политики в Маньчжурии.
 Посол Николай Малевский-Малевич, Кацура Таро, Тэраути Масатакэ, Гото Симпэй
Посол Николай Малевский-Малевич, Кацура Таро, Тэраути Масатакэ, Гото Симпэй
На полях телеграммы посла Николай II 1 декабря написал: «Практично». Мнение Малевского-Малевича было таково: «Сила вещей толкает японцев к дальнейшему с нами сближению, первый шаг к чему был сделан в 1907 году в политическом соглашении. Наши отношения с Японией дошли до той поворотной точки, от которой они должны идти или на прибыль, или на убыль». Так думали и в Токио. Маршал Ямагата Аритомо, самый влиятельный государственный старейшина после смерти Ито, прямо сказал русскому послу: «Правящие сферы Японии и вся сознательная часть общества желают мирного развития экономических сил страны и смотрят на Россию не как на враждебную силу, а как на естественную свою союзницу в Маньчжурии, где у обеих стран так много общих интересов». Премьер Кацура, уклоняясь от публичных заявлений, дал понять, что поддерживает действия Гото. Восемнадцатого декабря царь велел министрам обсудить японские предложения и дать благоприятный ответ. Извольский телеграфировал послу в Токио, что «заявления, сделанные Вам бароном Гото, обратили на себя самое серьезное внимание императорского правительства», которое ожидает официальных предложений. Верные своей тактике делать подобные предложения только при гарантии их одобрения, японцы продолжали обмен мнениями между официальными представителями, но как бы в частном порядке. Николай II выразил желание ускорить дело, начертав на одном из докладов Извольского: «Для меня лично совершенно ясен путь, который России следует теперь избрать: это вступление с Японией в теснейшее соглашение. Во всяком случае нужно это зрело и не откладывая решить». Первым практическим шагом стал данный 21 января 1910 года ответ Петербурга и Токио на предложение американского правительства о так называемой нейтрализации железных дорог Маньчжурии — об их выкупе и передаче международной компании под контролем американского капитала. Ответ был отрицательным и синхронным, что произвело сильное впечатление в мире. Стоявший за этим шагом, Гото 7 мая 1910 года обратился к Коковцову с предложениями о согласовании политики обеих держав в Китае. Медлить было нельзя, поскольку Поднебесная империя все глубже погружалась в политический хаос: с 1906 года в различных провинциях Китая то и дело вспыхивали вооруженные восстания против правящей династии, которая уже не могла контролировать ситуацию. Начав с того, что «за последнее время в нашей стране, несомненно, все более и более берет верх дружественное настроение по отношению к России» и что «одновременно можно наблюдать более благожелательное отношение России к Японии», Гото заявил: «Для Японии представляется наиболее целесообразным действовать в разрешении китайского вопроса рука об руку с Россией». Это заявление делалось уже от имени правительства, которое приглашало партнера к диалогу. Предложения ускорили политическое решение вопроса. Четвертого июля 1910 года Извольский и Мотоно подписали договор, по которому Россия и Япония: брались взаимно поддерживать и уважать статус-кво (существующее положение) в Маньчжурии; в случае угрозы договориться о мерах для сохранения этого положения; оказывать друг другу содействие в улучшении работы железных дорог, воздерживаясь от ненужной конкуренции. В секретной части подтверждалось разграничение сфер влияния по соглашению 1907 года и взаимное уважение специальных интересов друг друга. «Из всех дипломатических побед Японии и лично графа Комура самая блестящая и самая долговременная по своему действию только что одержана в Петербурге», — писал бельгийский посланник в Токио д’Анетан. По справедливости соглашение надо признать успехом обеих сторон, что в дипломатической практике случается не так уж часто. Однако сближение России и Японии шло не только в сфере политики и экономики. Контакты между нашими странами в культурной и духовной сфере тоже выходили на принципиально новый уровень.
Глава третья. ПОДВИГ АРХИЕПИСКОПА НИКОЛАЯ
Слово «подвиг» ассоциируется у нас прежде всего с войной (ратные подвиги) или с исключительными деяниями («подвиг честного человека», как сказал Пушкин об «Истории государства Российского» Карамзина). Применительно к духовному лицу оно может показаться странным, потому что выражение «молитвенный подвиг» по-настоящему еще не вернулось в наш лексикон. Тем не менее жизнь святого равноапостольного Николая Японского есть подвиг во всех смыслах этого слова. Он прожил долгую жизнь. Хронологические рамки нашего повествования включают лишь ее закат, но жизненный путь святителя настолько интересен, что заслуживает подробного рассказа. Архиепископ Николай Японский
Архиепископ Николай Японский
В миру его звали Иван Дмитриевич Касаткин. Он родился 13 августа[12] 1836 года в Егорьевском погосте деревни Береза, что в Бельском уезде Смоленской губернии, в семье диакона местной церкви. Профессия отца предопределила выбор жизненного пути: Иван Дмитриевич окончил духовное училище уездного города Бельска и духовную семинарию в Смоленске. Для церковной карьеры местного значения этого хватало, но его как лучшего ученика отправили учиться в Петербургскую духовную академию. Академию он закончил в 1860 году со степенью кандидата богословия, равнозначной нынешнему университетскому диплому с отличием. И в этот момент сделал главный выбор своей жизни. Перед рукоположением во священники Ивану Касаткину предстояло или жениться, или принять монашество, что давало возможность стать архиереем, но предполагало обет безбрачия. В начале июля 1860 года он был пострижен в монахи с почитаемым в православии именем Николай, через несколько дней рукоположен во иеродиакона, а затем во иеромонаха. Совершавший постриг епископ Нектарий сказал ему: «Не в монастыре ты должен совершать течение подвижнической жизни. Тебе должно оставить самую Родину, идти на служение Господу в страну далекую и неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника, вместе с подвигом монашества тебе предлежат труды апостольские».
 Титульный лист первого отдельного издания книги И. А. Гончарова «Фрегат Паллада». 1858
Титульный лист первого отдельного издания книги И. А. Гончарова «Фрегат Паллада». 1858
К этому моменту Николай уже сделал второй главный выбор — отправиться в Японию, которая из тогдашнего Петербурга казалась краем света, если не дальше. Вот как он сам рассказал об этом, откровенно и бесхитростно: «Будучи от природы жизнерадостен, я не особо задумывался над тем, как устроить свою судьбу. На последнем курсе духовной академии я спокойно относился к будущему, сколько мог, веселился и как-то отплясывал на свадьбе своих родственников, не думая о том, что через несколько времени буду монахом. Проходя как-то по академическим комнатам, я совершенно машинально остановил свой взор на лежавшем листе белой бумаги, где прочитал такие строки: „Не пожелает ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля консульской церкви в Хакодатэ и приступить к проповеди Православия в указанной стране“. А что, не поехать ли мне, — решил я, — и в этот день за всенощной я уже принадлежал Японии». Если это не Промысл Божий, то что? Дипломатические отношения между Россией и Японией были установлены в феврале 1855 года по Симодскому трактату (договору), об истории которого можно прочитать в знаменитой книге «Фрегат „Паллада“» Ивана Гончарова, свидетеля и участника событий. Закрывшаяся от окружающего мира в начале XVII века, Япония неохотно поддавалась нажиму США и европейских держав, вознамерившихся открыть ее для торговли, но была вынуждена уступить силе. По этому договору порты Нагасаки и Симода на главном острове Японского архипелага Хонсю, а также порт Хакодатэ на южной оконечности северного острова Хоккайдо открылись для торговли с Россией, которая получила право иметь на территории Японии одно консульство. США, Англия, Франция, Голландия выбрали Эдо (нынешний Токио) — фактическую столицу страны и главный центр власти. Российское правительство предпочло провинциальный Хакодатэ, потому что именно через этот порт шли основные контакты с нашей страной. В сентябре 1855 года туда прибыл первый русский консул Иосиф Антонович Гошкевич, сын священника и выпускник Петербургской духовной академии, ранее 10 лет прослуживший в Русской духовной миссии в Пекине. Он не стал священником, но был глубоко верующим человеком, поэтому сразу же озаботился строительством церкви. Православие было государственной религией Российской империи, поэтому дипломатические миссии за рубежом должны были иметь свои храмы и священников, а дипломаты — исправно посещать их (лютеранам разрешалось ходить в кирхи). В 1859 году Гошкевич на консульские деньги построил в Хакодатэ небольшой деревянный храм во имя Воскресения Христова, в котором служил флотский протоиерей Василий Махов, однако в следующем году отец Василий заболел и вынужден был вернуться в Россию. Тогда консул через министерство иностранных дел обратился в Святейший синод с просьбой прислать в Хакодатэ нового священника. Им и оказался молодой иеромонах Николай, отправившийся в путь 13 августа 1860 года, в день своего 24-летия. В прошении Синоду Гошкевич писал: «Настоятель православной церкви также может содействовать распространению христианства в Японии». Драматизм ситуации заключался в том, что в Стране восходящего солнца с начала XVII века действовал строжайший запрет исповедовать и проповедовать христианскую религию. Нарушение каралось смертью, спастись от которой можно было только ценой публичного отречения от христианства, с церемониальным попиранием ногами святого креста, но многие японские христиане избрали мученический венец. Запрет был вызван не столько религиозными, сколько политическими причинами. Католические миссионеры, особенно иезуиты, слишком активно вмешивались во внутренние дела и подчинили своему влиянию ряд могущественных князей на юге страны, особенно на острове Кюсю. Это не устраивало Тоетоми Хидэеси и Токугава Иэясу, амбициозных объединителей Японии, переживавшей в ту пору период раздробленности, хотя и при наличии неизменных физических границ. Кроме того, миссионеры были первыми вестниками экспансии, за которыми следовали военные и купцы, превращавшие далекие земли в колонии, а туземцев — в рабов. Япония этой участи избежала, но решила закрыться от «белых». Исключение делалось для голландцев — протестантов заботила только торговля, а миссионерством они не занимались.
 Иосиф Гошкевич
Иосиф Гошкевич
Гошкевич не собирался нарушать японские законы, но понимал, что начавшееся «открытие» страны — процесс необратимый и что проникновение европейской цивилизации и культуры — вопрос времени, причем не столь уж длительного. При других иностранных миссиях тоже появились священники, начавшие интенсивно изучать Японию и ее язык «в видах скорой и обильной жатвы», как выразился иеромонах Николай в одном из докладов Святейшему синоду. Умные люди понимали, что при неравенстве сил японским властям рано или поздно придется смягчить антихристианские законы, а то и вовсе отменить их. Вопрос был в том, какая конфессия лучше подготовится и чьи миссионеры станут наиболее успешными «ловцами человеков». В те времена дорога в Японию из Петербурга через Сибирь занимала почти год. Зиму иеромонах Николай провел в Николаевске-на-Амуре, где судьба свела его с удивительным человеком — епископом Иннокентием (Вениаминовым), архиереем Камчатки, Курильских и Алеутских островов (дело было до продажи Аляски) и самым знаменитым православным миссионером своего времени. Владыка Иннокентий изучил алеутский язык, составил его словарь и грамматику, перевел на него Евангелие от Матфея и православный катехизис, а также написал для своей паствы книгу «Указание пути в Царство Небесное». Иеромонах Николай пошел по его стопам и оказался достойным учеником, даже превзошедшим учителя. В 1868 году митрополит Иннокентий возглавил Московскую епархию, а в 1869 году Всероссийское православное миссионерское общество под покровительством императрицы Марии Федоровны. Успехом своей деятельности в Японии святитель Николай был во многом обязан помощи этого общества и лично владыки Иннокентия. Иеромонах Николай впервые ступил на японскую землю 2 июля 1861 года в порту Хакодатэ. Вряд ли в тот момент он думал, что ему предстоит провести в этой стране всю оставшуюся жизнь, немногим более полувека. Не буду пересказывать историю его «трудов и дней»: она хорошо описана японскими и русскими авторами. Думаю, читатель уже составил себе представление, что за человек был будущий святитель и в каких условиях ему предстояло работать. Так что в слове «подвиг» применительно к нему нет никакого преувеличения. Понимая, что час открытой проповеди православия близок, молодой иеромонах засел за японский язык — «варварский, положительно труднейший на свете», как сам откровенно признавался, — и постарался «со всею тщательностью изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы там надежды на просвещение страны Евангельской проповедью». По словам современников, языком он владел в совершенстве, хотя и говорил с северным акцентом, как его первые учителя. В Хакодатэ он перевел на японский язык Евангелия, послания апостола Павла, катехизис, основные молитвы и — весьма предусмотрительно — чин обряда крещения и присоединения иноверных. Разумеется, без помощи носителей языка сделать это было невозможно. Но первым крещеным «туземцем» стал не один из помощников иеромонаха, как легко предположить, а его открытый враг — синтоистский священник Савабэ Такума, самурай и мастер фехтования кэндо, обучавший этому искусству сына Гошкевича. Фанатик Савабэ признался Николаю, что хочет убить его как носителя чужой веры, но иеромонах посоветовал ему сначала ознакомиться с ней. Самурай согласился, и начались долгие беседы. «Ходит ко мне один жрец древней религии изучать нашу веру, — сообщал Николай в Петербург. — Если он не охладеет или не погибнет (от смертной казни за принятие христианства), то от него можно ожидать многого». В 1868 году Савабэ принял православие с символическим именем Павла — в память Савла, ставшего из гонителя христианства его проповедником, — и стал одним из столпов молодой японской церкви. Известия об успехах хакодатского священника дошли до Петербурга. В апреле 1870 года Синод создал духовную миссию в Японии, во главе которой поставил Николая, возведенного в сан архимандрита. В 1873 году запрет исповедовать и проповедовать христианство был снят, и к середине 1874 года в Хакодатэ насчитывалось более трехсот православных. Произошло это уже без Николая, который 28 февраля 1872 года переехал в Токио, где ему предстояло служить до конца жизни. Без преувеличения его можно назвать самым выдающимся христианским миссионером в истории современной Японии, хотя «жатва» православия оказалась здесь куда более скромной, чем у католиков или протестантов. За теми стояли большие деньги, их поддерживали государства и частные лица. Николай же располагал несравненно более скромными средствами, которые к тому же приходилось добывать в Синоде ценой немалых усилий. Следует отметить неизменно уважительное отношение к нему католических и лютеранских «конкурентов». Он считал их «заблуждающимися собратьями», но никогда не пытался опорочить перед «язычниками»-японцами. Однако дипломаты-католики, кроме португальского поверенного в делах, дружно не явились на освящение в 1891 году православного храма в Токио, несмотря на официальное приглашение. По замечанию русского посланника Дмитрия Шевича, «коллективная демонстрация главных представителей католиков, воздержавшихся как бы по обоюдному согласию от присутствия в языческой стране на освящении христианского собора, поразила всех своей крайней неприличностью». Один из важнейших показателей успеха миссионерских трудов — число «обращенных язычников». Историки приводят следующие данные о результатах деятельности святителя Николая. Количество японцев, принявших православие, в 1888–1902 и 1908–1910 годах составляло в среднем не менее 1000 человек в год. В 1903–1907 годах из-за ухудшения отношений с Россией и последовавшей за этим войны оно уменьшилось, но не сошло на нет. В 1912 году — в год кончины владыки — в Японии насчитывалось 34 111 православных христиан и 276 церквей. Сейчас там осталось 9,5 тыс. православных (при населении, выросшем в два раза) и 64 прихода. В апреле 1880 года архимандрит Николай был рукоположен во епископа Ревельского, викария (помощника главы) Рижской епархии. В Ревеле (нынешнем Таллинне) он, разумеется, не служил, но отдельной епархии в Японии тогда еще не было. Будучи проездом в Москве, владыка застал открытие памятника Пушкину на Тверском бульваре, познакомился с Достоевским, произнесшим на церемонии открытия знаменитую речь, и с молодым философом Владимиром Соловьевым, который даже изъявил желание приехать в Японию. Оказалось, что это был последний приезд Николая на родину. В апреле 1906 года он был возведен в сан архиепископа с наименованием Японский, но хиротония была проведена заочно. Уникальность личности святителя Николая проявилась в многообразии его талантов. Священнослужитель, проповедник, миссионер, он показал себя превосходным организатором во всем, за что ни брался. Он стал первым ректором духовной семинарии в Токио, основанной в 1875 году и просуществовавшей до 1919 года, и до конца жизни уделял большое внимание делу духовного образования. Многие из его воспитанников-японцев стали профессиональными переводчиками русского языка, некоторые — известными литераторами и учеными, пионерами изучения нашей страны в Стране восходящего солнца. При духовной миссии он наладил издательское дело, выпуская, помимо книг, разнообразные журналы как для воцерковленных японцев, так и для потенциальной паствы. Кроме официальных документов и «душеполезного чтения», их страницы были открыты для светской тематики, прежде всего для художественной литературы. Именно здесь японцы впервые прочитали на своем языке многие произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева и даже таких далеких от официального православия авторов, как Толстой, Короленко и Горький. Глава миссии отличался не только хорошим образованием, но и широтой взглядов. Он считал, что, «узнав русскую литературу, узнав Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, нельзя не полюбить Россию». И оказался прав, ибо положительный образ нашей страны в Японии до сих пор во многом основан на любви к Толстому, Достоевскому и Чехову. Петербургская духовная академия присвоила владыке степень доктора богословия, но он писал не только на религиозные темы: его увлекательный «исторический очерк по японским источникам» под названием «Сегуны и микадо» до сих пор читается с большим интересом. «Много раз меня манила на свое поле наука, — признавался он в письме к любимому наставнику митрополиту Иннокентию. — Японская история и вся японская литература — совершенно непочатые сокровища. Стоит лишь черпать целыми пригоршнями, все будет ново, интересно в Европе, и труд не пропадет даром. Но наука и без меня найдет себе много сынов, пусть другие несут ей в дар свои силы». Добавлю, что архиепископ Николай был избран почетным членом Императорского общества востоковедения и с полным основанием считается одним из основателей российского японоведения. Во всем многообразии личность святителя раскрывается через его дневники, изданные в пяти больших томах. Благочестивый, но чуждый показной «святости», не гнушавшийся никаким трудом на благо своего дела, терпеливый и в то же время требовательный, образованный, наблюдательный и нередко острый на язык — таким предстает архиепископ Николай на этих страницах. Еще при жизни святитель стал для японцев живым воплощением православия, хотя по природной скромности никогда бы не признал этого. Русскую духовную миссию токийцы в обиходе называли просто «братство Николая». Православный собор в районе Суругадай даже на официальных картах и указателях именуется Никорай-до, то есть «храм Николая», хотя официально наречен во имя Воскресения Христова, являясь кафедральным собором Японской православной церкви[13]. Построенный по проекту архитектора Михаила Щурупова и освященный 8 марта 1891 года, собор был любимым детищем и гордостью владыки. Необычное для тогдашнего Токио сооружение привлекло всеобщее внимание уже во время постройки. Собор Воскресения Христова, как и все остальные здания миссии, сильно пострадал от Великого землетрясения Канто 1 сентября 1923 года: рухнули железные каркасы купола, расплавились колокола — но через шесть лет был полностью восстановлен (помощи из России ждать, по понятным причинам, не приходилось, но свою лепту внесло министерство внутренних дел Японии) и торжественно освящен 15 декабря 1929 года. Благополучно переживший варварские американские бомбардировки весны-лета 1945 года, собор остается одной из главных достопримечательностей японской столицы и имеет статус памятника истории и культуры, а его большой макет представлен в Музее истории Эдо-Токио.
 Никорай-до (храм Николая) в наши дни. Фото Ольги Андреевой
Никорай-до (храм Николая) в наши дни. Фото Ольги Андреевой
Испытания, выпавшие на долю русской духовной миссии, да и всех православных японцев в годы русско-японской войны, в полной мере показали не только мудрость владыки как архипастыря, но его талант незаурядного дипломата — в широком смысле последнего слова. Сразу же по получении известия о прекращении переговоров и разрыве дипломатических отношений между Японией и Россией епископ Николай 12 февраля 1904 года разослал по всем приходам «Окружное письмо к христианам для успокоения встревоженной церкви». Он обращался к своей пастве — и в то же время к верноподданным императора Мэйдзи. Каждая фраза этого интереснейшего документа, составленного в столь драматических обстоятельствах и написанного подобающим случаю торжественным слогом, заслуживает внимательного чтения: «Благочестивым христианам Святой Православной Церкви великой Японии. Возлюбленные о Господе братия и сестры! Господу угодно было допустить разрыв между Россиею и Япониею. Да будет Его святая воля! Будем верить, что это допущено для благих целей и приведет к благому концу, потому что воля Божья всегда благая и премудрая. Итак, братия и сестры, исполните все, что требует от вас в этих обстоятельствах долг верноподданных. Молитесь Богу, чтобы Он даровал победы вашему императорскому войску, благодарите Бога за дарованные победы, жертвуйте на военные нужды. Кому придется идти в сражения, не щадя своей жизни, сражайтесь не из ненависти к врагу, а из любви к вашим соотчичам, помня слова Спасителя: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“ (Иоан. 15, 13). Словом, делайте все, что требует от вас любовь к отечеству. Любовь к отечеству есть святое чувство. Спаситель освятил это чувство Своим примером: из любви к Своему земному отечеству Он плакал о бедственной участи Иерусалима (Лук. 19, 41). Но, кроме земного отечества, у нас есть еще отечество небесное. К нему принадлежат люди без различия народностей, потому что все люди одинаково дети Отца Небесного и братья между собою. Это отечество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой дети Отца Небесного действительно составляют одну семью. Поэтому-то я не разлучаюсь с вами, братия и сестры, и остаюсь в вашей семье, как в своей семье. И будем исполнять вместе наш долг относительно нашего небесного отечества, какой кому надлежит. Я буду, как всегда, молиться за Церковь, заниматься церковными делами, переводить Богослужение; вы, священники, усердно пасите подручное вам от Бога словесное ваше стадо; вы, проповедники, ревностно проповедуйте Евангелие еще не познавшим истинного Бога — Отца Небесного; все христиане, мирно ли живущие дома или идущие на войну, возрастайте и утверждайтесь в вере и преуспевайте во всех христианских добродетелях. Все же вместе будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир. Да поможет нам во всем этом Господь! Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами! Аминь». Николай стоял перед тяжким выбором. Как подданный российского императора и истинный патриот своей родины (в этом нет оснований сомневаться) он должен был покинуть Японию после разрыва дипломатических отношений, вернуться домой и молиться о даровании победы русскому оружию, как это делали все русские священники и к чему призывал его посланник барон Роман Розен: «Еще раз взываю к вашему русскому сердцу: дайте себя уговорить. Умоляю вас именем нашей четвертьвековой дружбы ехать с нами». Но владыка более 40 лет проповедовал в Японии, создав здесь православную церковь буквально из ничего, и не считал возможным бросить паству, которая умоляла его остаться. После разговора с Розеном он записал: «Я поблагодарил, но отказался — совесть меня загрызла бы, если бы я бросил церковь». Еще на Соборе 1903 года, когда отношения между странами заметно осложнились, он сказал, не страшась возможных обвинений: «Хотя вы, японцы, приняли православную веру от России, но, несмотря на это, когда будет объявлена война с ней, то она — неприятельница ваша, сражаться с которой ваш долг. Воевать с врагами — не значит ненавидеть их, а только защищать свое отечество». Но встать на сторону Японии, воюющей с Россией, владыка не мог. За день до рассылки письма он записал свой разговор с помощниками-японцами: «Оставшись, я буду делать, что доселе делал. Но в совершении общественного богослужения, пока война не кончится, участвовать не буду по следующей причине: во время богослужения я вместе с вами молюсь за японского императора, за его победы, за его войско. Если я буду продолжать делать это и теперь, то всякий может сказать обо мне: „Он изменник своему отечеству“. Или напротив: „Он лицемер: устами молится за дарование побед японскому императору, а в душе желает совсем противного“. Итак, вы совершайте богослужения одни и молитесь искренно за вашего императора, его победы и прочее. Итак, начнется война, служите молебен о даровании побед вашему воинству. Одержит оно победу, служите благодарственный молебен. При обычных богослужениях всегда усердно молитесь за ваше отечество, как подобает добрым христианам-патриотам. Я по возможности буду приходить в церковь на всенощную и литургию и стоять в алтаре, совершая мою частную молитву, какую подскажет мне мое сердце. Во всяком случае первое место в этой молитве, как всегда, будет принадлежать Японской церкви — ее благосостоянию и возрастанию». На душе у епископа Николая, несмотря на глубокую и искреннюю веру, было неспокойно. «Русский флот японцы колотят, — с грустью записал он 29 февраля 1904 года, — и Россию все клянут. Ругают, поносят и всякие беды ей предвещают. Однако же так долго идти не может для меня. Надо найти такую точку зрения, ставши на которую можно восстановить равновесие духа и спокойно делать свое дело. Что в самом деле я терзаюсь, коли ровно ни на волос не могу этим помочь никому ни в чем, а своему делу могу повредить, отняв у него бодрость духа. Я здесь не служитель России, а служитель Христа. Служителю Христа подобает быть всегда радостным, бодрым, спокойным. Так и я должен смотреть на себя и не допускать себе уныния и расслабления духа». Выбор владыки Николая мало у кого нашел понимание. В России не в меру ретивые патриоты подозревали его в измене, в Японии — в шпионаже. Он оказался одним из трех российских подданных, оставшихся в Японии после объявления войны (двое других — русские семинаристы, приехавшие учиться в Токио незадолго до войны), несмотря на возможную угрозу своей жизни со стороны фанатиков-националистов. Справедливость требует сказать и о позиции японского правительства, которое в эти годы возглавлял известный нам генерал Кацура. По его распоряжению министерство внутренних дел в феврале 1904 года разослало всему синтоистскому и буддийскому духовенству страны следующий циркуляр: «Хотя дипломатические отношения с Россией прерваны, по отношению к отдельным гражданам противной стороны не должно быть никакого чувства ненависти и вражды, особенно на религиозной почве». Нападения на православные храмы и дома священников-японцев тем не менее случались, поэтому в апреле последовал второй циркуляр, требовавший от должностных лиц «быть особенно строгими и бдительными», «употребить всю свою энергию в применении к охране спокойствия христиан и их друзей и действовать так, чтобы народ в своем поведении не разлучался с достоинством, приличествующим великой нации». В конфликте с Россией Япония стремилась выставить себя передовой и просвещенной страной, воюющей против «империи кнута и погромов», поэтому любые антихристианские эксцессы могли серьезно повредить ее международному престижу. Никорай-до и духовная миссия в течение всей войны находились под усиленной охраной полиции и даже солдат, «кабы чего не вышло». «Хранимые Божьим промыслом, — извещал в это время владыка Николай одного из своих корреспондентов, — мы без обиды пребываем в столь печальное для нас время. Японское правительство принимает все меры к тому, чтобы настоящая война не сочтена была за борьбу между язычеством и христианством и не имела никакого отношения к религии. Наши христиане везде живут мирно, верные своей церкви, а служащие церкви беспрепятственно совершают свое богослужение, хотя, нужно сказать, с весьма скудным успехом по проповеди». Насчет последнего он поскромничал: в 1904 году православие приняли 656 японцев против 720 в 1903 году, а общее количество православных в Японии за годы войны не убывало, а только прибавлялось, хоть и медленно (28 397 человек в 1903 году, 28 597 в 1904 году, 28 920 в 1905 году). Примечательная деталь: в военное время епископ Николай демонстративно отдавал все свои письма на почту незапечатанными, чтобы его не могли ни в чем заподозрить. Дело в том, что в декабре 1903 года, перед самой войной, некий мелкий чиновник — неясно, аферист, сумасшедший или провокатор — предложил ему… купить важные государственные секреты. Владыка немедленно сообщил в полицию. Но и это не спасло его от нападок шовинистов, советовавших православным японцам срочно сменить «непатриотическое» вероисповедание. Тринадцатого марта 1904 года тиражом 2000 экземпляров было опубликовано второе окружное письмо епископа Николая к пастве, разосланное не только по приходам, но японским должностным лицам и в редакции газет. Здесь он выразился еще более решительно, отвечая на кампанию националистической прессы: «О вас говорят, будто вы, православные, зависимы от русского императора, который будто бы есть глава православной церкви, и потому заподозривают вашу искренность в служении вашему собственному императору и вашей стране. Какое ложное понятие о православной церкви! И какое страшное подозрение основано на этой лжи!.. Началась война с Россией — и православные (заметьте, не сказано, какой национальности. — В. М.) усердно молятся о даровании победы своему императору, с одушевлением провожают своих воинов на войну. Воины с энтузиазмом идут, испросив благословение и молитв у своих священников, чтобы Бог помог им безукоризненно исполнить свой долг относительно отечества… Не ясно ли как день, что православие не только не вредит патриотическому служению своему отечеству, а, напротив, возвышает, освящает и тем усиливает его?» Если бы это письмо попало в российскую прессу, у владыки наверняка были бы неприятности политического характера. Но Царя Небесного он всегда ставил выше любого царя земного, а потому не страшился никаких испытаний. И, обладая от природы острым умом, не питал ура-патриотических иллюзий относительно происходящего на родине, хоть и не был там четверть века. Вот лишь несколько фрагментов из его дневников — откровенных, выстраданных и горьких: «А ты, мое бедное Отечество, знать, заслуживаешь того, что тебя бьют и поносят. Зачем же тобой так дурно управляют? Зачем у тебя такие плохие начальники по всем частям? Зачем у тебя мало честности и благочестия? Зачем ты не привлекаешь на себя любовь и защиту Божью, а возбуждаешь ярость гнева Божия? Да вразумит тебя, по крайней мере, бедствие нынешнего поражения и посрамления. Да будет это исправляющим жезлом в руках Отца Небесного!» (29 февраля 1904 года). «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев Свой изливает на нас… Да и заслуживает ли Россия в самом деле милости Божьей? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежествен и груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнокрадством, и ныне на всех степенях служения — поголовное, самое бессовестное казнокрадство везде, где только можно украсть. Верхний класс — коллекция обезьян — подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Высший и интеллигентный классы поголовно растлены безверием и крамолой. Духовенство — много ль в нем ценного в очах Божьих?.. И при всем том мы — самого высокого мнения о себе: мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там — мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом Любви Твоей! Не дай, Господи, вконец расстроиться моему бедному Отечеству! Пощади и сохрани его!» (31 июля и 1 ноября 1904 года). «Тоска давит», «перо падает из руки» — в дневниках конца 1904 года такие записи нередки. Но вскоре у епископа Николая появилась новая паства — пленные русские — и новые заботы, прогнавшие прочь «дух уныния». Власти не разрешили ему выезжать из Токио до конца боевых действий, но не ограничивали его переписку и позволили священникам-японцам, знающим русский язык, отправиться в лагеря для военнопленных. Через них владыка посылал соотечественникам книги, причем не только церковные, но художественные и учебные, деньги и вещи, включая чай и сигары для офицеров: не будучи святошей, он понимал, что одним душеспасительным чтением сыт не будешь. Поначалу министр иностранных дел Комура подумывал о том, чтобы через нейтральные страны пригласить православных священников для их окормления, но японская церковь справилась своими силами. Пленные поначалу дивились, но вскоре оценили и помощь владыки, и пастырскую заботливость японских батюшек, и трогательное отношение к ним православных японцев, которые охотно жертвовали деньги в их пользу. Епископ Николай тепло отозвался о своих японских чадах в одной из послевоенных речей: «Вы радовались во время побед, дарованных вам Господом, и не могли не радоваться. Но ни разу никто из вас не отягчил моей печали обнаружением предо мною своей радости и своего торжества. Мы каждый день были вместе, мы не были я — русский, а вы — японцы, а были братья и сестры во Христе, дети одного Отца Небесного. При начале войны вы желали, чтобы я остался с вами, и обещались беречь меня — и вы блистательно исполнили свое обещание, вы сберегли меня не только физически, но и нравственно, за что я особенно благодарен вам. Это всегда глубоко меня трогало». Японские власти не препятствовали получению военнопленными книг, журналов и газет на русском языке. Этим, правда, воспользовался не только святитель Николай, но и его противники — японские социал-демократы и их русские «коллеги», находившиеся в Европе. Уже в марте 1904 года редакция токийской газеты «Хэймин» («Простой народ»), пытавшейся вести антивоенную пропаганду, отправила открытое письмо в меньшевистскую «Искру», которой руководил Плеханов: «Правительства Японии и России начали войну ради осуществления своих империалистических замыслов. Мы — товарищи, братья и сестры, у нас нет ни малейших оснований воевать друг с другом. Ваш враг — не японский народ, а японский милитаризм и так называемый патриотизм, точно так же, как нашим врагом является не русский народ, а русский милитаризм и так называемый патриотизм». Однако до ленинского «желать поражения своему правительству» в Стране восходящего солнца не додумались, поясняя: «Мы не нигилисты, не террористы, а социал-демократы. В нашей борьбе мы решительно отвергаем применение насилия и боремся мирными средствами, силой разума и поучения. Мы не можем предвидеть, которое из двух правительств окажется победителем. Но кто бы ни победил, результаты войны будут одни и те же: общая нищета, гнет увеличившихся налогов, нравственный упадок и дальнейшее развитие милитаризма. Гораздо важнее вопроса о том, кто победит, является для нас вопрос о том, как скорее сможем мы положить конец войне». «Искра» назвала письмо товарищей из «Хэймин» «документом огромной исторической важности» и выразила желание сотрудничать с ними. О знаменитом рукопожатии Плеханова и Катаяма на Амстердамском конгрессе социал-демократического Второго интернационала мы уже знаем.
 Георгий Плеханов
Георгий Плеханов
Большевики сами вышли на связь с японцами. «Хэймин» напечатала перевод нескольких статей и листовок Ленина с призывами «Да здравствует братское единение пролетариев всех стран!», «Да здравствует японская социал-демократия, протестовавшая противвойны!», «Долой разбойническое и позорное царское самодержавие!». Связным выступил заведующий заграничным отделом ЦК РСДРП Владимир Бонч-Бруевич. Он попросил японских товарищей распространять среди военнопленных нелегальную агитационную литературу, пересылаемую через США. Седьмого июля 1904 года редактор «Хэймин» Нисикава Кодзиро писал в Женеву «господину Ульянову» (по-английски): «Дорогой товарищ! Извещаю Вас, что, согласно Вашей просьбе, я отправил много экземпляров журналов и брошюр русским пленным, находящимся в городе Мацуяма. Я полагаю, что они должны быть в большом восторге от чтения этой литературы и вернутся домой убежденными социалистами. Я был бы очень рад сделать что-нибудь для Вас и для всех товарищей из России. Надеюсь на скорый успех российской социал-демократии».
 Катаяма Сэн
Катаяма Сэн
Пленные солдаты разгромленной армии — идеальный «человеческий материал» для мятежа и смуты, хотя владыка не уставал напоминать, что «честный плен никогда не считался позором». Да что там пленные: регулярные части русской армии в Маньчжурии, не исключая часть офицерства, были охвачены революционным брожением. Понимая тяжесть создавшегося положения и масштаб возможной угрозы, епископ Николай 14 декабря 1905 года обратился с посланием к военнопленным, которые тосковали в ожидании возвращения на родину и порой вели себя не лучшим образом. «Видимые враги вашего душевного мира и нашего общего Отечества земного и Отечества небесного, — писал он, — приходят к вам и говорят свои речи или присылают свои сочинения, те и другие исполненные душевного яда, и стараются отравлять вас ими. И есть уже отравленные этим ядом и тщащиеся отравлять других. Между вами, жившими доселе везде мирно, происходят в некоторых местах ссоры, драки, побоища, доходящие до смертоубийства, — и это в чужой стране, на позорище всему свету!» Информацию владыка имел точную и гневных слов не жалел. Но понимал, что одними благочестивыми увещеваниями положения не исправить, а потому повел со своей «проблемной» паствой серьезный разговор: «Нужны исправления и улучшения по управлению в России, никто не отрицает этого. Об этом и думает, и заботится ныне наш возлюбленный Государь с своими советниками, старшими в государстве». Первый из них — граф Витте, председатель Совета министров, можем добавить мы. Им противостоят враги Отечества, которые «вливают яд возмущения и злых замыслов во все неосторожные сердца, особенно в сердца людей, по своей малообразованности не могущих уразуметь их коварных целей. И теперь в России столько смуты, разладицы, взаимной вражды, убийств! Отравленные ядом возмущения обратились в братоубийц и с остервенением творят свое дело: бросают бомбы, от которых гибнут ни в чем не повинные люди, стреляют, режут, жгут… И вас, братие, эти озверевшие люди хотят обратить к преступному, противогосударственному и противочеловеческому служению диаволу!» «У русских в крови какой-то анархизм, непременно все ломать и разрушать до основания, а потом уже думать, что делать дальше», — записывал владыка под влиянием вестей с родины. Перед революционной смутой православная церковь оказалась не то чтобы беззащитной, но недостаточно авторитетной и защищенной. Многие священники, особенно молодые, если и не поддерживали бунтовщиков открыто, стремились понять их мотивы и оправдать их действия. Голоса же высших иерархов не прозвучали с должной силой, поскольку они воспринимались как неотъемлемая часть «старого порядка», репрессивного режима, против которого был направлен бунт. Епископ Николай оказался одним из немногих, чье слово дошло до паствы и возымело свое действие. «Помните, братие, что если вы станете мутить и бунтовать, то своею численностью можете много зла причинить дорогому нашему Отечеству и самим себе, но добра никакого, ни малейшего не можете сделать никому, потому что в ослеплении своем послужите врагам нашего Отечества, своим собственным злым врагам. Да удержит же Господь от сего всех вас!» — звучит с печальной и непреходящей актуальностью… В том, что русские пленные в Японии не взбунтовались и не стали пятой колонной, есть большая заслуга владыки, его личного авторитета, который он завоевал подвигом всей своей жизни. Бонч-Бруевич с грустью признал: пролетарская организация в Японии оказалась «столь слаба», что не дала возможности большевикам вести пропаганду среди пленных более активно. Многолетние труды владыки и его забота о пленных не прошли незамеченными в России. Двадцать второго октября 1905 года император Николай II подписал рескрипт на его имя, что означало высокую степень признания заслуг, тем более в такое время, когда у царя хватало иных проблем. В 1906 году епископ Николай был возведен в сан архиепископа и награжден орденом Святого Александра Невского. После окончания войны новой заботой теперь уже архиепископа Николая Японского стало поддержание в должном порядке русских воинских захоронений в Стране восходящего солнца и установка над ними памятников. В июле 1907 года владыка освятил закладку памятника 97 воинам в городе Мацуяма, на острове Сикоку, а год спустя — небольшой деревянный храм на этом же кладбище. С революцией 1917 года в жизни японского православия настали трудные времена, и церковь в Мацуяме оказалась в забвении. После Великого землетрясения 1923 года ее разобрали, перевезли в Токио и установили рядом с разрушенным Никорай-до, чтобы до его восстановления она служила заменой кафедральному собору. В отыскании и приведении в порядок русских воинских захоронений по всей стране большую помощь святителю Николаю оказал военный агент полковник Самойлов, прекрасно умевший ладить с японскими военными и гражданскими властями. И сегодня русские кладбища в Мацуяме и в Идзумиодзу близ Осаки, где похоронены 89 защитников Порт-Артура, поддерживаются в образцовом порядке благодаря заботам местных жителей: японцев всегда отличало и отличает трепетное отношение к могилам, своим и чужим. Они не забросили русские захоронения, когда после революции советское правительство отказалось от всех обязательств «старого режима», в том числе от заботы о местах последнего упокоения соотечественников. Ситуация стала меняться только на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Летом 1995 года в Мацуяме был установлен памятник на могиле капитана 1 ранга Василия Бойсмана, который умер в лагере для военнопленных, отказавшись досрочно вернуться домой, хотя имел на это право как старший офицер. Николай Японский, как пишет его биограф Э. Б. Саблина, «не находил никаких проблем в политической жизни России и Японии, которые не могли быть улажены без всяких конфликтов. Он сохранял убеждение, что рано или поздно между обеими державами наладятся добрососедские отношения». К мнению владыки — одного из лучших знатоков Японии в нашей стране — прислушивались не только в Святейшем синоде, но и в министерстве иностранных дел, куда доставлялись копии многих его писем и записок. Советовались с ним и русские дипломаты в Токио. Владыка был убежден, что одной из причин войны стало незнание Россией Японии, о чем писал приамурскому генерал-губернатору Павлу Унтербергеру, любителю пугать петербургских сановников и царя «японской угрозой». «У всех больших европейских народов, — наставлял губернатора просвещенный архиерей, — давно уже нашлись ученые, которые написали для своего отечества многие тома об Японии и во всех отношениях познакомили свое отечество с нею. Не говоря уже о научном значении этих трудов, польза от них великая. Не было бы и нашей несчастной войны с Японией, если бы мы глубже знали Японию». Хорошо бы помнить об этом и сегодня. Через год после окончания войны владыка перешагнул на восьмой десяток, но оставался таким же бодрым и деятельным, как в годы молодости. Вот только не осуществилась его мечта снова побывать на родине. Четырнадцатого сентября 1909 года он освятил памятник на братской могиле 243 русских воинов в Нагасаки. Присутствие на церемонии русских дипломатов и японских официальных лиц, как и на открытии в том же году памятника погибшим в Порт-Артуре солдатам и офицерам обеих армий, подчеркивало, что ратные подвиги их не забыты, но былая вражда похоронена. В 1911 году торжественно отмечалось 50-летие пастырского служения архиепископа Николая в Японии. В июле того же года он, как всегда, руководил собором служителей православной церкви Страны восходящего солнца. Тринадцатого февраля 1912 года владыка подписал очередной годовой отчет Святейшему синоду о состоянии православия в Японии — впервые только подписал, а не написал его собственноручно от начала до конца «почерком, удивительно сохранявшим свою твердость, отчетливость и красоту», каким его запомнили современники. Шестнадцатого февраля 1912 года Николая Японского не стало. Перед смертью, с мыслью о которой давно смирился, он попросил перевезти себя из больницы в архиерейский дом около Никорай-до. До последних дней он продолжал работу над переводом Ветхого завета. В Японии даже неверующие считают этот перевод выдающимся литературным памятником. Владыка был оплакан не только русскими и своей паствой. На его похоронах на токийском кладбище Янака присутствовали министры иностранных дел и императорского двора Японии. Император Мэйдзи, принц Канъин, премьер Сайондзи Киммоти, председатель Японско-русского общества генерал Тэраути Масатакэ (будущий премьер и маршал) и многие другие прислали пышные венки. Все крупные токийские газеты поместили некрологи. «Майнити», одна из влиятельнейших, писала о почившем владыке: «В нем японцы потеряли не только великого духовного учителя, но знатока и друга японского народа. Особенно приходится сожалеть о (его) смерти еще потому, что между русскими сравнительно мало лиц, знакомых с Японией. Между тем у России с Японией устанавливаются сейчас тесные отношения, и такие люди теперь особенно нужны. Смерть архиепископа Николая, первого и самого лучшего знатока Японии, явится чувствительной потерей как для русских, так и для японцев. Японский народ должен особенно чутко откликнуться на потерю такого человека и от всей души выразить свое соболезнование». Переводы статей были посланы в Петербург — в МИД и в Святейший синод.
 Могила святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Токио. Кладбище Янака
Могила святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Токио. Кладбище Янака
Десятого апреля 1970 года архиепископ Николай был причислен Русской православной церковью к лику святых. Можно сказать, что у изучающих Японию появился свой небесный покровитель. Он же стал одним из самых прочных «мостов», связующих наши страны и наши народы на протяжении почти полутора веков. Именно поэтому в Японии всегда чтили святителя Николая, изучали его жизнь и труды — даже тогда, когда на родине его имя оказалось в забвении. Сегодня память о нем снова объединяет японцев и русских.
Глава четвертая. ЯПОНСКИЙ ПАЛОМНИК К ТОЛСТОМУ
Святитель Николай стал пастырем и духовным учителем все-таки для небольшого числа японцев, хотя и в нескольких поколениях. Гораздо большую жатву собрал в Стране восходящего солнца его не менее замечательный, но более знаменитый современник и одновременно соперник — граф Лев Николаевич Толстой. Лев Толстой
Лев Толстой
Популярность яснополянского старца в Японии, как и во всем мире, велика до сих пор, хотя и весьма своеобразна. Для миллионов читателей в нашей стране Толстой прежде всего великий художник слова и знаток человеческой психологии, гениальный романист и блестящий драматург. Для японцев русским романистом номер один остается Достоевский, а на сцене до сих пор царит Чехов. Толстому здесь выпала слава мыслителя и пророка, Учителя Жизни (оба слова — непременно с большой буквы). Конечно, японцы читали и читают «Войну и мир» и «Анну Каренину», которые можно купить в книжных магазинах сразу в нескольких разных переводах. Однако величественный образ Толстого-учителя во многом заслоняет для них и его художественное творчество, и его противоречивую личность. Почему так получилось? Ни Достоевский, ни Чехов попросту не дожили до своей мировой славы, в то время как Лев Николаевич познал ее сполна. Узнав, что его одним из первых выдвигают на Нобелевскую премию по литературе, «опростившийся» граф заявил, что отдаст ее сектантам-духоборам, вынужденным эмигрировать в Канаду от преследований царского правительства и православной церкви. Это неминуемо повлекло бы за собой крупный международный скандал, и в результате первым русским лауреатом самой почетной литературной награды XX века стал Иван Бунин только в 1933 году. Достоевский и Чехов, конечно, слышали о Японии и даже косвенно соприкасались с ней: Федор Михайлович во время встречи с епископом Николаем в Москве в 1880 году, Антон Павлович во время путешествия на еще не разделенный Сахалин в 1891 году. Но видели ли они хоть одного живого японца, тем более литератора, или свои переводы на японский язык?.. Толстой в Японии не был, но переписывался с японцами, а некоторые из них специально ехали к нему в Ясную Поляну — как паломники к особо почитаемой святыне. Французский писатель и мыслитель Ромен Роллан, сам испытавший влияние Льва Николаевича и глубоко проникшийся восточной культурой, даже сделал вывод, что на Азию Толстой оказал большее влияние, чем на Европу.
 Ромен Роллан
Ромен Роллан
Случай Японии это скорее подтверждает. Вот всего несколько примеров. Кониси Масутаро, выпускник духовной семинарии святителя Николая, в конце XIX века прожил в России целых девять лет, успев поучиться в Киевской духовной академии и в Московском университете у знаменитых психологов Льва Лопатина и Николая Грота. Последний в 1892 году представил его Толстому, который подарил японцу самое полное на тот момент собрание своих сочинений. Вернувшись на родину, Кониси перевел «Детство» и «Крейцерову сонату», вызвавшую ожесточенные споры между противниками старой и новой морали. Это было началом большого труда нескольких поколений литераторов, в результате которого Толстой стал для японцев своим. Напомню, что переводы многих его произведений впервые появились в журналах русской духовной миссии. Вспоминается один любопытный эпизод. Переводчик «Анны Карениной», к сожалению, не доведший свой труд до конца, Сэнума Какусабуро[14] — в крещении Иван Акимович, преемник епископа Николая в качестве ректора духовной семинарии — обратился к Толстому с просьбой разъяснить ему «один вопрос, без решения которого нельзя двинуть работу ни на шаг вперед. А именно: кто старше — Анна или Степан Аркадьевич? Вопрос, по-вашему, т. е. для русских, вообще праздный, но для нас, японцев, напротив, далеко не маловажный. Дело в том, что у нас нет отдельных слов, выражающих общее понятие „брат“ или „сестра“. Поэтому при всем старании своем отыскать какие-нибудь намеки на различие в возрасте между Анной и Степаном Аркадьевичем я никак не могу найти их в романе». Вопрос поставил в тупик самого Толстого, который, кажется, так и не дал на него внятного ответа. 1880–1890-е годы были не только началом всемирной славы Льва Николаевича, но и периодом коренного перелома в его мировоззрении и творчестве. Он приходит к мысли, что «просто литература» есть грех, что главная задача художника — учить и давать положительные идеалы. Толстой берется за публицистику, пишет нравоучительные истории для детей и «для народа», углубляется в философию, перечитывает Библию и находит в ней совсем не то, что проповедует покорная земным властителям официальная церковь. Конфликт со светскими и духовными властями стал неизбежным. Однако великий князь Николай Михайлович, видный историк и большой либерал, поддерживал дружеские отношения с яснополянским Учителем, который называл его в письмах просто по имени-отчеству, а не Ваше Императорское Высочество, как полагалось. Цензура начала запрещать новые произведения Толстого, но в изобилии появившиеся у него ученики, оппозиционно настроенные к режиму, наладили их печатание за границей. На иностранные языки теперь переводились не только знаменитые романы, но нравоучительные истории и публицистические призывы. Многим Толстой-моралист, Толстой — реформатор христианства, Толстой — борец за свободу оказался понятнее Толстого-романиста. Так во многом получилось и в Японии. В конце 1896 года Ясную Поляну посетил молодой, но уже известный японский журналист и публицист демократической ориентации Токутоми Сохо[15]. Именно он напечатал перевод «Крейцеровой сонаты», а потому привез Толстому рекомендательное письмо от переводчика Кониси. Ярко и талантливо написанный рассказ Сохо о посещении Ясной Поляны стал сенсацией в Японии и вызвал волну интереса к Толстому. Но главным пропагандистом творчества великого русского писателя в Стране восходящего солнца стал не Сохо, а его младший брат Токутоми Кэндзиро, взявший себе псевдоним Рока — «цветок тростника», что символизировало скромность и неприметность. Он долгое время оставался в тени старшего брата, с которым у него было пять лет разницы в возрасте. В Японии, как говорилось в цитированном выше письме переводчика Сэнума автору «Анны Карениной», «младшие братья и сестры при разговорах со старшими обращаются к последним как-то повежливее, чего, кажется, не бывает в России».
 Токутоми Рока (Кэндзиро) в Ясной Поляне. Фото С. А. Толстой
Токутоми Рока (Кэндзиро) в Ясной Поляне. Фото С. А. Толстой
Первую статью о Толстом 22-летний Рока опубликовал в 1890 году, не прочитав к тому времени еще ни одной его строки, — просто воспользовался материалом из американского журнала. Последовавшее за этим знакомство с английским переводом «Войны и мира» потрясло молодого литератора. К 1894 году он уже прочитал — в основном по-английски — «Войну и мир», «Анну Каренину», автобиографическую трилогию, «Севастопольские рассказы», «Казаков», «Поликушку» и, что не менее важно, «Исповедь», «В чем моя вера» и другие трактаты на религиозные и этические темы. Братья Токутоми учились в христианском колледже Досися (теперь известный на всю страну университет в Киото), но старший охладел к христианству и позже стал трибуном национализма. Младший остался христианином на всю жизнь, и это тоже стало одним из его путей к Толстому. Другим путем стало раннее знакомство с русской классической литературой в переводах прозаика и литературоведа Фтабатэй Симэй. Фтабатэй считается основоположником современной японской прозы — благодаря роману «Плывущее облако» (1889) и… переводам «Свидания» и «Трех встреч» Тургенева. Эти переводы сыграли в становлении национальной литературы Страны восходящего солнца гораздо большую роль, чем десятки некогда популярных, но безнадежно забытых оригинальных романов того времени. Прочитав Тургенева в подлиннике, Фтабатэй, изучавший русский язык и русскую литературу в Токийском институте иностранных языков, был потрясен и захотел поделиться с другими открывшимся ему чудесным миром.
 Фтабатэй Симэй
Фтабатэй Симэй
Это удалось — соотечественники были потрясены не меньше. Но что привлекло их в Тургеневе, которого японцы читают и сейчас, хотя гораздо реже, чем Толстого, Достоевского или Чехова? Отмечая, что «успех русской литературы оказался непреходящим», историк Л. Л. Громковская писала: «Незнакомое, новое, безусловно, притягивало внимание. И вместе с тем ощущалось в произведениях русских авторов нечто узнаваемое, близкое, свое. Новое содержание излагалось тем художественным языком, который оказался японцам внятен. Сама художественная ткань рассказов Тургенева удивительным образом соотносилась с принципами традиционной эстетической системы японцев. Эта система предполагала эстетизацию обычного, поскольку все сущее достойно изображения. Она требовала истинности, правдивости изображения — действительность не нуждалась в приукрашивании». Русские классики показали японцам «действительную жизнь в самых обыденных ее проявлениях», а рассказы Тургенева соответствовали их представлениям о прекрасном. Однако путеводной звездой для Рока оказался не мечтательный эстет Тургенев, а деятельный моралист и проповедник Толстой. Книга о яснополянском старце для популярной серии «Двенадцать великих писателей» (из неяпонцев там фигурировали Гюго, Гете и не столь великие, но популярные в тогдашней Японии Маколей, Карлейль и Эмерсон) была написана быстро и на удивление просто, без присущих тогдашней словесности красот и цветистостей. Младший брат почтительно включил в книгу рассказ старшего о визите к Толстому. С этой книги началась настоящая слава Льва Николаевича в Японии. И литературная слава его биографа, подступавшего к своему первому роману «Лучше не жить». Он печатался в газете «Кокумин», которую издавал Сохо, с ноября 1898 по май 1899 года; в начале 1900 года вышло первое отдельное издание, в 1909 году — сотое! Мастерски написанный психологический роман был переведен на многие языки, включая русский, и стал для иностранного читателя одной из визитных карточек новой японской литературы. Столь же популярным оказался следующий роман Рока «Куросио», посвященный социальным проблемам и тоже опубликованный в газете старшего брата в первой половине 1902 года (в 1957 году вышел отдельной книгой по-русски). Прямого влияния Толстого в этих книгах пока не видно, однако его голос начинает звучать в Японии все громче. Новый импульс этому дала русско-японская война, против которой Лев Николаевич страстно выступил в статье «Одумайтесь!» и нескольких интервью, которые, разумеется, были запрещены в России. «Я никогда не думал, чтобы эта ужасная война, — откровенно писал он великому князю Николаю Михайловичу, — так подействовала на меня, как она подействовала. Я не мог не высказаться о ней и послал статью за границу, которая на днях появится и, вероятно, будет очень не одобрена в высших сферах». В военное время подобный демарш мог показаться государственной изменой, но японскому империализму от Толстого досталось даже больше, чем русскому: «Еще с большим рвением, вследствие своих побед, набрасываются на убийство подражающие всему скверному в Европе, заблудшие японцы. Так же делает парады, награждает микадо[16]. Так же храбрятся разные генералы, воображая себе, что они, научившись убивать, научились просвещению. Так же стонет несчастный рабочий народ, отрываемый от полезного труда и семей. Так же лгут и радуются подписке газетчики. Так же, вероятно, наживают деньги всякие богословы и религиозные учители, не отстающие — как их военные в технике вооружения — в технике религиозного обмана и кощунства от европейцев, извращают великое буддийское учение, не только допуская, но и оправдывая запрещенное Буддой убийство». Резкая критика действий русского правительства всемирно известным оппозиционером была бы подхвачена японской пропагандой, если бы ей самой не досталось от того, кто «не мог молчать». Поэтому статья Толстого могла появиться только в социалистической газете «Хэймин», упомянутой в предыдущей главе в связи с Плехановым и «господином Ульяновым». Высоко отозвавшись о гражданском мужестве автора, радикальные лидеры японских социалистов критиковали его за сведение причин войны к «отпадению от истинной веры», за игнорирование политических и экономических факторов и за отказ от теории классовой борьбы. «Если мы слепо пойдем за всеми утверждениями Толстого, — писал их трибун Котоку Сюсуй, — мы совершим большую ошибку. Когда Толстой разоблачает зло, вред и все социальные недуги, мы не можем не восхищаться. Но как только мы подходим к вопросу о том, каким образом это зло, вред и недуги излечить и предупредить на будущее, мы, к сожалению, расходимся с Толстым во взглядах. Для того чтобы избавиться от войн, утверждает Толстой, людям достаточно одуматься, начать жить согласно божественному велению. Но ограничиться этим — значит оставить всякие надежды». Как известно, за то же самое критиковали автора «Одумайтесь!» русские социал-демократы. Умеренные японские социалисты, придерживавшиеся пацифистской ориентации, поддержали проповедь Толстого, основанную на христианском гуманизме в сочетании с буддизмом, которым русский мыслитель, как известно, очень интересовался. Социалист-христианин Абэ Исоо, один из редакторов «Хэймин», в сентябре 1904 года отправил в Ясную Поляну несколько выпусков газеты с переводом «Одумайтесь!» и со статьями об идеях Толстого, сопроводив их приветственным письмом. «Миссия Толстого как литератора или религиозного проповедника, — говорилось в одном из номеров, — сильнее всего бросается в глаза в его протесте против войны. Для него нет различия между русскими и японцами. Поэтому он обличает обе стороны в ответственности за эту кровавую войну». Пятого ноября Лев Николаевич написал Абэ, заочно назвав его «дорогим другом»: «Хотя я никогда не сомневался, что в Японии очень много разумных, нравственных и религиозных людей, отрицательно настроенных к ужасному преступлению — войне, происходящей между обоими обманутыми и одураченными народами, я все же был рад получить этому доказательство. Большая радость для меня узнать, что в Японии у меня есть друзья и сотрудники, с которыми я могу быть в дружеском общении». Токутоми Рока был близок к людям из редакции «Хэймин», но не разделял безоговорочно их взгляды. Еще в конце 1903 года, когда в воздухе явственно пахло грозой, его попросили написать что-нибудь для газеты, занявшей ярко выраженную антивоенную позицию. «Я испытываю сильное смущение из-за вашей просьбы написать для специального выпуска, — ответил писатель. — Должен признаться, что я вовсе не являюсь пацифистом». Но ужасы войны — пусть даже увиденные издали — прочистили мозги и ему. Прежний Рока, как пишут биографы, умер, закрепив это символическим сожжением своего архива в конце 1905 года. В его духовной эволюции и в творчестве начался новый этап, второе рождение — под знаком Толстого.
 Дом-музей Токутоми Рока в Токио. Фото Ольги Андреевой
Дом-музей Токутоми Рока в Токио. Фото Ольги Андреевой
В начале 1906 года, как только возобновилось нормальное почтовое сообщение с Россией, Рока написал в Ясную Поляну. Вот это исповедальное письмо в переводе с английского (с небольшими сокращениями): «Дорогой Учитель, Вы, вероятно, помните мистера Токутоми, японского джентльмена, который посетил Вас в конце 1896 года. Я — его младший брат, Токутоми Кэндзиро. Мне 37 лет и 4 месяца. Я христианин по религии, социалист по убеждениям и писатель — правда, скромного таланта, по профессии. Дорогой Учитель, уже с давних пор я искренне восхищаюсь Вами и Вашими литературными произведениями. Почти все Ваши романы и рассказы я читал в английском переводе, а в 1897 году опубликовал краткий очерк Вашей жизни и творчества. Однако я должен признаться, что, хотя я и преклонялся перед Вашим гением и уважал Вашу искреннюю душу, я не мог целиком следовать Вашему учению. Мне казалось, что во многих вопросах Вы впадаете в крайности, с которыми может согласиться только фанатик. Если говорить правду, я хотел служить Богу и мамоне, духу и плоти одновременно. Результатом, признаюсь, были полная опустошенность и оцепенение души. Я мысленно высмеивал Ваше учение о непротивлении (злу. — В. М.). Я был горячим сторонником русско-японской войны, ибо, хотя я и любил русский народ, который знал по Вашим произведениям и по книгам русских писателей, однако, я ненавидел русское правительство и считал, что мы должны нанести ему сокрушительное поражение. Ценою крови, полагал я, мы сумеем добиться мира, взаимопонимания и поэтому радовался японским победам. Но теперь, благодарение Богу, жестокая, кровавая война кончилась, мир между двумя странами заключен, и вместе с этим пришло пробуждение моей души. Я очнулся от страшного сна и понял, как глубоко заблуждался. С этих пор я решил больше никогда не мириться с кровопролитием и навсегда вложил свой меч в ножны. Я и моя жена стали вегетарианцами. Мы решили, что и впредь будем жить простой жизнью любви — любви к Богу и любви к человеку. Я давно хотел написать Вам, но не решался. Теперь же могу писать от чистого сердца. Дорогой Учитель, да будет Вам известно, что в Японии имеется немало Ваших поклонников и число их с каждым днем увеличивается. Ваша жизнь и Ваши произведения оказали большое влияние на нашу интеллигенцию, в особенности на молодежь. Мы искренне сочувствуем России, которая теперь переживает революцию. Японии также предстоят разного рода реформы, она должна претерпеть процесс духовного возрождения. Будем молиться за рождение новой России и новой Японии и будем работать для достижения этой цели. Будем бороться за обновленную землю, за новый мир. Да настанет это царство и да продлится Ваша жизнь, дорогой Учитель, чтобы Вы могли увидеть его расцвет и быть нашим светом и надеждой. Искренне Вас любящий, вместе с бесчисленными толпами стремящихся к истине, Ваш последователь Кэндзиро Токутоми. P. S. Вы получили, если я не ошибаюсь, две мои скромные работы, которые я послал Вам ранее. Японская книга — это написанный мною краткий очерк Вашей жизни и творчества. Он был опубликован в 1897 году. Вторая книга — английский перевод одного из моих романов[17]. Это очень скромный образец, по которому Вы не должны судить о всей японской литературе. Кроме того, поскольку роман этот является продуктом переломного, противоречивого периода моей жизни, он очень слаб в моральном отношении». Письмо дошло до адресата в феврале 1906 года. Толстой подробно ответил на него, но сделал это с запозданием, когда его корреспондент уже отправился в заморское путешествие на поиски истины. Вот что писал Лев Николаевич своему новому японскому ученику и последователю: «Дорогой друг, я давно уже получил Ваше письмо и Ваши две книги. Было бы слишком долго и бесполезно объяснять, почему я до сих пор не отвечал. Пожалуйста, извините меня. Мне не совсем понятно ни из Вашего письма, ни из Вашей книги Ваше миросозерцание, и я был бы очень благодарен, если бы Вы разъяснили мне Ваши религиозные взгляды. Я очень интересуюсь религиозными воззрениями японцев. Я имею представление о синтоизме, но сомневаюсь, чтобы современные мыслящие японцы могли придерживаться этой веры[18]. Я знаю конфуционизм (конфуцианство. — В. М.), таоизм (даосизм. — В. М.) и буддизм и глубоко уважаю религиозные и метафизические основы этих учений, которые одинаковы с основными законами христианства. Существует лишь одна религия, которая открывается разными сторонами разным народам. Я очень желал бы знать взгляд японцев на основные религиозные законы. В европейской литературе мне не удалось найти ничего об этом. Если бы Вы могли мне в этом помочь, хотя бы только изложив Ваши религиозные взгляды, я был бы очень благодарен Вам. Под религиозными взглядами я разумею ответ на основной и самый важный для человека вопрос: каков смысл той жизни, которую должен прожить человек. Вы говорите в своем письме о русской революции и о предстоящих в Японии реформах. Я думаю, что лишь одна революция и одна реформа неминуемы во всем мире: это не только разрушение всех великих государств, но и вообще всякого государства, освобождение людей от подчинения человеческой власти». Четвертого апреля 1906 года Рока отправился в далекое путешествие, кульминацией которого должна была стать встреча с яснополянским старцем. Не получив ответа от Толстого, писатель волновался, но больше не мог откладывать отъезд. Долгожданное письмо придет позже, когда Рока будет уже в пути, и пролежит до его возвращения из странствий. Рано утром вся семья собралась дома у его родителей в городке Дзуси, на побережье Тихого океана, для праздничной трапезы. Перед отъездом Рока взял с жены обещание каждый день читать Священное Писание и готовиться к принятию крещения. Отказавшись от провожатых, путник в одиночестве отправился в порт Иокогамы, где ровно в полдень сел на пароход. Вместо привычных чемоданов багаж писателя состоял из большой плетеной корзины, обтянутой парусиной, парусинового саквояжа, сумки через плечо, вещевого мешка и зонтика. Для парадных случаев был припасен европейский костюм, но в быту Рока предпочитал традиционную одежду. Именно в ней он запомнился обитателям Ясной Поляны. Старший брат дал ему рекомендательное письмо в японскую миссию в Петербурге (посланник Мотоно только что прибыл к новому месту службы). Никакого письма к Толстому у него не было, долгожданного ответа Рока не получил, поэтому 22 мая написал Льву Николаевичу из Порт-Саида, известив, что надеется приехать к нему в конце июня. «У меня нет рекомендательного письма, — сообщал он. — Я не знаю ни слова по-русски и лишь весьма несовершенно говорю по-английски. И тем не менее я убежден, что рука Всевышнего направляет меня к Вам». Через несколько лет Рока, с присущей японским литераторам показной скромностью, так развил эту мысль, говоря о себе в третьем лице: «Он был посланцем дружбы, которого Япония сразу же по окончании войны направила в Россию к великому Толстому. Конечно, этот самозванный посол был очень жалок. Голова его была совершенно пуста. Единственное, за что он держался, была Истина. Может быть, это была Истина и примитивная, но это не была Ложь. И он не сомневался, что его ведет к Толстому именно эта Великая рука». Какое значение писатель придавал путешествию, точнее паломничеству, видно из его маршрута. Из Порт-Саида он плыл в Яффу, дальше в Иерусалим и Назарет, оттуда в Константинополь и Одессу, затем поездом по России. Ясная Поляна становилась для христианина и новообращенного толстовца таким же святым местом, как Иерусалим и Назарет. Множество людей из разных стран ехали и шли к Толстому — кто из любопытства, кто в надежде услышать ответ на вечные вопросы. Лев Николаевич принимал почти всех. Поклонение ему стало принимать религиозный характер. Популярный в начале XX века критик Петр Перцов вспоминал: «В те годы это было всеобщей мечтой — съездить к Толстому. Его имя было у всех на устах. Все взоры были обращены на Ясную Поляну. Присутствие Льва Толстого чувствовалось в духовной жизни страны ежеминутно. „Война и мир“ и „Анна Каренина“ и тогда уже казались сверхчеловеческими созданиями, и неправдоподобно было, что творец их еще живет, что его можно видеть и говорить с ним». А ведь Перцов побывал у Толстого в 1894 году, за 12 лет до младшего Токутоми и за два с половиной года до старшего… Пребывание Рока в Ясной Поляне в июне 1906 года стало одним из важнейших событий его жизни. Он подробно описал его в «Записках паломника», переведенных на русский язык, и многократно возвращался к этим дням в других произведениях, как будто не мог до конца выговориться, отыскивая в памяти все новые нюансы и детали увиденного и услышанного. Толстому и его близким японский гость тоже запомнился — простотой манер и глубиной речей, мягкостью и доброжелательностью. Как будто их не разделяли тысячи миль, языковые барьеры и недавняя война. Впрочем, война и для хозяина, и для его гостя уже отошла в невозвратное прошлое. Когда они вместе ездили по окрестностям в легком экипаже — лошадьми правила Александра Львовна Толстая, которой через 23 года, уже после смерти Рока, будет суждено оказаться в Японии, — Лев Николаевич сказал: «Россия и Япония сели в одну повозку».
 «Россия и Япония сели в одну повозку»: Лев Толстой и Токутоми Рока в Ясной Поляне. Фото С. А. Толстой
«Россия и Япония сели в одну повозку»: Лев Толстой и Токутоми Рока в Ясной Поляне. Фото С. А. Толстой
Русская деревня произвела глубокое впечатление на японца, знавшего ее по классической литературе. Сравнивая реальность с книгами, Рока сделал вывод, что и Тургенев, и Толстой изобразили ее очень правдиво. Но жизнь он все-таки видел больше не деревенскую, а усадебную, хоть и в опрощенном варианте. Гостя покорили простота, радушие и искренность хозяев, принимавших его как старого знакомого. «За столом никто не прислуживал. Ешь и пей сколько хочешь, разговаривай с кем хочешь, чувствуй себя свободно, — вспоминал он с умилением. — Отношение к гостям, к слугам, к деревенским жителям, друг к другу — естественное, без притворства и принуждения, любезное и сердечное». Ход жизни в яснополянском доме Рока очень по-японски поэтично уподобил «течению воды и дуновению ветра». Писатели, между которыми лежали не только различия культур и цивилизаций, но и 40 лет разницы в возрасте, говорили много и откровенно, понимая, что видят друг друга в первый и последний раз. Толстой не скрывал трудной ситуации в своей семье, разногласий с женой и детьми по многим принципиальным вопросам, что, впрочем, было к тому времени известно всей читающей России. «Я понял, как должен был страдать Толстой, — заметил Рока, — от того, что семья не позволяет ему разделить землю между крестьянами, как он того хочет». Для японского гостя этот вопрос имел принципиальное значение, ибо отличительной чертой тогдашней Японии как раз было тяжелое положение крестьянства в условиях крупного помещичьего землевладения. Передовые интеллигенты эпохи Мэйдзи, среди которых было много выходцев из крестьян, даже переселившись в город и переодевшись в европейские костюмы, а еще лучше в русские косоворотки, считавшиеся самой революционной одеждой, душой и сердцем все равно оставались в деревне, мучительно размышляя над тем, как улучшить ее жизнь. Опрощение, возвращение к природе многим казалось приемлемым и даже наилучшим путем к счастью и гармонии. Именно поэтому Толстой был так популярен в Японии. Его далеких читателей интересовали не батальные сцены, не зарисовки светской жизни и даже не психологические драмы, а картины сельской жизни и основанной на них философии. Им это было гораздо ближе и полезнее. Разговоры, разумеется, не могли уйти от недавней войны, в которой принимал участие один из сыновей хозяина — Андрей Львович. На вопрос гостя, почему он пошел воевать, тот ответил: «Я не мог оставаться безучастным, когда страна была в опасности. Конечно, я уважаю убеждения отца, он пользуется мировой славой, но ведь каждый думает по-своему». Как мы помним, для Рока это был совсем не праздный вопрос — война причинила ему немало нравственных мучений. Он видел конфликт поколений и убеждений в семье Толстых и, может быть, проецировал на него собственные сложные отношения со старшим братом. Другой сын хозяина Лев Львович, некогда убежденный последователь идей отца, а затем ярый антитолстовец, заметил: «Идеалы отца трудно согласуются с действительностью. Отец сейчас стал мягким, добрым, а раньше он был очень фанатичным, властным». Но в отношении к гостю Толстые как будто забыли свои разногласия и трения. Общее мнение четко выразил тот же Лев Львович: «Было бы лучше, если бы японцы бок о бок с русскими трудились в Маньчжурии, вместо того чтобы воевать». Рока, разумеется, постарался как можно точнее и подробнее запомнить и записать слова Толстого о Японии и русско-японских отношениях. Вот что говорил по этому поводу человек, к мнению которого прислушивались во всем мире. Тема Востока и Запада возникла в разговорах сразу же. Гость был немного удивлен, что хозяин — писатель и мыслитель, воспитанный на лучших плодах европейской культуры, — не относит свою страну к Западу. «Жаль, что японцы не выполнили с присущим им упорством свою миссию, — решительно заявил Лев Николаевич, — и пошли по пути американской, поверхностной, уже разлагающейся цивилизации». Не знаю, на основании чего Толстой мог сделать подобный вывод тогда, когда Соединенные Штаты казались всему миру воплощением молодости и динамизма, но сегодня это звучит с пугающей злободневностью для Японии… и не только. «И у России, и у Японии, у всех восточных народов, — продолжал яснополянский пророк, — есть своя миссия, свое предназначение. Она в том, чтобы люди обрели настоящую жизнь». Как, на каком пути? «Надо познать, — четко ответил он, — в чем смысл человеческого существования. Западные государства гордятся так называемой цивилизацией, которая достигается с помощью машин, но она в действительности ничего не стоит. Народы Востока не пойдут по пути Запада, они должны сами построить себе новый мир. Народы Востока, освободившись от всякого угнетения, свергнув все правительства, должны жить только по законам добра».
 Рабиндранат Тагор
Рабиндранат Тагор
Через 10 лет похожую мысль провозгласит еще один писатель и мудрец, почитавшийся многими как пророк и в России, и в Японии, — индиец Рабиндранат Тагор. В 1916 году он выступал с лекциями перед японской аудиторией, а затем собрал их в книгу, сразу же переведенную на многие языки, включая русский. В ней были такие слова: «Не могу поверить, что Япония стала тем, что она есть, путем подражания Западу. Япония заимствовала для себя у Запада пищу, но не свою природу (т. е. сущность. — В. М.). Восточная Азия пошла по своему собственному пути, развивая свою особую цивилизацию, не политическую, но социальную, не хищническую и механическую, но духовную, основанную на всем разнообразии начал человеческой природы. Мы переймем у Запада его машины, но не сердцем, а умом. Мы их испытаем и выстроим для них сараи, но не пустим их в наши дома и храмы». Слова пали на благодатную почву активно пробуждавшегося национального сознания японцев. Их одобрил Токутоми Сохо, к тому времени ставший ведущим идеологом национализма. Токутоми Рока, с 1913 года находившийся в ссоре с братом, промолчал; причиной конфликта стало то, что Сохо оправдывал и пропагандировал колониальную политику Японии в Корее, а чувствительный Рока пришел в ужас от увиденного там. Гостя из Страны восходящего солнца интересовали не только «вечные вопросы». Он спросил мнение Толстого «о предназначении Японии и о путях установления длительной дружбы между Россией и Японией», то есть о главной теме нашей книги. Лев Николаевич ответил: «Только если мы пойдем к одной цели, объединенные единым стремлением, мы сможем достичь этой цели». Его следующая фраза сегодня может показаться нам странной или, по крайней мере, неактуальной: «Для этого самое необходимое условие — крестьянская жизнь в полном смысле слова», — но сказанное произвело на собеседника сильное впечатление. Толстой настоятельно советовал ему «пожить жизнью сельского труженика», подобно тому как он сам ходил за сохой и косил траву. «Может быть,его опрощение — только прихоть аристократа?» — задавался вопросом японский писатель, в чем честно признался. И сам себя поправил: «Нет, так думать жестоко. Мне, пришельцу из чужой страны, он, как другу, открыл свои сомнения и страдания».
 Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. Картина работы И. Е. Репина. 1887
Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. Картина работы И. Е. Репина. 1887
«Страдание» — очень важное слово для японской литературы, для духовных и нравственных исканий ее писателей и читателей. Они были убеждены, что без страданий и размышлений об этих страданиях невозможен духовный рост, невозможно формирование полноценной личности. Именно в русской классической литературе они нашли самую глубокую разработку этой темы, которая сделала Достоевского одним из популярнейших авторов Страны восходящего солнца. Так было в начале прошлого XX века, так обстоит дело и в начале нынешнего столетия. Выпущенный летом 2007 года новый перевод «Братьев Карамазовых» за три недели разошелся тиражом более чем в 300 тыс. экземпляров. Это говорит о многом, хотя современные японцы уже не видят в русских «собратьев по страданиям», как это было во времена Токутоми Рока. Лев Николаевич не только отвечал на вопросы гостя, но и сам расспрашивал его с неподдельным любопытством. Они говорили о китайской классической философии, о распространении христианства в Японии, о стихах императора Мэйдзи: Толстой читал их в английском переводе и хотел побольше узнать о традиционных формах японской поэзии. Вежливый и общительный гость произвел на обитателей Ясной Поляны наилучшее впечатление. И они удивились, что он так скоро засобирался домой. Рока провел у Толстых всего пять дней, хотя поначалу подумывал о том, чтобы снять комнату в деревне и остаться здесь на целое лето. Впечатления и мысли переполняли писателя. «Увидеть Толстого, обменяться с ним хотя бы одним словом — этого уже достаточно. Мой путь теперь лежит в родной край», — сказал он себе и стал готовиться к отъезду. На вопрос гостеприимного хозяина Токутоми откровенно ответил: «Даже если бы я прожил здесь десять лет, это время не показалось бы долгим, но и пять дней — это немало. Если бы я последовал своему желанию, то навсегда остался бы в этом доме. Однако я не могу не ехать. Я должен решить свои задачи и приложить к этому все силы. Я должен выполнить до конца свой долг. До сих пор я только мечтал, но не жил по-настоящему, а теперь, возвратившись домой, начну деятельную жизнь». На прощание хозяин подарил гостю «Круг чтения» — составленный им сборник «мыслей мудрых людей на каждый день». Его помощник Владимир Чертков послал в Японию из Англии заграничные издания произведений Толстого, запрещенных в России, прежде всего публицистических и философских. Дорога от Москвы до Токио заняла 17 дней: достаточно времени, чтобы осмыслить увиденное и услышанное. Рока вернулся домой, окрыленный напутствием Толстого из «Круга чтения», на которое автор обратил особое внимание: «Чем больше люди будут верить в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим само собою, помимо их воли, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение». Не дожидаясь, когда «изменение и улучшение» наступят сами собой, Рока развил бурную деятельность: начал писать «Записки паломника», попытался организовать собственный журнал, о котором давно мечтал, произнес пацифистскую речь «Печаль победы» в Первой высшей школе при Токийском императорском университете. Журнал закрылся на втором номере (в отличие от старшего брата, младший Токутоми оказался никудышным редактором и издателем), речь была встречена холодно и настороженно, но рассказ о поездке в Ясную Поляну имел большой успех и читается до сих пор. Наконец, под влиянием Толстого он купил деревенский дом в окрестностях Токио, приписался к соответствующей крестьянской общине и занялся физическим трудом, не без юмора описав тяжкое привыкание горожанина к новому образу жизни. Можно сказать, что встреча с Толстым озарила всю жизнь Токутоми Рока — откровенно говоря, его помнят в основном благодаря поездке в Ясную Поляну. Пример Учителя вдохновил его на мужественный по тем временам шаг: в январе 1911 года он обратился с личным письмом к премьер-министру Кацура Таро с настоятельной просьбой добиться от императора помилования для Котоку Сюсуй, бывшего редактора социалистической газеты «Хэймин», и его 11 товарищей-анархистов, приговоренных к смертной казни. «Ужасающее деяние партии нигилистов», «оскорбление трона», о котором с возмущением, но без подробностей сообщили газеты в мае 1910 года, означало готовившееся покушение на императора Мэйдзи — по примеру убийства Александра II народовольцами 1 марта (старого стиля) 1881 года. Зная, что Сохо, редактировавший влиятельную газету «Кокумин», вхож в правительственные круги и хорошо знаком с Кацура, Рока попросил брата передать письмо в руки премьеру. Послание дошло до адресата, но желаемого результата не дало: 24 января заговорщиков казнили. Узнав об этом на следующее утро из газет, Рока был потрясен и саркастически написал Сохо: «Миролюбивый народ и императорский дом, весьма довольные смертью Котоку, могут спать спокойно. Наш император оказался неспособным на истинное милосердие». Это были не просто смелые, но дерзкие слова, граничащие с оскорблением верховной власти, сторонником и защитником которой был старший Токутоми. Младший брат не ограничился этим и, следуя принципу «Не могу молчать!», 1 февраля произнес в Первой высшей школе двухчасовую речь «О бунте», в которой открыто критиковал правительство и завуалированно — монарха. Можно сравнить ее со знаменитым выступлением философа Владимира Соловьева в конце марта 1881 года, в котором он просил только что вступившего на престол Александра III проявить христианское милосердие и не казнить убийц его отца. С аналогичной просьбой обратился к новому царю и Лев Толстой, назвав его в письме «любезный брат мой». Самодержец призывам не внял и запретил Соловьеву читать публичные лекции, после чего оскорбленный философ ушел из Петербургского университета, навсегда оставив блистательно начавшуюся преподавательскую карьеру, но его имя моментально сделалось известным в широких кругах общественности. Понимая, что напрямую обвинить Рока не в чем — выступая, он осторожно подбирал слова — и наказать его не удастся, правительственные чиновники решили отыграться на школьном начальстве, однако новое письмо неугомонного писателя к премьеру Кацура погасило конфликт. Как и в случае с речью «Печаль победы», власти предпочли «не заметить» дерзкое выступление, но подобных ему больше не допускали. Однако, когда летом 1912 года император Мэйдзи смертельно заболел, вольнодумцы шептались, что это возмездие за казнь Котоку и его соратников.
 Три Льва Толстых (слева направо): Лев Львович, Лев Николаевич и Лев Львович младший
Три Льва Толстых (слева направо): Лев Львович, Лев Николаевич и Лев Львович младший
Удивительно, но факт: Токутоми Рока никак не отреагировал на смерть Толстого в ноябре 1910 года и только через два года (!) послал сочувственное письмо его вдове Софье Андреевне, хотя в Японии кончина яснополянского старца вызвала большой резонанс. Объяснить этот факт биографы затрудняются. Однако Рока не переставал следовать этическим и художественным заветам Толстого, воспевая крестьянский труд и стремление к опрощению, но не закрывая глаза на печальные реалии современной ему деревни: нечистоплотность, лень, пьянство, невежество. В отличие от старшего брата, с головой ушедшего в высокопарную государственно-патриотическую публицистику, Рока не изображал из себя трибуна и моралиста, скромно назвав новую книгу своих эссе… «Бормотание земляного червячка». Лучшие страницы из нее многие десятилетия входили в японские школьные хрестоматии. С Львом Толстым Рока снова встретился в Токио в январе 1917 года — речь, конечно, не о Льве Николаевиче, а о Льве Львовиче, отправившемся в лекционное турне с проповедью всеобщего мира. Лев Толстой младший был человеком разнообразных дарований — беллетристом, драматургом, скульптором, даже моралистом и философом — как бы соревнуясь с отцом, взгляды которого перестал разделять еще в конце XIX века. Их единственную беседу Рока описал в повести «Новая весна»: повесть имела огромный коммерческий успех, но беседа с сыном великого писателя оказалась церемонной и скучной. Хронологические рамки нашего повествования ограничены началом 1917 года, поэтому здесь, наверно, следовало бы поставить точку. Но Толстой продолжал влиять на своего японского ученика, который в конце 1918 года решил основать новую религию на базе христианства и в конце января 1919 года отправился проповедовать ее за границу на гонорар от «Новой весны». Теперь его багаж состоял из 25 дорожных сундуков. Новый пророк обращался не к сильным мира сего, а к простым людям, однако был уверен, что его программная книга «Из Японии в Японию», два тома которой назывались соответственно «Восток» и «Запад», должна ни много ни мало войти в христианский канон. Оформляя документы для въезда в Палестину, находившуюся в то время под управлением Великобритании, в графе «цель поездки» Рока без ложной скромности написал: «Посланный Им». Можно представить себе изумление чиновников… Рока скончался 18 сентября 1926 года, перед смертью помирившись со старшим братом. Он родился в первый год правления императора Мэйдзи и умер в канун очередной смены эпох — за три месяца до ухода в лучший мир его сына и преемника императора Тайсе. Популярный и читаемый при жизни, после смерти он удостоился полного собрания сочинений в 20 томах и нескольких фундаментальных биографий, но в сегодняшней Японии его имя известно гораздо больше, чем произведения. Есть такое ироническое определение: классик — это писатель, которого все знают, но никто не читает. Полное собрание сочинений Токутоми Рока вышло в 1928 году, когда весь мир праздновал 100-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. На одном из торжественных собраний в Токио выступал советский полпред[19] Александр Трояновский. Собрание организовала газета «Кокумин», считавшаяся милитаристской и реакционной. Ее по-прежнему редактировал Токутоми Сохо, которому суждено было пережить младшего брата на целых 30 лет.
Глава пятая. «ЛЮДИ, ЗНАЮЩИЕ ЯЗЫК СОСЕДЕЙ»
Святитель Николай Японский считал «одной из причин нашей несчастной войны с Японией» то, что мы слишком мало знали о ней. Пятнадцатого апреля 1904 года, после гибели адмирала Макарова на броненосце «Петропавловск», он с горечью записал в дневнике: «Платится Россия за свое невежество и свою гордость: считали японцев необразованным и слабым народом, не приготовились, как должно, к войне, а довели японцев до войны, да еще прозевали на первый раз». В 2005 году вышел биобиблиографический словарь М. К. Басханова «Русские военные востоковеды». Наряду с именами всемирно известных ученых и путешественников — Пржевальского и Козлова, Певцова и Роборовского — много имен вовсе безвестных или знакомых в другом контексте: белые генералы Корнилов и Краснов, финский маршал Маннергейм, а также несколько академиков. Все они занимались изучением Востока, причем не только в теории, но и на практике, и все они служили в русской императорской армии. Немало среди них и тех, кто посвятил свою жизнь Японии. На суперобложке книги — слова выдающегося востоковеда генерал-лейтенанта Андрея Снесарева, сказанные в конце 1908 года: «Когда в последнюю войну с Японией у нас оказался сильный недостаток в переводчиках и проявлено было крупное незнание языка и стран Востока, то печать и общество по этому поводу стали метать громы и молнии, возмущаясь, как можно было не подготовить людей, знающих язык соседей. Теперь это улеглось и как будто позабылось. Но кто знает, какая гроза может вновь надвинуться. Поэтому было бы желательно, чтобы наши студенты и офицеры теперь же были поставлены в условия, при которых в случае надобности могли бы спокойно разобраться по отношению к любой стране». Генерал-лейтенант Андрей Снесарев (фрагмент фотографии с семьей)
Генерал-лейтенант Андрей Снесарев (фрагмент фотографии с семьей)
Как же это осуществлялось на практике? Интенсивное освоение Дальнего Востока в последней четверти XIX века быстро высветило острую нехватку специалистов по сопредельным странам — Китаю, Корее и Японии. Морское министерство еще в 1889 году подняло вопрос о создании во Владивостоке специального учебного заведения с курсами восточных языков и страноведения. В Приморье и Приамурье стали появляться курсы китайского языка, на которых учились чиновники, офицеры и купцы. Но только в 1898 году совместная комиссия министерств народного просвещения и финансов выработала решение об учреждении во Владивостоке Восточного института на казенный счет. Согласно установленному порядку, решение было передано в Государственный совет, а оттуда — императору Николаю II, который 5 июня 1899 года утвердил его и подписал «Положение о Восточном институте». Так на Дальнем Востоке России появилось первое высшее учебное заведение. Нынешний Дальневосточный государственный университет является его преемником, а потому считает эту дату днем своего основания.
 Генерал Николай Гродеков
Генерал Николай Гродеков
Второго ноября 1899 года состоялось открытие Восточного института в присутствии приамурского генерал-губернатора Николая Гродекова, внесшего большой вклад в изучение Центральной Азии. В торжественной обстановке были зачитаны приветствия президента Императорской академии наук великого князя Константина Константиновича, министра народного просвещения Боголепова, министра финансов Витте, министра путей сообщения Хилкова и многих других, а также представителей Японии и Китая. Телеграмма Московского университета гласила: «Старейший русский университет приветствует в день открытия своего юнейшего брата, Восточный институт, и желает полного успеха на пути осуществления великих культурных задач». Директором института, находившегося под надзором генерал-губернатора и лишенного академической автономии, был назначен профессор Петербургского университета Алексей Позднеев, крупнейший специалист-монголовед того времени, имевший чин действительного статского советника, то есть штатского генерала. Позднеев был выдающимся ученым, но строгим педагогом и «старорежимным» администратором, за что годы его директорства недовольные прозвали монгольским игом. Продолжительность обучения в Восточном институте составляла четыре года. Со второго курса студенты распределялись по четырем отделениям, которые по тогдашней терминологии назывались разрядами: китайско-японское, китайско-корейское, китайско-монгольское и китайско-маньчжурское. Китайский и английский языки были общими и обязательными для всех. Поначалу в институте было всего 26 студентов, включая известного нам Павла Васкевича, и восемь педагогов. В 1900 году здесь появились первые преподаватели японского языка — Евгений Спальвин, обладавший исключительными знаниями, но непростым характером, и рекомендованный им японец Маэда Кецугу, преподававший японский и немецкий языки в одной из крупнейших гимназий Токио. С 1902 года в Восточном институте начал работать выпускник Петербургского университета Николай Кюнер, который по окончании университетского курса получил не только золотую медаль, но и двухгодичную командировку в Китай, Корею и Японию. Кюнер прославился как полиглот (он владел десятью европейскими и семью восточными языками) и как лучший географ института, подготовив двухтомное «Географическое описание Тибета» и новаторское учебное пособие по географии Японии. Разумеется, это было бы невозможно без регулярных выездов в изучаемые страны, поэтому в Восточном институте была разработана система заграничных командировок для преподавателей через два года на третий. Таким образом, преподаватели — сами в основном молодые люди — имели возможность не только учить, но и учиться, передавая студентам самые свежие знания. Какие же требования предъявлялись учащимся Восточного института? На экзаменах студенты второго курса, т. е. после первой заграничной стажировки, должны были «без особых затруднений разбираться в разговорных текстах, написанных общедоступным слогом[20], читать наиболее доступные разделы газет и журналов, показать знакомство с основами скорописного письма и уметь разбирать легкие скорописные тексты. В устных беседах экзаменующийся должен был в состоянии вести разговор на общебытовые темы. На третьем и четвертом курсах при хорошем знании 2700 иероглифов[21] необходимо переводить статьи и сообщения военно-политического значения, быть знакомым с основами официальной и частной переписки. Студенты должны составлять простейшие скорописные тексты в общеупотребительном их начертании[22], составлять простейшие бумаги делового характера, в разговорном языке уметь передавать содержание статьи, прочитанной вслух преподавателем». Восточный институт собрал талантливых людей со всей страны — и в качестве педагогов, и в качестве студентов — а поэтому стал не только хорошим учебным заведением прикладного характера, как планировалось вначале, но и крупным научным центром. Многие предметы читались здесь впервые в России, по ним же были выпущены первые в нашей стране учебные пособия, которые охотно выписывали другие университеты и библиотеки. Подводя итог 11 годам работы, руководство института с законной гордостью отмечало, что он «служа делу изучения дальневосточных стран, является в то же время проводником знакомства с ними в русском обществе и тем самым способствует сближению между двумя противоположными мирами к лучшему их взаимному пониманию». С первых месяцев существования Восточный институт выпускал «Известия» (в 1900–1916 годах вышел 61 номер в 80 выпусках) — ученые записки, читавшиеся и в Европе: рассматривался проект их перевода на английский язык. Особый интерес вызывала прилагавшаяся к «Известиям» «Современная летопись Дальнего Востока» под редакцией Спальвина, содержавшая разнообразные сведения о текущих событиях в регионе, а также рецензии на книги и журналы. Заслуженной известностью пользовалась институтская библиотека, пополнявшаяся не только на казенный счет, но усилиями профессоров, студентов и местных спонсоров из числа чиновников и купцов. Как жили студенты? Специфический характер Восточного института привел к тому, что поначалу они находились фактически на казарменном положении. В документах сохранился их распорядок дня: 7:00. Подъем. 7:30. Молитва. Чай с булкой. 9:00. Лекции по 50 минут. 14:30. Обед. 16:30–18:30. Практические занятия. 18:30. Вечерний чай. 19:00–21:30. Самостоятельные вечерние занятия. 21:30. Чай. Молитва. 23:00. Отбой. Отлучаться из общежития, совмещенного с учебными классами, студенты могли только с разрешения инспектора, причем о том, чтобы ночевать «на стороне», не было и речи. Посещение их родителями и друзьями допускалось лишь с 14:30 до 16:30, вместо обеда, или с 18:30 до 21:00, вместо самостоятельных вечерних занятий, тоже с разрешения инспектора и не где-нибудь, а в специальной комнате при общежитии. Инициатором строгостей был первый директор Позднеев, стремившийся оградить своих питомцев от любой «крамолы», как политической, так и бытовой. Он с радостью цитировал статью во владивостокской газете, окрестившую его студентов «институтками» (так называли девушек из небогатых дворянских семей, обучавшихся в институтах благородных девиц) за «всегда скромное поведение на улице и в обществе», и с удовлетворением отмечал, что студенты из местных жителей не болтаются где попало, но «большая часть их проводит время дома: за роялем и пением». Сегодня это может показаться смешным, но следует помнить, что Владивосток того времени был новым городом, без каких-либо культурных традиций, с пестрым национальным и социальным составом, а Восточный институт оставался в нем единственным высшим учебным заведением.
 Здание Восточного института
Здание Восточного института
Финансировавшийся властями, институт должен был воспитывать не только профессионалов, но и верных «государевых людей», будь они военными или штатскими. В те времена все студенты Российской империи должны были носить форменную одежду, создававшую иллюзию социального равенства и призванную воспитывать гордость за свое учебное заведение, за свою профессиональную корпорацию медиков, горняков или политехов. Что же полагалось студентам Восточного института? Мундир темно-зеленого сукна, застегивающийся на девять желтых металлических пуговиц с изображением на них букв В. И. (Восточный институт), воротник и обшлага из темно-синего сукна с двумя петлицами из золотого галуна на них и с двумя желтыми металлическими пуговицами на каждом рукаве. При мундире шпага, которая носилась в разрезе на левой стороне мундира. Фуражка темно-зеленого сукна с околышем из темно-синего сукна; по верху фуражки суконная выпушка. Сюртук темно-зеленого сукна, двубортный, застегивающийся на шесть металлических пуговиц с буквами В. И. Шаровары темно-зеленого сукна, носимые поверх сапог. Полупальто, пальто или — на выбор — шинель темно-серого сукна офицерского образца. Красавцы, да и только! Десятого июня 1903 года состоялся первый выпуск Восточного института. Полгода спустя началась русско-японская война, на которую были мобилизованы многие выпускники и студенты (48 из 120). Однако, как сообщают некоторые источники, на всю русскую армию оказалось всего трое (!) владеющих японским языком, и все из Восточного института, поскольку Петербургский университет не смог представить ни одного (!) студента со знанием языка «наиболее вероятного противника». Впрочем, квалифицированные специалисты по Японии в русской армии были. Кто сейчас помнит имя офицера генерального штаба Михаила Адабаша? В те годы он занимал должность столоначальника и помощника начальника Седьмого отделения генерального штаба «Военная статистика иностранных государств». За этим казенным и на вид совершенно штатским названием скрывается не что иное как сбор информации об иностранных армиях. В июле-ноябре 1902 года Адабаш был командирован в Страну восходящего солнца для изучения военных реформ, где поработал на славу. В 1904 году под его редакцией были изданы переводы более дюжины уставов и наставлений японской армии, причем по важным конкретным вопросам: наведение понтонных мостов, укладка и погрузка обозов, постройка полевого телеграфа, саперные работы и т. д. Если бы все это было издано и изучено несколькими годами ранее… Но война уже шла. Потенциальные военные, особенно разведывательно-аналитические, возможности института были оценены уже в процессе его создания. «Положение о Восточном институте» 1899 года предусматривало ежегодный прием в число слушателей четырех офицеров по назначению приамурского генерал-губернатора. При поддержке директора института Позднеева их число с 1902 года было доведено до 10 (при общем числе студентов 100 человек), а с 1905/06 учебного года — до 20. Опыт войны требовал срочного принятия мер, и офицеров стали присылать из всех военных округов, а не только из Приамурского. Алексей Позднеев и его младший брат Дмитрий, сменивший старшего в должности директора в 1904 году, считали, что офицеры «подтянут» остальных студентов, многие из которых, особенно бывшие семинаристы, не отличались прилежанием и усидчивостью, а без этого восточными языками не овладеть! Но отношения между «студиозусами» и «армейскими» осложнились сначала во время русско-японской войны, дезорганизовавшей работу института, затем во время революционных волнений, когда «крамола» хлынула волной. Впрочем, первый случай открытого недовольства в стенах Восточного института относится к началу 1903 года. Поводом стало… тухлое мясо в казенной столовой — прямо как на броненосце «Потемкин» — где студенты были вынуждены питаться из-за непомерной дороговизны жизни в городе. За этим последовали требования смягчить институтский режим: отменить обязательное посещение лекций («мы не гимназисты какие-нибудь!»), вечерние занятия с носителями языка, стоящими, как говорилось в одном из документов, «по своему умственному развитию ниже каждого студента», и, наконец, обязательные отчеты о командировках, подготовка которых якобы отрывает время от занятий языками. Директор решительно возражал против любых изменений, объясняя перечисленные требования элементарной ленью недовольных и ехидно заметив, что «первые беспорядки открылись именно в ту пору, когда должно было обнаружиться безделие лиц, принимавших в них участие, т. е. за месяц до экзаменов». Конференция — собрание профессорско-преподавательского состава — института не согласилась с начальником, сделав вывод, что студенты всерьез хотят реформ. Осенью 1903 года Позднеев, которого, несмотря на несомненные научные заслуги и административные таланты, коллеги вспоминали как «капризного и тяжелого старика (в описываемое время ему было 52 года! — В. М.), душившего всякое свободное проявление организованного студенческого общения как между собой, так и с профессорами», подал в отставку. Новым директором стал его младший брат Дмитрий Матвеевич, бывший приват-доцент Петербургского университета и директор Пекинского отделения Русско-китайского банка — детища Витте, созданного для обеспечения финансовых операций казны на Дальнем Востоке. Младший Позднеев был китаистом, но, оставив в 1906 году службу в Восточном институте, четыре года проработал в Японии, основательно изучил ее язык и составил первый японско-русский иероглифический словарь. Он тоже выступал против предоставления институту академических свобод, но, осознав, что этого требует большинство коллег, в конце 1905 года подал в отставку. Его преемником был назначен профессор-китаист Аполлинарий Рудаков, остававшийся на этой должности до самой революции. Как же складывались судьбы выпускников Восточного института? Выполнил ли он свое предназначение? В целом можно ответить утвердительно. Большая часть окончивших курс оказалась на дипломатической и консульской службе в качестве «рабочих лошадей» — драгоманов, т. е. переводчиков, и вице-консулов с ограниченными перспективами карьерного роста (вспомним того же Васкевича). Так обстояло дело не только в России, но в Японии и во многих других странах: аристократы и молодые люди из хороших семей, закончившие престижные университеты, обладавшие изысканными манерами и знанием французского языка — главного средства международного дипломатического общения той эпохи, — считались пригодными для службы в любой стране, в то время как толмачам и консулам отводилась рутинная работа, требовавшая специальных знаний. Посол или посланник не обязан был знать язык страны пребывания — для этого у него был переводчик. Но иметь собственное мнение переводчику не полагалось, даже если он знал страну гораздо лучше своего шефа. Историки подсчитали, что в среднем 85 % выпускников Восточного института нашли работу в соответствии с полученной специальностью. Штатские могли сами выбирать себе карьеру. Как ни странно, хуже всего было с трудоустройством у военных. Большинство возвращалось в свои части на строевые должности, где их знания могли понадобиться разве что в случае войны. Некоторые сразу же выходили в отставку и поступали на гражданскую службу: например, штабс-капитан Андрей Болобан нашел применение полученной специальности япониста в экономическом отделе КВЖД, а затем стал агентом (представителем) министерства торговли и промышленности в Монголии и опубликовал ряд интересных востоковедных работ, среди которых есть даже «Любовь у китайцев». Несомненно, офицеров привлекала возможность стажировки в изучаемой стране сроком от одного до двух лет. Сначала на нее отводилось всего полгода, но военный агент в Токио полковник Владимир Самойлов аргументированно доказал чинам генерального штаба, что даже способному японцу требуется не менее трех-четырех лет для овладения иероглификой[23], не говоря уже о скорописи. Ссылаясь на личный опыт — а Самойлов, несмотря на отсутствие базового востоковедного образования, неплохо овладел как иероглификой, так и устной речью — и на опыт других европейских держав, командировавших офицеров в Японию для изучения языка и страны, он считал, что «наименьший срок, в который можно приобрести знания, необходимые для того чтобы говорить, немного читать и писать в размере, достаточном для военных целей, надо считать в два года». Кроме того, Самойлов просил не давать офицерам-стажерам дополнительных поручений, в том числе секретного характера. Иначе время, проведенное в командировке, можно считать потерянным, по крайней мере, для службы, а деньги выброшенными на ветер. Вопрос был не только в профессиональных, но и в человеческих качествах офицеров-восточников, как их официально называли. Поначалу командировки не предусматривали ни фиксированных учебных программ, ни контроля за занятиями, в отличие от порядка, заведенного, скажем, у англичан. Результаты не заставили себя долго ждать. Отметив, что командируемые в Токио до русско-японской войны офицеры нареканий не вызывали, Самойлов весной 1907 года прямо писал, что после войны положение изменилось в худшую сторону, а потому просил производить строгий отбор кандидатов и «немедленно отзывать их и исключать из института за совершение поступков, позорящих звание офицера». В чем было дело? В том, что приезжающие офицеры не считали нужным представляться военному агенту и приходили к нему лишь за деньгами, якобы дополнительно отпущенными на их содержание, да за справками о болезни, чтобы подольше задержаться в Японии, причем порой делали это «не в приличной форме и дерзко»? Конечно, нет. Будучи образцовым офицером, Самойлов не вмешивался в то, что лежало за пределами его компетенции, но, располагая огромным опытом, решался давать начальству советы. Что предлагал военный агент? Заранее сообщать ему списки командируемых офицеров для оповещения японского военного министерства и выдавать им удостоверения установленного образца для постоянного ношения при себе: это исключало секретную работу, но предупреждало многие возможные неприятности в стране, где каждый «белый» иностранец автоматически становился объектом слежки. Обязать офицеров представляться военному агенту сразу по приезде: «некоторое руководство, хотя бы на первое время, принесет им только пользу». Уведомить их, что жизнь в Японии дорога и ни у посольства, ни у военного агента дополнительных средств на их содержание нет. Не выдавать им денежное довольствие на руки за один раз, а переводить по частям через банк, «имея в виду слабость характера» (полагаю, особо объяснять не надо).
 Евгений Спальвин
Евгений Спальвин
Внушить офицерам держать себя прилично, носить штатское платье, «но не рубахи, как рабочие», — писал Самойлов, навидавшись всякого, — помнить, что японцы да и европейцы следят за каждым их шагом и, если те совершат что-то предосудительное, «осмеивают в лице их всю русскую армию». Пора подробнее рассказать о японистах Восточного института. Начнем с уроженца Риги Евгения Спальвина — потомственного лингвиста и педагога (его отец составил первую латышскую грамматику). Выпускник Петербургского университета по китайско-японскому отделению, он увидел в Восточном институте идеальное место для профессиональной самореализации, успев проработать два года преподавателем русского языка в Токийской высшей школе (ныне университет) иностранных языков и в совершенстве овладеть японским языком. Спальвин славился универсализмом: был прекрасным педагогом, после занятий которого студенты долго не хотели расходиться; составил уникальные не только для своего времени учебники, например «Японские анекдоты, краткие рассказы и пословицы» или «Пособие для изучения более трудных форм современного японского делового разговорного языка» (мне бы в студенческие годы такие!); создал ценные лингвистические и библиографические работы; редактировал научные журналы, имевшие международную славу; в качестве заведующего библиотекой института содействовал ее пополнению и научному описанию, попутно собрав собственную уникальную коллекцию книг по Японии и японоведению (к сожалению, она пропала). За это профессору прощались повышенная требовательность и аккуратность, нередко переходившие в сухость и педантизм. Преподавателем — носителем японского языка Спальвин пригласил своего знакомого по Токио Маэда Кецугу, который был на самом лучшем счету у начальства. С началом войны супруги Маэда остались в России и приняли русское подданство, что избавило их от депортации. Судьба Маэда сложилась трагически: в 1907 году, когда страсти уже вроде бы улеглись, он поехал домой для встречи с родственниками и был убит прямо на улице — то ли фанатиком-националистом, то ли просто бродягой. Спальвин женился на его вдове. Революцию и гражданскую войну он пережил благополучно, хотя был членом буржуазной партии кадетов. В 1925 году Спальвин оставил преподавание и перешел на дипломатическую службу, отправившись в Токио в качестве главного переводчика советского полпредства и представителя Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Его докладные записки из Токио в Москву, содержащие интереснейшую хронику контактов между нашими странами, до сих пор лежат в архивах и ждут своего часа. Шесть лет спустя Спальвин переехал в Харбин по приглашению правления Китайско-Восточной железной дороги, находившейся под советским контролем: с началом японской оккупации Маньчжурии здесь особенно требовались хорошие специалисты. Десятого ноября 1933 года он скончался в центральной больнице города: согласно медицинскому заключению, «от заворота тонких кишок», по слухам — «помогли» японцы, политику которых он резко и открыто критиковал. Спальвин не был эмигрантом и не подвергался репрессиям, но тем не менее его имя многие десятилетия оставалось несправедливо забытым.
 Василий Мендрин
Василий Мендрин
Офицер Забайкальского казачьего войска Василий Мендрин поступил в Восточный институт, когда ему было уже 35 лет. В Японии он побывал еще перед войной, а в 1908 году, выйдя в отставку, определился в родной институт преподавателем. Еще во время обучения он перевел с английского языка классический труд В. Г. Астона «История японской литературы», напечатанный в «Известиях Восточного института», удостоенный золотой медали и замеченный в столицах — благожелательной рецензией на него откликнулся Валерий Брюсов. В дополнение к преподавательской работе Мендрин написал учебник по японскому эпистолярному стилю и много переводил (некоторые его переводы переиздаются до сих пор). Отставной войсковой старшина славился как блестящий лектор и стал первым выборным ректором созданного в 1918 году Высшего политехникума (впоследствии Политехнический институт), но умер всего через четыре года. Могила его затеряна, а «обширный научный архив», как сообщают словари, утрачен. Ротмистр Василий Крылов, переводчик при штабе Забайкальского округа пограничной стражи, оставил о себе мало биографических сведений, но зато целую библиотеку словарей, справочников, разговорников и библиографических обзоров, продолжив эту работу в Маньчжурии, куда перебрался после окончательной победы Советской власти на Дальнем Востоке в 1922 году. Революция развела восточников по разные стороны баррикады — это уже другая история из другой эпохи, но несколько имен назвать надо. Подполковник генерального штаба Георгий Романовский в 1907–1911 годах выпустил ряд ценных оригинальных и переводных работ о японской армии и обороне Порт-Артура, в которой сам принимал участие. В 1917 году, эмигрировав от большевиков уже в чине генерал-лейтенанта, он стал первым председателем Объединенного комитета русских эмигрантских обществ в Японии, а с 1920 года редактировал газету «Дело России». Оказались в эмиграции опытные разведчики — полковник Василий Блонский, служивший в основном в Китае, но заслуживший за знание японского языка золотую медаль института и высокую оценку скупого на похвалы Спальвина, а также подполковник Александр Цепушелов, одним из первых начавший вести учет бывших выпускников Восточного института.
 Константин Харнский
Константин Харнский
Среди японоведов из числа офицеров-восточников, перешедших на сторону Красной армии, привлекают внимание судьбы капитана Алексея Луцкого и штабс-капитана Константина Харнского. Луцкий окончил Окружную подготовительную школу переводчиков, выделенную из Восточного института в 1910/11 учебном году специально для подготовки офицеров, стажировался в Японии и считался одним из лучших знатоков организации и методов работы японской разведки. После Февральской революции он стал эсером и первым председателем Иркутского совета солдатских депутатов, а в конце 1917 года вступил в партию большевиков. Разведывательную и контрразведывательную работу Луцкий сочетал с выступлениями в прессе под псевдонимом Восточник, показав не только глубокие специальные знания, но и талант публициста. Затем он оказался на территории, занятой белыми, и… нет, не то, что вы подумали, — был принят на службу в иркутскую контрразведку на должность заместителя ее начальника, продолжая поддерживать связь с большевистским подпольем. После нескольких арестов и освобождений Луцкий в апреле 1920 года вместе с Сергеем Лазо был схвачен японцами во Владивостоке и выдан казакам, от рук которых погиб. Потомственного дворянина Харнского, ставшего в годы гражданской войны большевистским пропагандистом, а после нее крупным ученым и заведующим кафедрой Дальневосточного университета, расстреляли свои же — в 1938 году по стандартному для японоведов обвинению «шпионаж в пользу Японии». Выбравший во время гражданской войны сторону большевиков генерал-майор Виктор Яхонтов, военный агент в Токио в 1916–1918 годах, решился переехать в Советский Союз только в… 1975 году, когда ему было 94 года. Перед Первой мировой войной все они стажировались в Японии и в результате опубликовали интересные оригинальные и переводные работы, но за бурными событиями последующих лет этот факт как-то забылся. Серьезное изучение Японии и японского языка в Петербургском императорском университете началось позже, чем во Владивостоке, — только на рубеже 1900-х и 1910-х годов. Но собравшиеся там молодые люди стали основоположниками научного японоведения, причем не только в нашей стране. Десятого июля 1912 года император Мэйдзи присутствовал на выпускной церемонии в Токийском университете, где должен был вручать золотые часы лучшему выпускнику по каждой специальности. Он изумился, увидев среди новоиспеченных бакалавров «белого» иностранца, и пришел в плохо скрываемую ярость, узнав, что его специальность — японская литература. Вероятно, посчитав случившееся национальным позором, монарх часы ему не вручил, а вскоре смертельно заболел — не от пережитого ли стресса?! Отличника звали Сергей Григорьевич Елисеев: он происходил из семьи купцов-миллионеров, которым принадлежали «Елисеевские» магазины в Петербурге и Москве. Он частично добился справедливости: ректор вручил ему часы, но не золотые, а серебряные. Но как он вообще там оказался? Второй сын главы торгового дома «Братья Елисеевы», Сергей Григорьевич совершенно не был расположен к коммерции, поэтому в 1907 году отец отправил его учиться в Берлин, щедро снабдив деньгами. Там молодой человек познакомился с японцами — как раз начинался описываемый нами золотой век — и заинтересовался их языком и культурой. По совету новых друзей Елисеев поехал учиться в Токио, где, не будучи стеснен в средствах, сразу же нанял себе лучших преподавателей. Будучи любителем искусства и обладая артистической натурой, Елисеев сдружился с актерами театра Кабуки, где все женские роли исполняли мужчины (говорят, он сам любил ходить по улицам японской столицы в женском кимоно, прикрывая тщательно загримированное, но все же европейское лицо веером), и стал своим человеком в доме знаменитого писателя Нацумэ Сосэки, которого нередко называют японским Чеховым. Сергей Григорьевич был первым европейцем, получившим высшее образование в Японии, к тому же в лучшем университете, да еще с такими результатами. Правда, в списке выпускников его иностранная фамилия шла последней, так как была записана не иероглифами, а знаками слоговой азбуки катакана. По возвращении в Петроград в 1914 году японский ученый Елисеев, как его с гордостью называли русские газеты, сдал магистерские экзамены и начал преподавать в университете, предварительно добившись официального признания токийского диплома. Молодой эрудит оказался нарасхват: переводчик министра иностранных дел Сергея Сазонова, вице-президент Дальневосточной секции Торговой палаты, секретарь Дальневосточной секции Археологического общества и так далее, еще строк на пять. Насыщенную жизнь прервала революция. Февральскую Елисеев принял, примкнув к кадетам, но по мере развития событий оптимизм таял. Летом 1917 года ему удалось на несколько месяцев съездить в Японию. Двадцать пятого сентября, проехав по охваченной волнениями и беспорядками стране, он писал из Петрограда своему младшему коллеге Оресту Плетнеру, стажировавшемуся в Токио: «В политике грустно и не видно ничего светлого… В провинции полная анархия, не признают никаких властей, и высшим авторитетом считается любой солдат. Во многих местах начались аграрные беспорядки и погромы… В России всегда все трагично. Люди, мистически настроенные и живущие верой, надеются, что велик Бог земли русской и кривая вывезет». После Октября Сергей Григорьевич автоматически стал «представителем эксплуататорских классов» со всеми вытекающими последствиями. Двадцать восьмого мая 1919 года чекисты взяли его под арест «за отца», то есть в заложники, но через 10 дней освободили по ходатайству университета и Академии наук. В 1920 году он опубликовал краткий очерк «Японская литература» — от мифов древности до романов своего друга Нацумэ Сосэки. Это единственная научная работа, которую Елисеев успел напечатать по-русски. Тем не менее онапоявилась в солидном сборнике «Восточная литература», где молодой приват-доцент соседствовал с такими корифеями востоковедения, как академики Борис Тураев и Сергей Ольденбург. Очерк Елисеева до сих пор остается лучшим введением в японскую литературу. В 2000 году он переиздан в нашей стране в составе сборника «С. Г. Елисеев и мировое японоведение».
 Сергей Елисеев
Сергей Елисеев
Жить под постоянной угрозой нового ареста было несладко. В сентябре 1920 года Сергей Григорьевич вместе с женой и двумя маленькими сыновьями с помощью финна-контрабандиста переправился на лодке через Финский залив. Добравшись до Парижа, он обнаружил, что взятые с собой фамильные драгоценности никому не нужны — их везли все эмигранты, а потому цены на них катастрофически упали, — и поступил переводчиком в японское посольство, ибо знал французский язык так же хорошо, как японский. Устроиться на службу ему помог дипломат Асида Хитоси, бывший соученик по Токийскому университету (школьные и студенческие связи в Японии считаются крепкими и важными), который после Второй мировой войны был министром иностранных дел и премьер-министром Японии. Вскоре Елисеев смог вернуться к научной работе по специальности и быстро занял ведущие позиции во французской японистике: был хранителем коллекций знаменитого музея Гимэ, преподавал в Сорбонне и в Школе живых восточных языков, выпустил ценные работы о японской мифологии и театре, активно рецензировал новые книги. В 1932 году его пригласили в Гарвардский университет — американцы обнаружили, что Япония окончательно вытесняет их из Китая и укрепляется на Тихом океане, а серьезного японоведения у них лет. Сергей Григорьевич проработал профессором в Гарварде с 1934 по 1956 год, создав там практически с нуля мировой центр японистики, но сам писал мало, выпуская в основном учебники и хрестоматии. Выйдя на пенсию, он вернулся в любимый Париж, где умер в 1975 году в возрасте 86 лет. Вадим и Никита Елисеевы продолжили дело отца, став всемирно известными историками и культурологами: первый — специалистом по Японии и Китаю, второй — по Ближнему Востоку. В Советском Союзе их, хотя бы в силу «социального происхождения», ожидала куда более печальная судьба. Николай Иосифович Конрад и Евгений Дмитриевич Поливанов родились в 1891 году, Николай Александрович Невский и Орест Викторович Плетнер — в 1892 году. Выпускники Петербургского университета, первые трое выбрали академическую карьеру и в 1914–1915 годах были отправлены в Японию на казенный счет, четвертый определился на дипломатическую службу в качестве переводчика, но тоже преследовал научные цели. Старшие ехали туда уже сложившимися учеными: Поливанов защитил магистерскую диссертацию о японских диалектах, Конрад опубликовал работы о японской системе школьного образования. Стажировка, базой которой стал Токийский университет, преследовала две цели: углубление имеющихся знаний и подготовка будущих диссертаций и лекционных курсов. Лингвист Поливанов занялся изучением фонетики, расширил и дополнил диссертацию о диалектах для отдельного издания и создал систему транскрипции японского языка, которая используется до сих пор. Конрад сочетал углубленное изучение китайской и японской классической литературы с работами по истории феодального землевладения. Невский едва ли не первым в России занялся серьезным изучением традиционной японской религии синто. Молодые ученые из России встречали максимальное содействие со стороны как администрации Токийского университета — залог успеха любой стажировки — так и японских коллег, от профессоров до аспирантов. Стажеры работали увлеченно и самозабвенно: посещали лекции и семинары, штудировали древние памятники и научную литературу. По мере возможности ездили по стране для полевых исследований: Поливанов собирал лингвистический материал, Невский — фольклорный и этнографический. Словом, не теряли отведенного времени, готовясь вернуться в родной университет и передать полученные знания новым поколениям студентов, которых, как они надеялись, будет все больше и больше. Золотой век давал для этого основания. Первым в Петроград вернулся Поливанов, ставший приват-доцентом на одной кафедре с Елисеевым. С началом революции он встал на сторону большевиков и в 1919 году вступил в партию, работал в Народном комиссариате по иностранным делам, в Балтфлоте, в Коминтерне и даже в Китайском совете рабочих депутатов в Петрограде. К этой работе он привлек Конрада, но тот предпочитал смотреть на события, как он сам говорил, «с надпартийной вышки». Вскоре пути их разошлись. Неугомонному Поливанову, с легкостью овладевавшему все новыми и новыми языками, стало тесно в японистике: он занялся общими проблемами языкознания, одним из первых пытаясь применить к этой науке марксистскую методологию. Вскоре он переехал на работу в Среднюю Азию — преподавал в Ташкенте, Самарканде, Фрунзе, организовывал экспедиции, писал грамматики и учебники, участвовал в «культурном строительстве», в частности в переводе письменности народов Советского Востока на латинский шрифт, что в 1920-е годы считалось наиболее революционным. Судьбу талантливого лингвиста решило официальное признание «нового учения о языке» академика Николая Марра (сюжет интересный и трагический, но к нашей теме отношения не имеющий) в качестве канона советской науки. Евгений Дмитриевич, выступавший против него еще с 1920-х годов, был в 1937 году арестован и вскоре расстрелян — конечно же, как «японский шпион», завербованный во время стажировки. Научная реабилитация Поливанова состоялась только в 1960-е годы; в 1976 году в Токио вышел сборник его исследований по японскому языку. Сейчас он считается признанным классиком мировой лингвистики.
 Орест Плетнер (второй слева) и Николай Конрад (третий справа) в университете Тэнри. 1927
Орест Плетнер (второй слева) и Николай Конрад (третий справа) в университете Тэнри. 1927
В отличие от Поливанова, Конрад не изменял Дальнему Востоку, став выдающимся японистом и китаистом, и не стремился к политической деятельности. Как, наверно, все советские японоведы — за исключением нескольких «секретных сотрудников» НКВД — он не избежал тюрьмы и лагеря, дважды отказываясь от сделанных под пытками «признаний» все в том же «шпионаже в пользу Японии». За свою долгую жизнь (он умер в 1970 году в возрасте 79 лет) Николай Иосифович профессорствовал во многих университетах, заложив основы советской японистики, написал немало замечательных книг, получивших мировую известность, стал академиком и кавалером ордена Восходящего солнца 2-й степени, которым в 1969 году его наградило японское правительство. Невский и Плетнер «застряли» в Японии из-за революции. Ради хлеба насущного им пришлось взяться за преподавание русского языка. Плетнер оставил мысль о возвращении в Россию, полностью интегрировался в японскую среду, завел много знакомств среди местной интеллигенции и занялся изучением фонетики. Несколько десятилетий он работал в университете Тэнри, где в 1927 году встретился с приехавшим в командировку Конрадом, и в Осакском институте иностранных языков, а 1940-е годы провел во французском Индокитае (нынешний Вьетнам), преподавая в Ханойском университете японский и французский языки. В 1968 году он был награжден орденом Благодатного сокровища 4-й степени, а через два года умер — в один год с Конрадом, который на закате жизни называл себя, Плетнера и Елисеева «последней тройкой японистов моего времени». До самой смерти Плетнер официально оставался лицом без гражданства, говоря о себе: «Я не белоэмигрант», — но в Советском Союзе предпочитали не вспоминать тех, кто так или иначе оказался за его пределами… Кстати, Ореста Плетнера часто путали с его младшим братом Олегом, тоже японистом, жившим в СССР и писавшим марксистские статьи об аграрном вопросе (он умер в 1929 году). Так получилось с напечатанным в нашей стране в 1935 году переводом памятника японской литературы Х века «Путевые записки из Тоса» писателя Ки-но Цураюки. Выполненный и опубликованный по инициативе Конрада, перевод О. Плетнера должен был подготовить почву к возвращению Ореста Викторовича на родину, однако его учитель, академик-китаист Василий Алексеев, посоветовал «не спешить». А с началом Большого террора спешить стало некуда.
 Николай Невский в Токио
Николай Невский в Токио
Невский, как и Плетнер, женился на японке и продолжал преподавать русский язык в колледжах и университетах, но главным делом жизни всегда считал научную работу. Он не только в совершенстве овладел японским языком, на котором написал много научных и научно-популярных работ, но изучил язык айну — коренного населения Японских островов, проживающего ныне только на острове Хоккайдо, а также экзотические языки жителей тихоокеанских архипелагов Рюкю и Мияко, язык племени цоу на Тайване и мертвый тангутский язык, на котором говорило население государства Си Ся, существовавшего в Северо-Западном Китае в X–XIII веках. Рассказать о трудах Невского в двух словах невозможно: почти по каждой из перечисленных тем он написал по книге, но почти все они увидели свет только через много лет после его смерти. Почему так произошло? Осенью 1929 года Невский, поддавшись уговорам советских дипломатов, вернулся на родину и стал доцентом Ленинградского университета, где, помимо любимой исследовательской работы, должен был заняться преподаванием японского языка и составлением учебников. Его жене, актрисе Мантани Исоко, и дочери Елене разрешили приехать к мужу только в 1933 году. В октябре 1937 года мужа и жену арестовали с разницей в четыре дня и через полтора месяца расстреляли в один день. Об обвинениях и ходе следствия можно не рассказывать — «японские шпионы»… Елену Невскую взял на воспитание Конрад. Он же сумел спасти часть разошедшегося по рукам архива друга и позже издал его уникальные труды по тангутоведению, за которые Невский в 1962 году был посмертно удостоен Ленинской премии. Работы по лингвистике и фольклору из сохранившихся материалов появлялись в печати на протяжении 40 лет после реабилитации ученого в 1957 году, но многое оказалось утраченным: значит, не все рукописи не горят. В научных кругах Японии имя Николая Невского хорошо известно и окружено почетом. Здесь его считают одним из крупнейших фольклористов XX века и еще одним мостом между культурами наших стран. Золотой век русско-японских отношений оказал огромное влияние на восприятие и изучение Японии в нашей стране и стал временем рождения отечественной японистики как науки. Теперь расскажем о художественном восприятии русскими Страны восходящего солнца.
Глава шестая. «ВЛЮБИСЬ В ЯПОНИЮ, ПОЭТ!»
Представления русских и японцев друг о друге в начале XX века складывались из причудливой мозаики боязни и восхищения, уважения и недоверия, ощущений полной чужеродности и внезапной душевной близости. Этим отмечен образ Японии в русской культуре Серебряного века: в нем одновременно и равноправно присутствуют «страна вееров» и «желтая опасность». Одни видели только первое, другие — только второе. Самые тонкие и внимательные, вроде Валерия Брюсова, и то, и другое, причем в неразрывной связи. В 1870 году в Петербурге вышел перевод книги швейцарского дипломата, служившего в Эдо, Эме Гюмбера «Живописная Япония», которая появилась в Париже несколькими годами ранее. Название стало знаковым — к русскому читателю пришла экзотически прекрасная Япония европейских эстетов, успевших плениться ей всего за несколько лет[24], которая сменила экзотически потешную страну путевых записок Ивана Гончарова, «варвара с большим животом», как прозвали его японцы. Эта «живописная Япония» отразилась, правда, еще мимоходом, в раннем стихотворении Дмитрия Мережковского «В сумерки» (1884):…Багровый свет камина
Переливался теплою волной
На золотой парче японских ширм,
Где выступал богатый арабеск
Из райских птиц, чудовищных драконов,
Летучих рыб и лилий водяных.
Ты не любишь Снежинки-мусмеи!
Тише, что это? музыка, свет?
Бонзы, трубы, фонарики, змеи!
 Андрей Белый. Портрет работы Льва Бакста (фрагмент)
Андрей Белый. Портрет работы Льва Бакста (фрагмент)
Проникновение Японии в тогдашний русский быт ярко, хотя и шаржированно, описал замечательный поэт и прозаик Андрей Белый в романе «Петербург», вершине русской символистской прозы: «Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы, — все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двери слетающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма — пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой». Хронологически это совпало с русско-японской войной, влияние которой на русскую культуру было большим и парадоксальным. На поле боя японцы были противником, которого требовалось победить. В остальной России умные и просто любопытные люди захотели узнать, что же это за страна Япония, с которой мы воюем. И от которой вскоре начали терпеть поражение за поражением, несмотря на успокоительные заверения министров и генералов и хвастливый тон газет и лубочных стихов. Осенью 1904 года, в самый разгар боев в Маньчжурии, два номера «Весов» — лучшего журнала русского символизма — были оформлены в японском стиле с использованием цветных гравюр укие-э «из собрания редакции». Это было сделано по инициативе идейного руководителя «Весов» Валерия Брюсова и издателя Сергея Полякова. Объясняя знакомому литератору смысл этой — по военному времени не только вызывающей, но и рискованной — акции, Брюсов писал: «„Весы“ должны среди двух партий японофильствующих либералов и японофобствующих консерваторов занять особое место. „Весы“ должны во дни, когда разожглись политические страсти, с мужеством беспристрастия исповедать свое преклонение перед японским рисунком. Дело „Весов“ руководить вкусом публики, а не потворствовать ее инстинктам». «Помещая в этом номере ряд воспроизведений японских рисунков — гласила заметка „от редакции“, — мы хотим напомнить читателям о той Японии, которую все мы любим и ценим, о стране художников, а не солдат, о родине Утамаро, а не Оямы». Но читателям тогдашних газет командующий японской армией в Маньчжурии маршал Ояма Ивао был, конечно, известен куда лучше, чем Утамаро, певец пленительных красавиц и чайных домиков.
 Валерий Брюсов
Валерий Брюсов
Брюсов был не только эстетом, но и политиком, и считал себя наследником Тютчева. Перед войной с Японией он выступал пропагандистом русской экспансии и на Ближнем, и на Дальнем Востоке. Когда война уже казалась неизбежной, он написал знаменитое стихотворение «К Тихому океану», решительно заявляя о преимущественных и даже монопольных правах России на господство в этих краях:
Дай утолить нашу старую страсть
Полным простором!..
Чудо свершилось: на грани своей
Стала Россия[25].
И снова все в веках, далеко,
Что было близким наконец, —
И скипетр дальнего Востока,
И Рима Третьего венец!
Лай наступающих ратей
Слышишь ли, царь Николай?
В блеск восходящего солнца,
Став под окошко тюрьмы,
Желтая рожа японца
Выступит скоро из тьмы…
Скоро уж маршал Ояма
С музыкой в город войдет.
Симфония синего с белым
На небе; земля предо мной —
Цветная гравюра японца:
Над желтым песком онемелым
Лес выгнут зеленой стрелой
Пруд синий — весь в искрах от солнца.
Мы не ведаем распрей народов, повелительных
ссор государей,
Я родился слагателем сказок, Вы — плясуньей,
певицей, актрисой.
И в блистательном громе оркестра, в электрическом
светлом пожаре
Я любил Ваш задумчивый остров, как он явлен
был темной кулисой.
И пока Вы плясали и пели, поднимали кокетливо
веер,
С каждым мигом во мне укреплялась золотая
веселая вера,
Что созвучна мечта моя с Вашей, что Вам также
пленителен север,
Что Вам нравятся яркие взоры в напряженных
глубинах партера.
 Николай Гумилев
Николай Гумилев
Русские японески вскоре приняли еще одно обличье — стилизаций классической японской поэзии (танка и хайку) и подражаний ей. Первые оригинальные танка в России создал неутомимый энциклопедист Брюсов. В начале 1910-х годов он задумал грандиозную книгу «Сны человечества», которая призвана была воспроизвести «на русском языке, в последовательном ряде стихотворений все формы, в какие облекалась человеческая лирика». «Это не должны быть ни переводы, ни подражания, — писал он в предисловии к задуманному труду, — но ряд стихотворений, написанных в тех формах, какие себе создавали последовательно века, чтобы выразить свои заветные мечты. Мне хотелось бы перенять не столько внешности различных образцов лирики, сколько их дух». Разумеется, одному человеку, даже такому разносторонне образованному и гениально одаренному, как Брюсов, было не под силу передать все формы лирики — как по качественным, так и по количественным «показателям». Неудивительно, что выполнена была только малая часть задуманного. Но в разделе с ожидаемым названием «Страна вееров» появились такие стихи:
Устремил я взгляд,
Чуть защелкал соловей,
На вечерний сад;
Там, средь сумрачных ветвей,
Месяц — мертвого бледней.
По волнам реки
Неустанный ветер с гор
Гонит лепестки.
Если твой я видел взор,
Жить мне как же с этих пор?
 Сада Якко. Рисунок Макса Слефогта
Сада Якко. Рисунок Макса Слефогта
В XX веке традиционные формы японской поэзии были восприняты и адаптированы европейской и американской литературой, включая ее крупнейших мастеров (Гийом Аполлинер, Эзра Паунд, Георгос Сеферис). Русские были одними из первых, о чем в Европе забывают. Кроме Брюсова, с разным успехом свои силы в танка и хокку пробовали классики русской поэзии Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Велимир Хлебников, а также забытые поэты Самуил Вермель, Дмитрий Святополк-Мирский (впоследствии известный критик) и некий Matroy. Белый в 1916 году облекал в эту форму мистические образы антропософского учения Рудольфа Штейнера, которым тогда увлекался:
Светлы, легки лазури:
Они — черны: без дна!..
Там — мировые бури…
Так жизни тишина:
Она, как ночь, черна.
Голых веток оснежен излом.
Круглый месяц на дне
Голубом.
Ворон на ветке во сне
Снег отряхает крылом.
Ложь в глазах твоих
Я принял так любовно.
Отчего ж красны
Непорочные губы
И кисти стиснутых рук?
В твои зеркала
Отражу бытие от Свечей восковых.
Буду счастлив вдвойне, как
Нашедший алмаз ввечеру.
Мне памятен любимый Небом край.
Жемчужною он раковиной в Море
Возник давно, и волны в долгом хоре
Ему поют: «Живи. Не умирай».
Живи. Светись. Цвети. Люби. Играй.
Ты верным сердцем с Солнцем в договоре.
Тебя хранит, весь в боевом уборе,
Влюбленный в Корень Солнца самурай.
Весь остров, как узор живого храма.
Взнесенный ирис, как светильник, нем.
Как слово песни — чаша хризантем,
Окно в простор. В нем золотая рама.
Поля. Сады. Холмы. И надо всем
Напев тончайших линий, Фуджи-Яма.
 Константин Бальмонт
Константин Бальмонт
«Я как во сне, — писал он приятельнице, извиняясь за „беглые строки“. — Не ожидал, что так прекрасна Япония, или, вернее, знал это, но не ожидал, что я буду захвачен так полно. А еще нужно прибавить, что меня знают в Японии (это для меня полная неожиданность) и меня совсем взяли в плен сотрудники разных газет, в которых сегодня разные очерки обо мне. Не дивно ли, что меня здесь узнают на улицах?» Знавший громкую славу и ощущавший ее закат, Константин Дмитриевич был по-детски чувствителен к любым проявлениям интереса и внимания к нему. С другой стороны, Япония еще не была избалована визитами иностранных знаменитостей, тем более воспринимавших все с неподдельным восторгом, — по понятиям тех лет европейцу полагалось смотреть на азиатов пусть и с любопытством, но свысока. «В Токио меня замучили литературные посетители, — кокетливо жаловался Бальмонт в письмах, но видно, что „мучение“ доставляло ему неподдельное удовольствие. — Оказывается, я очень известен в Японии. Вчера в нескольких газетах токийских были помещены мои стихи и статьи обо мне… Японские журналисты прославили меня в Токио». «Я не знал даже, — говорил он газетчикам несколько месяцев спустя, — что мое имя хоть кому-то там известно. А меня в каждом городе встречало такое внимание, как будто я давно был жданным другом». В последних словах виден несомненный укор русскому читателю, у которого уже появились иные кумиры. Насколько справедливы «жалобы» Бальмонта? Частично на этот вопрос ответила Вера Дмитренко, корреспондент владивостокской газеты «Далекая окраина», сопровождавшая его в путешествии. «Не успел поэт въехать в столицу Японии, как со всех сторон его начали осаждать представители японской прессы, молодые поэты, редакторы журналов, переводчики и фотографы. Все они желали так или иначе запечатлеть в своей памяти встречу с знаменитым русским поэтом. Целый вечер и все утро последующего дня пришлось Константину Дмитриевичу, не покладая рук, писать автографы, вести трудные, подчас утомительные разговоры с слабо понимающими русский и английский язык репортерами (извечные „трудности перевода“. — В. М.). Приходилось сниматься для разных газет в разных позах и видах. В этом огромном интересе японцев к знаменитому русскому поэту было много трогательного. Трудно было предположить, что его знают, читают и любят в такой чуждой, казалось бы, стране, как Япония. Я сомневаюсь, — наставительно заметила журналистка, — что у нас в России даже люди интеллигентные, литературно образованные сумели бы назвать два-три литературных японских имени. А они и в этом отношении знают о нас больше, чем мы о них». Сейчас, через сто с лишним лет, ситуация выглядит с точностью до наоборот: русские читатели раскупают не только Мураками Харуки и Мураками Рю, но даже какого-нибудь Мамору Ногами, а японцы по-прежнему сводят разговор о России к Толстому, Достоевскому и Чехову. Может быть, журналистка, руководствуясь рекламными соображениями, преувеличила интерес к поэту? Ничуть не бывало. Отклики токийской прессы, приведенные в книге К. М. Азадовского и Е. М. Дьяконовой «Бальмонт и Япония», свидетельствуют, что интерес был неподдельным и что японская публика была неплохо осведомлена о том, кто пожаловал к ней в гости. Вот некоторые из них: «Яркая звезда поэтического мира современной России, пользующийся широкой известностью в странах Европы г-н Бальмонт прибыл из России… Мы не можем не выразить живейшей радости, которую разделяет весь наш литературный мир от нежданной встречи с новой поэтической звездой Севера». «На дне его выразительных глаз — когда он встряхивал густыми золотистыми волосами, спадающими на плечи, — сверкают молнии. В них отразились пылкие чувства основателя нового романтизма в России». «Г-на Бальмонта можно назвать человеком, который на современном опыте выстрадал новое литературное направление. Он всегда чутко внимал своему назначению поэта». «Г-н Бальмонт — человек сильный, по-детски простодушный и самоуверенный, говорит о своих стихах с гордостью. Он превосходит других поэтов в стихотворениях-импровизациях. По-человечески Бальмонт прост, как дитя, но и мятежен, неуспокоен. В стихах его нет глубоких философских мыслей, но у него есть много произведений, в которых ощущаются эстетическая глубина и полнота». Среди принимавших гостя японских литераторов особое место занимал Нобори Сему, профессор Токийского императорского университета, изучавший русский язык в семинарии при духовной миссии владыки Николая. Автор широко известных книг и статей о современной русской литературе, в том числе о Льве Толстом, Нобори в 1915 году подробно написал о Бальмонте в монографии «Современные идейные течения и литература в России». Еще в 1910 году 23 стихотворения Константина Дмитриевича с его автобиографией и портретом вошли в составленную Нобори антологию «Собрание шести авторов». Личное знакомство укрепило давние симпатии японского литератора к Бальмонту, стихи которого он переводил и позже и о котором многократно писал.
 Сборник Константина Бальмонта на японском языке «Воспевая Японию» (1922) с русским заглавием «Венок Красивому Острову» на переплете
Сборник Константина Бальмонта на японском языке «Воспевая Японию» (1922) с русским заглавием «Венок Красивому Острову» на переплете
Основное внимание Бальмонт уделил памятникам старины: побывал в древних столицах Камакуре, Киото и Наре и осмотрел знаменитые храмы Никко, о которых японская пословица говорит: «Не увидев Никко, не суди о совершенстве». «Вся Япония chef d’оеuvre, вся она воплощение изящества, ритма, ума, благоговейного трудолюбия, тонкой внимательности»; «Япония — лучезарный сон», — такими восторженными фразами пестрят письма поэта. «Я всегда испытывал по отношению к японцам предубеждение. Оно было совершенно ошибочным, — признавался Бальмонт. — Японцы именно один из немногих народов на земле, которые обладают особой притягательной для меня силой. Воплощение трудолюбия, любви к земле, любви благоговейной к своей работе и к своей родине, внимательности изящной, деликатности безукоризненной и первобытности, не утраченной при цивилизованности в лучшем смысле». Особое впечатление на романтически настроенного и влюбчивого гостя произвели японки. Об этом с мягким юмором написал встречавшийся с ним Павел Васкевич: «В памяти воскресает появившийся в посольстве Бальмонт в сопровождении двух прелестных его спутниц, поклонниц его поэтического творчества[28]. Был субботний день, и мы вместе возвращались в Камакуру. Вагон, в который мы попали, случайно оказался заполненным японками высшего круга, проживающими летом в этом известном морском, ближайшем к Токио курорте. Нужно было видеть его растерявшееся от восторга выражение глаз, вглядывавшегося то в одну из них, то в другую. Это не могло остаться незамеченным японками, и каждая из них старалась, видя проявленный к ним интерес со стороны иностранца, едва заметным поворотом тонкой шейки, свойственной им от природы очаровательной улыбкой привлечь его внимание. Не могло остаться незамеченным и выражение лиц на его спутницах, которые напомнили мне растерявшуюся наседку, когда подросшие цыплята разбегаются во все стороны из-под ее крыльев и она тщетно старается вернуть их под свое крылышко. В понедельник Бальмонт снова появился в посольстве и прочел нам стихотворение, посвященное японцу и японке, в котором действительно им выявлен особый дар Божий, давший ему возможность видеть то, что и мы, смертные, видим, но не замечаем». Вот этот изящный сонет:
Японка, кто видал японок,
Тот увидал мою мечту.
Он ирис повстречал в цвету,
Чей дух душист и стебель тонок.
Японка, ты полуребенок,
Ты мотылечек на лету,
Хочу вон ту и ту, и ту,
Ты ласточка и ты котенок.
Я слышал голос тысяч их,
Те звуки никогда не грубы.
Полураскрыты нежно губы —
Как будто в них чуть спетый стих.
Всегда во всем необычайна
Японка — и японцу — тайна.
 Японки — такими их видел Бальмонт. Открытка
Японки — такими их видел Бальмонт. Открытка
В письмах к друзьям признания поэта тоже были по-бальмонтовски преувеличенно восторженными и красочно-велеречивыми: «Я влюблен в отвлеченную японку, и в нее нельзя не быть влюбленным. Так много во всех японках кошачьей и птичьей грации. Это сказочные зверьки. Это не человечицы, а похожие на человеческих женщинок маленькие жительницы другой планеты, где все иное, очертания, краски, движения, закон соразмерностей. Когда они откликаются на зов, они произносят быстрым, охотным, полудетским голоском „Э!“ или „Ай!“. Это „Ай!“ так обворожительно, что оно мне, верно, будет сниться всю жизнь. И они радостно счастливы от каждого обращения к ним. Им весело побежать, качаясь маленьким тельцем, и принести что-нибудь. Они — воплощение изящной внимательности». Впечатления долго не отпускали поэта. По возвращении он сразу же начал строить планы новой поездки в Японию на будущий год, чтобы «там сидеть сколько угодно в одном месте, никуда не торопясь», тем более что японские литераторы звали его читать лекции. Живя в Москве, он продолжал изучать японский язык и общаться с тамошними японцами, включая поэтессу Ямагата Инамэ, которой посвятил стихотворение: «Мне лепесток дала японка, и расцвела весна в зиме». Однако этим планам не суждено было осуществиться: в 1920 году он уехал во Францию в «творческую командировку», которая, вскоре обернувшись эмиграцией из Советской России, продолжалась до смерти поэта в конце 1942 года. Бальмонт много путешествовал и много писал об увиденном в стихах и прозе. Две недели в Японии дали неплохую, даже при его легендарной плодовитости, жатву: 12 стихотворений, частично вошедших в сборник «Сонеты солнца, меда и луны» (1917), полдюжины очерков (последний опубликован в 1934 году!) и большой цикл переводов, точнее, переложений танка и хокку, включенных в сборник «Зовы древности» (1920). Японским языком Бальмонт так всерьез и не овладел, а потому пользовался подстрочниками и переводами на европейские языки, компенсируя недостаток знаний вдохновением и влюбленностью. Вот как зазвучал под его пером знаменитый поэт и прозаик IX века Ки-но Цураюки:
Сердцу ль человека
После мглы разлуки
Вспомнить человека?
Но цветы все те же, —
Дышат так, как прежде.
Разлука с жизнью.
Немножко дыма
От фимиама.
Немножко пепла.
Земля, прощай.
Душистым вечером гремит так звончато
Концерт фонариков в стране Ниппон.
Ликуй, Япония! Где жизнь утончена,
Где гейши веселы, там весел звон.
Вся в озарении, цветеньи сливовом
Ты дышишь влагою, восходный свет.
Деревья белые! Привет, счастливые!
Деревья алые! И вам привет!
Как ты изысканна, благоуханная!
Как ты пленительна, сердца пленив!
Клонитесь грезово, головки пьяные
Цветов камелии и ветви слив!
Деревья бедные, деревья алые,
Озвоньте шелестно сады утех!
Здесь губы женские всегда коралловы,
Здесь гейши веселы и весел грех.
Греши, Япония! Весной, как зарево,
Растут слепительно твой смех, твой звон.
О, как блистателен концерт фонариков
На шумных улицах в стране Ниппон!
Он был сделан из картона
В назидание народу.
И на выставке, у входа,
Он стоял — опора трона.
И торжественно держал
Веер, зонтик и кинжал.
Был веселый вечер вешний.
Доцветали черешни,
И гуляли по дорожкам
Дети, странные немножко:
Желтые, в тугих прическах,
Словно куколки из воска,
Шли, дурачились, играя,
И толкали самурая.
И нестрашно там, у входа,
Он стоял — гроза народа —
Очень строгий и бонтонный,
Но картонный, ах, картонный!
Фонарики мерцали,
Колокольчики звенели,
И бутонами качали
Заалевшие камелии.
Еле слышно пахли вишни,
И под ветром, еле слышным,
В теплом воздухе дрожал
Веер, зонтик и кинжал.
В хрустальном опрокинутом ковше
Японского фарфорового неба
Рассыпаны в молочной пороше
Гирляндой облаков одежды Феба.
А по морю — оранжевый налет,
Как чай, едва заваренный, с лимоном,
И снежной чайки еле слышный взлет
В раскрытых крыльях со стеклянным звоном.
На рейде — ослепительный закат;
Иголки мачт в прозрачность вод упали;
Одетые в затейливый наряд
Японки тушью их нарисовали.
Над зыбью плещутся желтеющим пятном
Огромной бабочки порхающие крылья;
Водоворот под шумным колесом
Блестит тончайшей золотистой пылью.
Растаял ветер. Тонущий мираж
На парусах дрожит в очарованьи,
И обнят кораблями знойный пляж,
Завороженный томным ожиданьем.
В японском городе Киото
Живет малютка гейша Дотто.
Она рисует по фарфору
Вишневый садик, птичек, горы.
В японском городе Киото,
В шелках, расшитых позолотой,
Потомок древних самураев
От страсти к Дотто умирает.
В японском городе Киото
Стоянка английского флота[29],
И привлекает капитана
Весь облик Дотто иностранный.
В японском городе Киото
Зимует русская пехота,
И русский офицер, конечно,
Малютку Дотто любит вечно.
Так предначертано судьбою —
Они встречаются все трое.
Не избежать теперь расчета,
И офицер стреляет в Дотто.
Но сам он падает от раны
Под острой шпагой капитана.
«Британцы все — на первом месте!
Никто не скроется от мести».
Но вызов тот не принимает
Потомок древних самураев.
«Я должен быть единым в мире».
Сказал и сделал харакири.
Так умерла малютка Дотто
В японском городе Киото.
Он юнга. Родина его Марсель.
Он обожает ссоры, брань и драки.
Он купит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.
У ней такая маленькая грудь,
На ней татуированные знаки…
Но вот уходит юнга в дальний путь,
Расставшись с девушкой из Нагасаки.
Но и в ночи, когда ревет гроза,
И лежа в жаркие часы на баке,
Он вспоминает узкие глаза
И бредит девушкой из Нагасаки.
Янтарь, кораллы красные, как кровь,
И шелковую кофту цвета хаки,
И дикую, и нежную любовь
Везет он девушке из Нагасаки.
Приехал он. Спешит, едва дыша,
И узнает, что господин во фраке
Однажды вечером, наевшись гашиша,
Зарезал девушку из Нагасаки.
Глава седьмая. К СОЮЗУ ДВУХ ИМПЕРИЙ
1916 год стал высшей точкой золотого века русско-японских отношений. Официальный визит в Японию великого князя Георгия Михайловича (в литературном отношении августейшим визитом можно считать приезд Бальмонта) и заключение русско-японского союзного договора показали, что отношения между нашими странами достигли своего зенита. Но чтобы в полной мере понять и оценить эти события, надо вернуться на пять лет назад. Летом 1911 года русский посол в Токио Николай Малевский-Малевич уезжал домой в очередной отпуск. Премьер-министр Кацура Таро, недавно получивший княжеский титул, навестил его перед отъездом и заявил: «Передайте кому следует в Петербурге, что правящие классы здесь сознают пользу и необходимость единения между правительством Японии и Россией. Если дружба наших народов будет развиваться дальше в том же направлении, то мы будем не только иметь преобладающее влияние на Дальнем Востоке, но и во всем мире». Главной темой беседы стало положение в Китае, который фактически перестал быть единым государством, распавшись на отдельные провинции. Японский премьер полагал, что финансы Поднебесной империи ждет скорое и неминуемое банкротство, а потому подумывал о том, чтобы предложить заинтересованным странам учредить контроль над ними. «К этому нам следует готовиться, — прямо сказал он русскому послу, — чтобы выступить совместно и добиться действительного обеспечения наших собственных интересов в Маньчжурии». В конце августа того же года кабинет Кацура ушел в отставку. Новым главой правительства стал князь Сайондзи Киммоти, считавшийся либералом и англофилом. Сообщая эти новости министру финансов Российской империи Владимиру Коковцову, Гото Симпэй, правая рука Кацура, заверял, что «перемена кабинета не повлечет за собою никаких перемен в области внешней политики Японии» и что «дружественные отношения между Россией и Японией никоим образом не могут быть поколеблены вследствие какой-нибудь внутренней политической перемены». «Я питаю твердую уверенность, — ответил ему Коковцов в соответствии с правилами дипломатического этикета, — что нынешняя Ваша отставка означает лишь кратковременный отдых и что в скором времени Вы снова на высоком государственном посту приложите Ваши высокие дарования и душевные силы на служение Вашей родине». Министр оказался прав: Кацура и Гото сразу же начали готовиться к возвращению во власть. В этом деле они сделали ставку на развитие отношений с Россией, считая, что только таким образом Япония сможет защитить и укрепить свои позиции в Китае, где в конце 1911 года произошла буржуазная революция. Двадцать шестого мая 1912 года Кацура сообщил Малевскому-Малевичу о задуманной поездке в Европу через Россию, «чтобы личными впечатлениями освежить давнишние воспоминания о европейских столицах». Он подчеркнул, что едет неофициально, но хочет повидаться с государственными людьми Европы и обменяться с ними мнениями, а потому его план одобрен императором и главой правительства. В Петербурге князь надеялся встретиться с Николаем II, премьером Коковцовым, занявшим этот пост после убийства Столыпина в 1911 году, и министром иностранных дел Сергеем Сазоновым, преемником Извольского. Кацура Таро
Кацура Таро
«Говоря о цели путешествия, — сообщал посол Сазонову, — князь Кацура сперва ограничился довольно неопределенными намеками на ту роль, которую он сыграл в деле сближения России и Японии; на его глубокое и искреннее убеждение, что сближение это должно все более и более крепнуть; что мир на Дальнем Востоке зависит от согласной политики обеих держав, и что он будет весьма счастлив, если его пребывание в Петербурге, хотя и не имеющее официального характера, принесет пользу упрочению дружбы между Россией и Японией». Малевский-Малевич вежливо, но настойчиво выспрашивал собеседника, о чем именно он собирается говорить с первыми лицами Российской империи. Предпочитавший выражаться уклончиво, Кацура в конце концов сказал, что «китайские смуты грозят всякими неожиданностями и осложнениями», поэтому России и Японии хорошо бы «поближе сговориться» о защите своих интересов как от возможных «неожиданностей», так и от вмешательства других стран, в первую очередь Великобритании и Соединенных Штатов. Китайскую тему экс-премьер развил в новой беседе с Малевским-Малевичем 15 июня, приехав в русское посольство за час до официально назначенного времени, чтобы спокойно поговорить о предстоящей поездке. Заметив, что «Россия и Япония заинтересованы в Китае территориально, тогда как другие державы имеют там только экономические выгоды», Кацура, на сей раз без экивоков, предложил Петербургу оказать совместное с Токио давление на Пекин и принять участие в деятельности консорциума (банковской группы) четырех держав — Англии, Франции, Германии, США — которые еще в конце 1910 года предложили взять на себя руководство финансами Китая. Ни Россия, ни Япония не располагали крупными свободными денежными средствами, поскольку сами зависели от иностранных займов, но неучастие в «группе четырех» ставило под угрозу их позиции в регионе и международный престиж в целом. Сославшись на союз России с Францией, а Японии с Англией, Кацура предложил преобразовать «группу четырех» в «группу шести». Князь «убедительно просил меня подтвердить перед вами, — сообщал Малевский-Малевич своему шефу Сазонову, — что он искренний сторонник тесного соглашения между Россией и Японией для блага обоих государств и всеми зависящими от него средствами будет стремиться к достижению такого сближения». Это была конкретная и далеко идущая программа, поэтому посол сделал вывод, что «Кацура предпринимает свое путешествие с какой-либо определенной политической задачей или, по крайней мере, с поручением исследовать почву для дальнейшего направления японской политики». Князь выразил надежду, что в Петербурге его внимательно выслушают и что «он встретит ту же откровенность, с которой намерен излагать свои мысли». Но при этом он опять напомнил, что не уполномочен официально вести переговоры и заключать соглашения: японцы оставались верны излюбленной «официальной-неофициальной» тактике. Шестого июля 1912 года Кацура со свитой (первым лицом в ней был Гото) отбыл из Токио, провожаемый толпой политиков, чиновников, дипломатов, газетчиков и просто любопытствующих, а также полицейских. Долгое путешествие прошло без происшествий, хотя японцы опасались покушений со стороны корейских террористов во время проезда по КВЖД и Транссибирской железной дороге и просили российские власти принять максимальные меры предосторожности. Через две недели делегация прибыла в Петербург. Время было выбрано удачно: 8 июля Сазонов и Мотоно подписали секретное соглашение о разграничении сфер влияния во Внутренней Монголии, обособившейся от Китая после произошедшей там революции.
 Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Двадцать шестого июля Кацура и Сазонов обсуждали китайские дела, сойдясь во мнении о необходимости согласованных действий. «Он (Кацура. — В. М.) предвидит возможность наступления такого момента, — докладывал министр иностранных дел Николаю II, — когда России и Японии придется перейти к более активной политике в Маньчжурии и к военному занятию каждою из них некоторых пунктов в сфере ее влияния… В заключение мы условились, что при посещении английского двора осенью текущего года я (Сазонов. — В. М.) буду зондировать почву, чтобы узнать, как отнесся бы Сент-Джемский кабинет[30] к оккупации Маньчжурии. Князь Кацура находил это весьма желательным и просил меня не скрывать от английских министров, что, говоря от имени российского правительства, я являюсь выразителем взглядов, пользующихся полным сочувствием Японии». Однако Сазонов, как видно из его же подробного доклада царю о визите в Лондон, обещания не сдержал, вообще не коснувшись вопроса о Маньчжурии. Руководство российской дипломатии в лице Извольского и особенно его преемника Сазонова все-таки недооценивало сотрудничество с Японией, делая главную ставку на европейских союзников. А этот путь вел прямиком к мировой войне. Далеко идущие планы японских гостей разрушила внезапная — и, как вскоре стало ясно, смертельная — болезнь императора Мэйдзи. Пятнадцатого июля он, несмотря на нездоровье, пришел на заседание Тайного совета, где обсуждались новое соглашение с Россией и общее состояние двусторонних отношений. Девятнадцатого июля монарх слег окончательно. Днем позже последовало официальное объявление о его тяжелой болезни, означавшее, что надо готовиться к худшему. Кацура и его спутники поспешили домой, отказавшись не только от запланированных в их честь обедов и банкетов, но даже от аудиенции у царя, в то время как их самодержец лежал при смерти в Токио. Но так и не успели: в ночь с 29 на 30 июля император Мэйдзи скончался. Покинув Петербург 28 июля, Кацура и его спутники ехали по бескрайним просторам Евразии, рассматривая пейзажи за окнами комфортабельного салон-вагона. Мысли их были заняты здоровьем, а затем и кончиной августейшего повелителя, но они не могли не думать и об итогах преждевременно завершившейся миссии. Она закончилась ничем, не дала осязаемых результатов, но в любом случае не по их вине. В японской и зарубежной печати стали появляться «кисло-сладкие» комментарии, хотя отклики русской прессы были сугубо благожелательны и оптимистичны. Что думали сами визитеры? «Барон Гото вспоминает о своем кратком пребывании в Петербурге и Москве, — писал Малевский-Малевич Сазонову вскоре после возвращения высоких гостей из России, — с большим удовольствием. Его поразила та перемена, которую он заметил у нас со времени своего последнего приезда в Россию, четыре года тому назад. Особенно бросились ему в глаза необыкновенное оживление торговли в Москве и множество новых строений, воздвигнутых на главных улицах первопрестольной. Он остался, видимо, тоже весьма доволен приемом, оказанным у нас ему и его спутникам. Барон Гото полагает, что свидание князя Кацура с русскими государственными людьми будет способствовать укреплению дружественных отношений между обоими государствами». В Токио князя ждал огромный сюрприз: после смерти императора Мэйдзи правительство и государственные старейшины гэнро решили поручить ему одновременно две важных должности — лорда-хранителя печати и министра императорского двора. Новый монарх также сделал его одним из гэнро. В результате Кацура стал ближайшим политическим советником императора Тайсе (Есихито), но выпал из текущей политической борьбы и не рассматривался как кандидат в премьеры.
 Император Тайсё
Император Тайсё
Существовало еще одно деликатное обстоятельство, известное лишь узкому кругу посвященных, о котором Гото счел нужным сообщить российскому послу, хотя и в уклончивых, осторожно подобранных выражениях. Император Тайсе, единственный доживший до совершеннолетия сын покойного императора, не был готов к управлению страной, хотя конституция 1889 года наделяла его почти абсолютной властью. Дело было в том, что через несколько недель после рождения будущий император перенес менингит, что наложило тяжелый отпечаток на всю его дальнейшую жизнь: кроме различных невралгий он страдал болезнями мозга, которые в скором времени после вступления на престол лишили его возможности выполнять даже церемониальные функции. Император стал пленником своего дворца, с 1918 года не показываясь на людях, а в 1921 году официально передал управление страной старшему сыну — будущему императору Сева (Хирохито), который получил статус регента. Умер он в конце 1926 года, в совсем другую историческую эпоху. В разговорах с Малевским-Малевичем Кацура благодарил за теплый прием во время визита и за меры по обеспечению его безопасности, подчеркнул необходимость согласованной политики в Китае, от которого отпали Маньчжурия, Монголия и Тибет, населенные некитайцами, но весь был устремлен в будущее. Новое назначение, усиленное присвоением ему ранга гэнро, князь просил считать «возвращением в строй». «Молодому императору, — объяснял он послу, — необходимо иметь постоянно при себе опытного советника, которому он вполне доверяет. Этой высокой роли руководителя молодого монарха в первых шагах его правления он, Кацура, посвятит все свои силы и все умение и надеется принести пользу своему отечеству и трону вдали от политических волнений… Всякий доклад, подносимый императору, и от него исходящие резолюции и повеления проходят через его руки, он поэтому все знает и за всем следит». Для дальнейшего развития отношений с Россией это было огромным преимуществом, но Кацура вскоре совершил роковую ошибку. После отставки в 1911 году он не оставлял надежды стать главой правительства, но вряд ли мог рассчитывать на то, чтобы занять одновременно две высших придворных должности, да еще при монархе, полностью зависевшем от его мнений и советов. Премьеры приходят и уходят, а лордом-хранителем печати и министром двора Кацура мог оставаться до смерти. Однако властолюбивого князя неудержимо потянуло в атмосферу «политических волнений».
 Сайондзи Киммоти
Сайондзи Киммоти
В начале декабря 1912 года премьер-министр Сайондзи подал в отставку из-за разногласий с армейским руководством. Общественное мнение, партии, парламент были возмущены диктаторским поведением военных и начали открыто критиковать их, но те не привыкли уступать. Семнадцатого декабря Кацура, ставленник армейских кругов и проводник их политики, сформировал правительство, несмотря на ураганный огонь критики со стороны оппозиции. Князю пришлось отказаться от придворных постов, что выглядело непочтительно по отношению к императору. Зачем он пошел на это? Был ослеплен жаждой власти? Ее у него и так было много. Решил по-наполеоновски «ввязаться в хороший бой, а там посмотрим…»? Непохоже на него — решительного, но при том опытного и осторожного политика. На приеме для дипломатического корпуса премьер излучал оптимизм и просил Малевского-Малевича передать наилучшие пожелания «друзьям в России», намекая на новый прогресс в двусторонних отношениях. Гото, получивший пост министра путей сообщения, заверил посла, что будет «по-прежнему прилагать посильные старания к укреплению дружественных отношений между Японией и Россией». Докладывая содержание беседы в Петербург, посол заметил, что Гото уклонился от обсуждения внутриполитических вопросов, ограничившись общими фразами. Наихудшие ожидания оправдались уже через несколько дней. Парламент, где большинство принадлежало оппозиции, собрался вынести правительству вотум недоверия, но Кацура несколько раз добивался перерывов в его работе. Возобновление сессии парламента 10 февраля сопровождалось беспорядками в Токио и других крупных городах, вроде тех, которые в сентябре 1905 года вызвало возвращение Комура из Портсмута. Демонстранты избивали сторонников премьера, не щадя даже депутатов, громили редакции правительственных газет и полицейские участки; полиция применила оружие, появились жертвы и арестованные. К вечеру порядок был восстановлен, но на следующий день кабинет подал в отставку, пробыв у власти рекордно малый срок — всего 62 дня. Здоровье Кацура было подорвано, и 10 октября того же года он умер.
 Автор у памятника Кацура Таро в кампусе университета Такусёку. Фото Ольги Андреевой
Автор у памятника Кацура Таро в кампусе университета Такусёку. Фото Ольги Андреевой
Кризис дискредитировал окружение экс-премьера и осложнил русско-японские отношения. Кацура и Гото впали в немилость у соотечественников не потому, что выступали за дружбу с Россией. Наоборот, к прорусским настроениям стали относиться с подозрением, потому что их носителями были такие одиозные люди. Приходит на ум аналогия с делом Судзуки Мунэо в 2002 году, когда гонениям подвергся влиятельный деятель правящей Либерально-демократической партии, занимавшийся среди прочего полуформальным и неформальным наведением мостов между Токио и Москвой. Политические противники из рядов своей же партии расправились с ним не из-за этого, а в соответствии с японской пословицей «Торчащий гвоздь забивают». Премьер-министр и глава ЛДП Коидзуми Дзюнъитиро, отличавшийся диктаторскими замашками, увидел в нем опасного конкурента в борьбе за политическую власть. Но шельмование и арест Судзуки, а также аресты и увольнения его ближайших сотрудников по русскому направлению, включая главного аналитика МИД Сато Масару, нанесли несомненный ущерб двусторонним отношениям. Использовали их и для дискредитации нашей страны: дескать, только нехорошие люди могли дружить с негодяем Судзуки. Отбыв тюремное заключение, он успешно вернулся в политику как оппозиционный член Палаты советников парламента. И по-прежнему занимается наведением мостов с Россией, часто мелькая в новостной ленте японских информационных агентств. Вернемся к дням минувшим. На смену Кацура премьер-министром стал профессионально не любивший Россию адмирал Ямамото Гомбэй (однофамилец знаменитого флотоводца времен Второй мировой войны), но уже через год ему пришлось уйти в отставку из-за коррупционного скандала. Его кресло занял антирусски настроенный либерал Окума Сигэнобу, которого Малевский-Малевич в одном из донесений остроумно назвал легкомысленным старцем. На первой же встрече с послом премьер сказал, что «считает себя другом России». Элементарная вежливость едва ли допускала обратное, но внимание собеседника привлекло не это, а замечание Окума о необходимости решения китайских вопросов при участии Англии и Франции. Сомневаться в характере нового правительства не приходилось. Он проявился в малоприятном инциденте, который случился как раз накануне Первой мировой войны. Выступая в середине июля 1914 года перед представителями деловых кругов, министр торговли и земледелия Оура Кэмму говорил о недостаточности вооруженных сил и безопасности Японии, готовя слушателей — избирателей на приближавшихся выборах — к тому, что обещанного снижения налогов не будет. Затем, попросив журналистов не записывать и не публиковать дальнейшее, заявил: «Некоторые японцы думают, что война между Японией и Россией будет не ранее как через 30–50 лет, но есть некоторые основания предполагать, что вторая война начнется через несколько лет». Слухи о, мягко говоря, недипломатичном заявлении министра проникли в печать. Оура опроверг их, но не сам, а через секретаря — так до сих пор делают японские политики, сталкиваясь с малоприятными проблемами. Тогда оппозиционная газета «Тюо» напечатала полный текст речи, который, разумеется, не прошел мимо внимания русского посольства и военного агента Самойлова, поскольку дело касалось увеличения вооружений. Малевский-Малевич немедленно запросил Сазонова, не следует ли обратить внимание МИД Японии на опасность подобных выступлений. «Та тревога, — пояснял он, — которую забили правительственные листки по поводу будто бы искажения некоторыми газетами речи министра, дает повод предполагать, что преднамеренности со стороны правительства в данном случае не было и что Оура должен нести лично ответственность за высказанные предположения. Член правительства позволил себе в публичном собрании произнести по адресу соседней дружественной державы предположения, которые способны породить тревогу и поколебать доверие к прочности взаимных отношений между обоими государствами и в незыблемости мира на Дальнем Востоке». В Петербурге сочли за лучшее обойтись без публичных демаршей, но полностью оставить выходку Оура без внимания тоже не хотели. Малевский-Малевич обратился с личным письмом к министру иностранных дел Като Такааки, англофилу и русофобу, вежливо, но многозначительно заметив: «Вашему превосходительству небезызвестно, что оба правительства — российское и японское — с 1907 года старательно борются с чувством недоверия, которое обе страны были склонны питать друг к другу после событий 1904 и 1905 годов, и стремятся успокоить вытекавшие из него обоюдные опасения. Эта благоразумная работа в интересах мира имела наилучшие результаты: прекрасные политические отношения, установившиеся и развивавшиеся между двумя правительствами в течение последних лет, нашли подкрепление в общественном мнении обеих наций и были поддержаны единодушным одобрением всех тех, кто близко принимает к сердцу существенные интересы двух наших государств». Министр незамедлительно ответил, что Оура «не так поняли» и «опять подставили» (выражения, конечно, не из его письма, а из более близкого нам времени, но смысл тот же), и поспешил заверить посла, что «счастлив выразить полное согласие с Вашими взглядами относительно ослабления обоюдных опасений двух наций со времени прискорбных событий 1904–1905 годов и добавить, что мы со своей стороны сделаем все возможное для достижения этой цели». Неприятный инцидент был исчерпан, а виновник беспокойства менее чем через год попался на подкупе избирателей и навсегда оставил политическую арену. Начало мировой войны, еще не называвшейся первой, на рубеже июля-августа 1914 года закрепило сложившуюся расстановку сил, намертво привязав Японию к Антанте. Она объявила войну Германии и приступила к захвату ее владений в Китае (крепость Циндао с прилегающей территорией) и на Тихом океане (Маршалловы, Марианские и Каролинские острова). Уже 5 августа 1914 года Малевский-Малевич сообщил в Петербург предложенный японцами проект союзного договора с Россией. Стороны подтверждали все имевшиеся и сохранявшие силу соглашения между ними, договаривались о совместных мерах по защите своих интересов и прав, предусмотренных этими соглашениями. Наибольший интерес представляла следующая статья: «Если та или другая из высоких договаривающихся сторон подверглась бы на Дальнем Востоке (выделено мной. — В. М.) нападению, другая сторона должна оказать ей поддержку или при помощи своих армий, или соблюдая самый строгий нейтралитет». Односторонняя выгода такого варианта для Японии была очевидной: она получала нейтралитет России на случай войны с Китаем или США, в то время как на Россию на Дальнем Востоке могла напасть только Япония. Николай II и Сазонов, озабоченные прежде всего положением в Европе, предложение отвергли. Однако на войне как на войне. Наличие общего врага — хороший стимул для укрепления союзнических отношений. Уже в сентябре 1914 года премьер Окума говорил Малевскому-Малевичу о ходатайствах японских резервистов, просившихся на русско-германский фронт. Через год он же советовал России перебросить войска с Дальнего Востока в Европу, пояснив: «Японская армия в случае надобности готова принять на себя поручение поддержать порядок» на русском Дальнем Востоке. От этой идеи наша страна, разумеется, отказалась, но допустила в действующую армию четырех японских офицеров в качестве наблюдателей.
 Танака Гиити
Танака Гиити
Одним из них был генерал-майор Танака Гиити, считавшийся в военных кругах восходящей звездой как стратег и знаток России. В 1898–1902 годах он служил помощником японского военного атташе в Петербурге, изучал русский язык и активно общался с русскими офицерами, по возвращении дружил с военным агентом в Токио полковником Самойловым, нередко делясь с ним конфиденциальной информацией, а позже стал военным министром и премьер-министром Японии[31]. Другим офицером-наблюдателем стал капитан Араки Садао — будущий генерал и военный министр, считавшийся в начале 1930-х годов потенциальным японским Гитлером, но не ставший им. В начале 1910-х годов он тоже служил помощником японского военного атташе в Петербурге и, подобно Танака, хорошо говорил по-русски. В тридцатые годы среди русских эмигрантов в Маньчжурии ходил слух, что Араки принял в России православие — такие слухи ходили и про Танака, в Петербурге исправно посещавшего по воскресеньям православные храмы, — и стал во крещении Саввой Даниловичем (видимо, производное от его имени Садао). Генерал покровительствовал антисоветски настроенным русским эмигрантам — что, впрочем, не мешало ему дружески общаться с советским полпредом Александром Трояновским — но до конца своей долгой жизни оставался настоящим самураем. Большевиков он не любил, но на Россию эта нелюбовь не распространялась. Коль скоро речь зашла о японских военных в нашей стране, следует назвать еще одну фамилию — офицера флота Енаи[32] Мицумаса, в будущем адмирала. Этот высокий, плотный человек с приятной улыбкой в 1915–1917 годах занимал должность помощника военно-морского атташе в Петрограде, вывезя из России не только хорошее владение ее языком, но и умение пить, не пьянея, изумлявшее соотечественников. Сохранились воспоминания, как он пил водку, наливая ее в стакан из чайника (видимо, память о сухом законе, официально действовавшем в России в годы Первой мировой войны), и, почти не сбиваясь, но с раскрасневшимся лицом, читал по-русски строфы «Евгения Онегина». Подобные навыки помогали ему находить общий язык с коллегами из других стран и получать от них ценную информацию. Впрочем, информацией он умел делиться и сам.
 Ёнаи Мицумаса. Собрание В. Э. Молодякова
Ёнаи Мицумаса. Собрание В. Э. Молодякова
Я вспомнил его неслучайно, хотя это герой другой эпохи: в 1937–1939 и в 1944–1945 годах он был морским министром в семи кабинетах, а в первой половине 1940 года сам возглавлял правительство. Нисколько не симпатизируя большевикам, Енаи выступал за нормальные отношения с СССР. Весной 1945 года он первым из влиятельных государственных мужей предложил обратиться к Москве с просьбой помочь Японии (тогда между нашими странами действовал договор 1941 года о нейтралитете) выйти из заведомо проигранной войны против США и Англии. Заслуживает упоминания и то, что после Второй мировой войны на Токийском процессе «главных японских военных преступников» Енаи оказался всего лишь свидетелем, хотя Араки, отрешенный от реальной власти в начале 1934 года, сидел на скамье подсудимых и был приговорен к пожизненному заключению. Тридцать лет назад, впервые рассказав российскому читателю об этой незаурядной личности, я в одной из статей предположил, не имея никаких доказательств, что дело не обошлось без участия Москвы. Удивившись, откуда я это знаю, ветеран нашей военной разведки, генерал-майор в отставке М. И. Иванов четко сказал мне: «Советская сторона не настаивала на предании Енаи суду». Как говорится, умному достаточно. И да не подумает читатель ничего дурного об этом настоящем самурае и патриоте Японии. В условиях Первой мировой войны русско-японский военно-политический союз должен был связать между собой действовавшие англо-японский и франко-русский альянсы. С точки зрения Японии он должен был гарантировать ее позиции в Восточной Азии после изгнания оттуда Германии. Двадцать второго января 1915 года Малевский-Малевич, пристально следивший за японской печатью и отмечавший малейшие изменения в тоне ее рассуждений, писал Сазонову: «Раздававшиеся в прессе с начала нынешней войны голоса о необходимости русско-японского союза сделались в настоящее время столь общим местом, что едва ли найдется во всей японской повременной (периодической. — В. М.) печати хоть один орган, который не обсуждал бы этого вопроса от времени до времени. Мысль о русско-японском союзе приобретает здесь все большее и большее распространение». Политики начали оживленно обсуждать, что такое союз. Большинство считало, что это договор со взаимным обязательством оказания военной помощи. Англо-японский союз, заключенный в 1902 году и обновленный с некоторыми изменениями в 1905 и 1911 годах, был именно таким. Возникал вопрос, нужен ли аналогичный договор с Россией. Либерально-западнические круги выступали за укрепление двустороннего сотрудничества в рамках имеющихся соглашений при сохранении стратегического курса на союз с Великобританией. Однако с конца 1915 года в прессе началась кампания против англо-японского союза, который стали называть странным и неравным. Аргументом в пользу отказа от него стало то, что союз уже выполнил свою главную задачу — защитил Японию от «русской экспансии». Еще в феврале 1914 года Танака Гиити писал: «В день, когда мы увидели рукопожатие России и Британии, англо-японский союз стал пустым звуком». Теперь Россия и Британия стали полноправными союзниками в войне. Сотрудничество двух держав подкреплялось российскими военными заказами, о подлинном значении которых историки спорят по сей день. С одной стороны, Япония, несмотря на постоянные просьбы из Петрограда, приступила к поставкам только с января 1915 года[33], стремясь продавать устаревшее (хотя и исправное) вооружение и брать за него подороже. С другой стороны, Россия быстро закупила и заказала 335 тыс. винтовок и 87,5 млн патронов к ним, 351 орудие, около 70 тыс. снарядов, 10 млн аршин мундирного и шинельного сукна, более 600 тыс. пар сапог, 30 тыс. седел и т. д. — всего на 80 млн иен[34]. Чтобы представить размер этой суммы, скажу лишь, что за год японский экспорт в Россию вырос в девять с лишним раз — с менее чем 10 млн иен в 1914 году до более чем 90 млн иен в 1915 году. Любому, кто хоть немного разбирается в военном деле, ясно, что это много, особенно на фоне огромных материальных потерь русской армии в первый год войны. Одиннадцатого августа 1915 года Сазонов просил Мотоно обеспечить продажу миллиона винтовок, купить которые было больше негде (рассматривались варианты их приобретения у Италии и Сиама, нынешнего Таиланда). «Удовлетворением этой нашей просьбы, — сказал русский министр, — японское правительство окажет нам услугу, которая не забудется в России и определит навсегда дружественное Японии направление русской политики». Однако у японцев такого количества винтовок не было, а разоружать собственную армию, даже в пользу союзника, они не собирались. Тем временем Япония продолжала демонстрировать России свое дружелюбие. Популярный журнал «Огонек» в № 18 за 1915 год опубликовал заметку «Базар в Харбине с гейшами в роли продавщиц»: «Японским консульством при участии всей японской колонии города Харбина был организован художественный базар в пользу русских воинов и их семейств. На базаре продавались разные японские шелковые изделия, изящные рукоделия, вышивки, ткани, игрушки и украшения для комнат. Продавали на базаре изящно разодетые гейши и японские дамы. Чистая выручка базара — 3000 руб.». Это лишь занятная иллюстрация к более серьезным сюжетам. В августе 1915 года министр иностранных дел Японии Като Такааки, бывший посол в Лондоне и один из авторов англо-японского союза, ушел в отставку. Его сменил посол во Франции Исии Кикудзиро. В начале осени Гото сообщил Малевскому-Малевичу, что с приездом нового министра из Европы начнутся переговоры о русско-японском союзе. Прелюдией к заключению союза стал официальный визит в Страну восходящего солнца в январе 1916 года великого князя Георгия Михайловича, приходившегося Николаю II двоюродным дядей и имевшего чин генерала от инфантерии. Занимавший звучную должность особоуполномоченного царя при ставке Верховного главнокомандования, августейший гость ничего не решал, но это от него и не требовалось. Он ехал в Японию, чтобы передать официальные поздравления российского венценосца по случаю коронации императора Тайсе и тем самым загладить неловкость, вызванную отсутствием представителей русского царствующего дома на похоронах императора Мэйдзи тремя годами ранее (британского короля Георга V и германского кайзера Вильгельма II представляли их младшие братья). Георгий Михайлович был не первым из Романовых, кто посетил Японию. Там бывали «августейшие моряки» — великие князья, избравшие службу во флоте и совершавшие кругосветное плавание, — Алексей Александрович, Александр Михайлович (единственный из них, кто оставил об этом воспоминания) и Кирилл Владимирович, который в 1904 году чудом спасся при взрыве броненосца «Петропавловск». В 1891 году в Японию во время кругосветного путешествия приезжал наследник цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II, который во флоте не служил, но был отправлен отцом, Александром III, повидать мир. Здесь в городе Оцу, неподалеку от Киото, с ним произошел трагический инцидент: полицейский Цуда Сандзо, стоявший в оцеплении, бросился к проезжавшему на рикше гостю и ударил его саблей по голове. Нападавшего тут же схватили, раненому оказали первую помощь, император Мэйдзи немедленно приехал в Киото, чтобы принести извинения и сгладить возможные последствия. Официально инцидент был урегулирован, хотя программу визита сократили за счет посещения Токио, но Николай невзлюбил японцев, которых в узком кругу стал презрительно называть макаками. От этого его излечило только поражение 1905 года. После русско-японской войны царь сам выступил за скорейшую нормализацию и развитие отношений с Японией, исходя из государственных интересов. Но отсутствие его родственников на похоронах императора Мэйдзи и двухнедельный траур в Петербурге по этому случаю вместо положенных четырех недель — в этом историки видят личный момент. По мнению П. Э. Подалко, «трудно поверить, что Николай II, чья деликатность и щепетильность в соблюдении приличий были общеизвестны, сделал это по небрежению. Скорее всего, это можно расценить как реакцию человека, не забывшего инцидент двадцатилетней давности… Он никогда и ничего не забывал. Шрамы от удара саблей зажили очень быстро, но Николай впоследствии всю жизнь страдал головными болями, о чем признавался только в кругу своих близких».
 Наследник Цесаревич Николай Александрович в г. Нагасаки в коляске-рикше. 1891
Наследник Цесаревич Николай Александрович в г. Нагасаки в коляске-рикше. 1891
Георгий Михайлович оказался первым из Романовых, кто отправился в Японию по государственному делу, и последним, кто там побывал. Принимали его не только с соблюдением всех тонкостей протокола и этикета, но с желанием проявить максимум такта и сердечности. Навстречу ему к корейским берегам был выслан броненосец эскорта, причем при прохождении Цусимского пролива японские официальные лица тактично удалились с палубы. Правда, великий князь не мог не помнить, что многие из орденов на мундирах встречавших его получены за победы над Россией. На вокзале в Токио его встретил сам император, редко покидавший дворец. Гость из России привлек всеобщее внимание не только важностью миссии и пышностью свиты, но импозантностью и ростом: после Павла I почти все мужчины в семье Романовых, за приметным и символическим исключением последнего самодержца, были выше 190 см, а такой рост — редкость и в сегодняшней Японии. Георгий Михайлович встречался с министрами и принцами, генералами и банкирами, давал и выслушивал обещания, произносил тосты на банкетах, принимал парады и обменивался подарками. По свидетельству министра земледелия А. Н. Наумова, великий князь был «очарован государственным механизмомЯпонии, особенно существованием около монарха регулирующего его действия учреждения — гэнро». С государственными старейшинами Георгий Михайлович познакомился лично: уже на второй день пребывания в Токио он вручил маршалу Ямагата орден Александра Невского, а по возвращении в Россию уговаривал Николая II поступиться хотя бы частью власти, поделившись ей с великими князьями наподобие «ближних бояр» допетровского времени. Ничего этого царь, как известно, не сделал и делать не собирался. Япония очаровала Георгия Михайловича и с эстетической точки зрения. Знаток и ценитель искусства, он мечтал стать художником-портретистом, но был вынужден отказаться от «нецарского» дела, ограничившись директорством в Русском музее со дня его основания.
 Великий князь Георгий Михайлович. Портрет работы В. А. Серова
Великий князь Георгий Михайлович. Портрет работы В. А. Серова
Собственно, о делах великий князь почти не говорил. Этим занимался сопровождавший его начальник дальневосточного отдела МИД Григорий Александрович Козаков, хорошо знавший Японию, ее язык и нравы: он еще во второй половине 1890-х годов стажировался при русской миссии в Токио, а после восстановления дипломатических отношений в 1906 году стал ее первым секретарем. Младшему коллеге Дмитрию Абрикосову (в 1913–1914 годах второй, с 1916 год первый секретарь посольства в Японии) Козаков запомнился как «один из замечательнейших людей, кого я встречал по службе: умный, трудолюбивый, поглощенный работой. Было интересно наблюдать, как один человек, одержимый идеей восстановления позиций России на Дальнем Востоке, смог за такое короткое время заставить всех забыть об ужасных последствиях войны. Он делал это без мысли о собственном продвижении, ибо мало кто знал подлинного автора нашей успешной дальневосточной политики — вся слава доставалась министру иностранных дел. Когда я заговаривал об этом, он отвечал, что будет вполне вознагражден, если будущий историк нашей политики на Дальнем Востоке обнаружит, что ее разработал и претворил в жизнь скромный чиновник МИД по фамилии Козаков. Так я убедился, что в дипломатии один умный человек, радеющий о своем деле, может сделать больше, чем множество комиссий, каждый член которых носится со своим мнением». По указанию Сазонова Козаков вел конфиденциальные переговоры с японскими сановниками о поставках нового вооружения и о займах в обмен на возможные «компенсации» в Маньчжурии, не задевающие суверенных прав России. Он даже согласился рассмотреть вопрос о возможной продаже японцам железнодорожной ветки Харбин — Куаньченцзы, которая принадлежала КВЖД, но находилась в японской сфере влияния по соглашению 1907 года (смотри главу вторую). Авторитет великого князя должен был придать словам Козакова должный вес, поэтому с японской стороны гостя внимательно слушали не только министр иностранных дел Исии Кикудзиро, но и генерал-губернатор Кореи Тэраути Масатакэ, влияние которого в правящих кругах Токио стремительно росло. Кстати, с 1910 года Тэраути возглавлял Японско-русское общество, аналог современных «обществ дружбы», а Гото был его заместителем. Инициатива перешла к японскому послу Мотоно, которого великий князь Николай Михайлович считал самым умным из иностранных дипломатических представителей в тогдашнем Петрограде. Восемнадцатого февраля 1916 года посол предложил Сазонову начать официальные переговоры по широкому кругу вопросов. В обмен на военную помощь японцы хотели добиться от России расширения своих прав на рыболовство в дальневосточных водах (рыба, как мы помним, самый верный барометр состояния двусторонних отношений!), снижения некоторых пошлин и тарифов, а также купить упоминавшуюся железнодорожную ветку. Первое и второе Козаков — главное действующее лицо на переговорах — назвал приемлемым, но продажу линии Харбин — Куаньченцзы считал возможной только при условии серьезных ответных уступок, например включения северной Маньчжурии в русские таможенные границы. Против продажи (японцы называли сумму в 100 млн руб., но русские деньги уже начали обесцениваться) и тем более передачи хотя бы одной версты железной дороги решительно высказался министр финансов Петр Барк, преемник Коковцова, тесно связанный с банковскими кругами. Недоверие к партнеру подогревали адресованные царю и министрам записки бывшего посланника в Пекине Ивана Коростовца и бывшего приамурского генерал-губернатора Петра Унтербергера о коварных замыслах Японии в Китае. В итоге Николай II дал добро на снижение арендной платы, взимаемой с японских рыбопромышленников, и некоторых таможенных сборов и железнодорожных тарифов. Но не более. Переговоры Сазонова и Мотоно завершились подписанием 3 июля 1916 года договора о дружбе и взаимопомощи, имевшего прежде всего политический характер. Опубликованные статьи содержали обязательства сторон не участвовать в соглашениях или блоках, направленных друг против друга, и договориться о мерах для оказания друг другу поддержки в защите своих прав и интересов на Дальнем Востоке. Советские историки дружно называли соглашение вынужденным, утверждая, что слабое царское правительство пошло на неоправданные уступки «из-за опасений военного нападения со стороны Японии на русский Дальний Восток в то время, когда Россия воевала. Царизм не был в состоянии защитить себя от угрозы японской агрессии и надвигающейся революции» (Л. Н. Кутаков). Информация, которой мы располагаем сегодня, не подтверждает эту оценку. Во-первых, в тот момент правящие круги Российской империи отнюдь не считали себя беспомощными, войну — проигранной, а революцию — неизбежной. Во-вторых, Япония не собиралась нападать на Россию или покушаться на ее права и интересы в Китае. Последнее могло произойти только в том случае, если бы их решили прибрать к рукам третьи страны, против которых как раз и был направлен договор. Заслуживает внимания замечание Ленина о том, что острие русско-японского союза 1916 года было нацелено не только против Германии, но против США и «до известной степени против Англии». Одновременно — как водится, «в целях большего упрочения тесной дружбы» — Сазонов и Мотоно подписали секретное соглашение, которое впервые было обнародовано лишь в конце 1917 года, после прихода большевиков к власти. Стороны признавали, что их «жизненные интересы требуют охранения Китая от политического господства какой бы то ни было третьей державы, питающей враждебные замыслы против России или Японии, а посему взаимно обязуются всякий раз, как того потребуют обязательства, вступать друг с другом в чистосердечные и на полном доверии основанные сношения, чтобы сообща принять надлежащие меры на предмет недопущения возможности наступления (в Китае. — В. М.) подобного положения дел» (статья 1). Если же в результате «принятия мер» третья страна объявит войну России или Японии, «другая сторона по первому требованию своей союзницы должна прийти ей на помощь» (статья 2). Стороны не будут заключать мир с общим врагом без взаимного согласия (статья 3), причем их союзники, т. е. Англия и Франция, должны гарантировать им помощь, «соответствующую серьезности назревающего конфликта» (статья 4). Договор заключался на пять лет и должен был «оставаться глубочайшей тайной для всех, за исключением обеих Высоких Договаривающихся Сторон» (статьи 5–6). Из русских министров о секретном соглашении известили только премьера Бориса Штюрмера. По обоюдной договоренности Россия должна была сообщить его содержание Франции, Япония — Англии. Иными словами, Россия и Япония наконец-то стали союзниками в полном смысле этого слова. В Токио заключение союза было подано как большой успех японской дипломатии. Старый маршал Ямагата сказал: «Это осуществление моей давней мечты, и я очень счастлив». Мотоно получил титул виконта. Даже Като Такааки, не питавший симпатий к нашей стране, заявил: «Я никогда не выступал против заключения русско-японского соглашения. Я лишь не согласен с теми, кто предлагает аннулировать англо-японский союзный договор. Русско-японское соглашение не только не противоречит англо-японскому союзу, но полностью совпадает с его основной линией и дополняет его. Поэтому мне остается лишь горячо и от всей души приветствовать его подписание». Гото Симпэй тоже назвал договор продолжением англо-японского альянса. «Однако, — вопрошал он, — следует ли японцам, считающим свою страну не только независимой, но и передовой, все время заискивать перед иностранцами?! Япония должна проводить внешнюю политику, в центре которой находится сама Япония!» Что это значило? В новом союзе Гото увидел шаг к нормализации отношений с… Германией, хотя война с ней была в самом разгаре. Впрочем, это неудивительно: он всегда испытывал к ней симпатии и личного, и политического характера, которые особо не скрывал. Один близкий к нему журналист прямо писал о японско-русско-германском континентальном блоке как возможной основе послевоенного мирового порядка: «Намечается интересная драма, в ходе которой Япония, Россия и Германия собираются разделить между собой наследие Британской империи». Стратегической задачей токийские германофилы, немногочисленные, но серьезные, считали новый передел мира: Японии — Дальний Восток и юг Тихого океана, России — Ближний Восток и Персидский залив, Германии — Балканы. Кстати, именно в это время Берлин попытался склонить Токио к сепаратному миру, но министр иностранных дел Исии, убежденный сторонник Антанты, приказал не откликаться ни на какие зондажи. Одновременно стали распространяться слухи о возможности сепаратного мира между Германией и Россией. Его сторонниками молва называла императрицу-немку Александру Федоровну, царского фаворита Григория Распутина и премьера Штюрмера, фамилия которого звучала слишком по-немецки. Масла в огонь подлила отставка Сазонова, одного из творцов «сердечного согласия» с Францией и Англией, с поста министра иностранных дел всего через две недели после подписания договора с Японией. Сам Сазонов объяснял ее интригами «распутинцев», тем более что его пост по совместительству занял Штюрмер. Слухи о готовности Петербурга помириться с Берлином за спиной союзников были неосновательными, но те забеспокоились всерьез. Принцесса Алиса, будущая императрица Александра Федоровна, смолоду не любила Пруссию и династию Гогенцоллернов: для нее Германия сводилась к любимой малой родине Гессен-Дармштадту. Однако в России началась охота на «немецких агентов», приведшая к отставке Штюрмера и убийству Распутина 29 декабря 1916 года, в организации которого была замешана, как теперь известно, британская разведка. Назначение же 12 декабря министром иностранных дел Николая Покровского было расценено лондонскими газетами как признак «окончательного подавления германофильской ориентации в России».
 Василий Крупенский
Василий Крупенский
Между визитом Георгия Михайловича и заключением союзного договора в отношениях между нашими странами произошло еще одно важное событие — сменился российский посол в Токио. Малевский-Малевич показался, выражаясь современным языком, недостаточно эффективным, особенно в деле обеспечения военных поставок, хотя старался как мог. В марте 1916 года он был отозван домой и сделан сенатором, что говорило о недовольстве его работой: обычно послы при отставке получали более почетное и денежное место в Государственном совете. Но, по справедливости, Малевский-Малевич внес значительный вклад в золотой век отношений между Россией и Японией и достоин благодарной памяти. Новым послом был назначен 48-летний Василий Николаевич Крупенский, до того четыре года прослуживший посланником в Пекине. Братья Крупенские, богатые бессарабские помещики — в кишиневском доме их предков бывали император Александр I и сосланный за «возмутительные стихи» Пушкин, — занимали видное положение в дореволюционной России: Анатолий, самый старший, был посланником в Норвегии и послом в Италии, Павел — лидером умеренных националистов в Государственной думе, Александр — последним предводителем дворянства Бессарабии. Младший из них, Василий, подобно Анатолию, избрал дипломатическое поприще. Первый раз он оказался в Китае, в ранге первого секретаря миссии, в разгар восстания ихэтуаней в 1900 году, которые чуть не взяли Пекин и не перерезали всех иностранцев. Второй раз — уже посланником — после революции 1911 года, когда Китай распался на части и стал ареной жестокой борьбы кланов и группировок. Опытный и энергичный Крупенский отлично справлялся как со светскими обязанностями — неотъемлемая часть дипломатической службы — так и с руководством рутинной работой своих подчиненных. Не жалея времени и сил, он умел добиваться поставленных целей, какими бы трудными они ни казались, и в короткий срок активизировал работу посольства в Токио. В помощники он решил взять Абрикосова, которого знал по работе в Пекине. Тот спросил совета у своего начальника Козакова. Козаков сказал, что в принципе не советовал бы, поскольку Абрикосов через несколько лет может получить самостоятельный пост, но в условиях растущей политической нестабильности в России сейчас лучше уехать за границу. Совет спас Абрикосову жизнь: он прожил в Японии 30 лет, затем перебрался в США, где умер в 1951 году. Крупенский в конце 1921 года уехал из Японии в Италию к старшему брату, затем во Францию, где умер в 1945 году. Сведения о судьбе его предшественника Малевского-Малевича противоречивы: согласно одним источникам, он смог выбраться из России за границу, где оставил этот мир около 1920 года; согласно другим, умер в Москве, в Бутырской тюрьме в 1919 году. Козаков в 1918 году бежал от большевиков через Финляндию, но скончался от гангрены, вызванной обморожением ног, когда он при переходе границы провалился под лед. Осень 1916 года стала временем заметных политических событий в Японии. В сентябре с ответным августейшим визитом в Россию отправился двоюродный брат императора Тайсе принц Канъин, некогда приславший роскошный венок на похороны архиепископа Николая. Царь находился в Ставке в Могилеве, поэтому в столице гостей принимали министры и великие князья. Николай Михайлович писал венценосному тезке: «Мы здесь поглощены японцами… Видно, что оказанный им повсюду радушный и теплый прием их трогает и льстит их заморскому самолюбию». Высокие гости доехали до Киева, чтобы все-таки встретиться с царем. «Японские лобзания», как не без иронии назвал это Николай Михайлович, закончились тем, что Россия решила продать Стране восходящего солнца железнодорожную ветку Харбин — Куаньченцзы и разрешить японским судам свободно плавать по реке Сунгари в русской зоне влияния. Однако царившая в Петрограде бюрократическая неразбериха задержала решение вопроса до самой революции, а потом уже стало не до него. Четвертого октября премьер Окума, основательно запутав внутренние и внешние дела, подал в отставку, рекомендовав бывшего министра иностранных дел Като в качестве своего преемника. Однако по настоянию Ямагата император назначил главой правительства генерал-губернатора Кореи Тэраути, недавно получившего звание маршала. Мотоно был отозван из Петрограда, чтобы возглавить МИД. Гото получил пост министра внутренних дел, который в бюрократической иерархии считался вторым по важности после премьера. Военным министром остался генерал Осима Кэнъити — тот самый, который с японской стороны в 1907 году руководил проведением новой границы на Сахалине, а затем устроил для русских представителей аудиенцию у императора.
 Кабинет Тэраути. На переднем плане (слева направо): Гото Симпэй, Мотоно Итиро, Тэраути Масатакэ
Кабинет Тэраути. На переднем плане (слева направо): Гото Симпэй, Мотоно Итиро, Тэраути Масатакэ
Тогдашнюю прессу занимало в основном то, что большинство министров — титулованные члены палаты пэров и что кабинет будет реакционным. Нам интересно другое — в него вошли наиболее влиятельные русофилы токийской элиты. Это создавало хорошие условия для сотрудничества двух стран, которое могло изменить весь ход международных отношений в Азии. В начале февраля 1917 года великий князь Александр Михайлович — в прошлом «августейший моряк», ныне «августейший летчик» (генерал-инспектор военно-воздушного флота) — писал царю: «Никогда в истории Российского государства не было более благоприятных политических условий: с нами наш исконный враг Англия, недавний — Япония и все другие государства, которые видят и чувствуют всю силу нашу». Однако все надежды на такой поворот событий рухнули в результате Февральской революции, когда к власти в России пришли либералы-атлантисты, ориентировавшиеся на Великобританию и США. Золотой век русско-японских отношений оборвался на взлете.
Эпилог
В 2004 году Япония отмечала столетие начала войны с Россией, в 2005 году — 100-летие своей победы. Ничего антирусского в этом не было. Русско-японская война — последняя, которой японцы имеют право гордиться, поскольку их войны в Китае и на Тихом океане осуждены как агрессивные. Юбилей прошел под лозунгом укрепления дружественных отношений между нашими странами. Так было написано на сувенирных банках пива «Цусима», украшенного портретом адмирала Того. Дружба дружбой, но виски «Перл-Харбор» в японских магазинах так и не появился… В Стране восходящего солнца к юбилею появилось много новых фильмов и книг, проводились выставки и концерты, научные симпозиумы и конференции, призванные осмыслить опыт прошлого. И японцы, и русские, которых туда охотно приглашали, не раз ностальгически вспоминали о золотом веке двусторонних отношений, который последовал за давней войной. Но неужели только через войну можно узнать соседа и убедиться в необходимости дружественных отношений с ним? — спрашивали историки и журналисты, писатели и пиарщики. Вопрос так и остался без ответа. Десять лет спустя, в 2014 году, Япония присоединилась — правда, неохотно — к антироссийским санкциям, хотя премьер-министр Синдзо Абэ прилагал усилия к улучшению отношений с Россией. Он мечтал заключить с нашей страной мирный договор и решить так называемую проблему северных территорий. Разумеется, решить ее так, как этого официально хотят японцы. А значит, без малейших шансов на успех. Выпуская в 2008 году первое издание этой книги, я завершил ее следующими словами: «О сегодняшней реальности политические обозреватели говорят так: Россия не является внешнеполитическим приоритетом Японии, Япония не является внешнеполитическим приоритетом России. Говоря проще, в глобальном масштабе наши страны стали не нужны друг другу. Добавлю от себя — это очень обидно. Но обижаться нет резонов. Те же аналитики и комментаторы поставили диагноз: с обеих сторон, и в России, и в Японии, отсутствует политическая воля к решению проблем, накопившихся в двусторонних отношениях. Сегодня на японском направлении в России нет фигур, равновеликих Николаю Японскому. В Японии на русском направлении нет фигур, равновеликих Гото Симпэй. Но в обеих странах есть люди — дипломаты и журналисты, ученые и писатели, общественные и религиозные деятели — любящие свою родину, а потому неравнодушные к тому, как складываются ее отношения с соседями. Опыт истории показывает нам гибельность двусторонних конфликтов и войн. Сегодняшний день учит, что разобщенность перед лицом общего врага, будь то международный терроризм или экологическая катастрофа, может оказаться не менее гибельной. Так что людям доброй воли снова пора объединяться». Память о русско-японской войне. Броненосец «Микаса» на вечной стоянке. Ёкосука
Память о русско-японской войне. Броненосец «Микаса» на вечной стоянке. Ёкосука
Семнадцать лет спустя над этим можно лишь грустно улыбнуться, потому что русофобия снова открыто вошла в идеологический канон правящей элиты Японии. Но сделанное такими людьми, как герои этой книги, не должно быть забыто. Об этом надо напоминать — и русским, и японцам.

Последние комментарии
12 часов 9 минут назад
15 часов 43 минут назад
16 часов 27 минут назад
16 часов 28 минут назад
18 часов 41 минут назад
19 часов 25 минут назад