Сергей Маркосьянц ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ Повесть
1
Когда старший сержант Груздев вышел из землянки, его со всех сторон обступил белесый утренний туман. В густой морозной мгле растворилась, начисто исчезла деревня — со своими низенькими домами, не по-русски большими ригами и островерхим, мрачным костелом. Сквозь туман смутно проступали только сосны. Они тихо дремали, укутавшись в мягкие шубы. Дремали стоя, не покидая строй, как солдаты на ночном марше, в колонне, которую остановили на дороге, но почему-то не подали команды: «Привал направо!» Что-то близкое, родное было в этой вековой рати, в ее плотных, недвижных рядах. И Груздев негромко сказал: — Здравствуй, лес! С Новым годом! Лес молчал. Не откликнулся даже эхом. У него была своя жизнь. Спал в своих широких шубах. Широких и коротковатых — ноги сосен оголены, а ступни засыпаны снегом. Да, у него все свое. А у человека? В груди шевельнулась боль. Старая, привычная. Она уводила в прошлое. Беспокойно ворочалась, ширилась, просилась на волю. Но ей нельзя давать свободу. Нельзя! У него уже был опыт. Груздев снова посмотрел на сосны: — Что ж ты молчишь, лес? Сзади скрипнул снег. — Ты с кем тут, старшой? Груздев, не оглядываясь, ответил: — А вот с ним, Алябьев... И резко повел рукой справа налево, слева направо, словно хотел прогнать туман и вместе с ним свою боль. — Здравствуй, лес! — сказал сержант Алябьев таким же тоном, каким говорил Груздев. — С Новым годом, лес! И прибавил от себя, и весело: — С сорок пятым! Заглянул Груздеву в лицо: — Здорово это у тебя! Как стихи. Ты, часом, не поэт? — Все мы — поэты. Алябьев колесом выгнул грудь: — И... братья-разведчики. Груздев повернулся к Алябьеву, словно хотел убедиться в том, что они действительно братья. Рост у них одинаков, оба в зимних маскхалатах. Посмотреть со стороны — близнецы. Из-под сборчатых белых капюшонов видны лица. Но они-то и разные. У Груздева узкое, с насупленными бровями. У Алябьева — круглое, смешливое. Вот и сейчас оно засветилось лукавством. — Я, грешным делом, подумал, что ты тут с паненкой перекликаешься. Пришла и... Он осекся, потому что Груздев из-под густых изломанных бровей сверкнул, ожег его черными глазами. Не любил, не терпел он таких разговоров. Алябьев однажды заметил: «Тут, братцы, скорей всего тайна...» Ничего не сказал Груздев. Ни тогда, ни сейчас. Есть вещи, о которых говорить не следует. Есть вещи очень личные... Шагнул к землянке, одернул полог. — В ружье! Выходи строиться! Возле Груздева остановился ефрейтор Булавин. Длиннорукий, ростом выше всех во взводе. Поежился, сгорбился: — Вот и разменяли январь. Между собой разведчики называют его Бухгалтером. И тотчас появился ефрейтор Марьин. Выкатился из землянки — низенький и широкий — и сразу к Булавину. Они всегда вместе: — Чаво там такое в лесу? Булавин во всем был точен и поэтому, прежде чем ответить, сам внимательно посмотрел на сосны. А к Марьину уже придвинулся Алябьев, словно ждал вопроса. Когда они рядом, ефрейтор кажется совсем мешковатым. Алябьев всегда туго затянут, легок в движениях и отмечен той приятной щеголеватостью, которая дается от природы. А Марьин... Он и в самом деле неуклюж, этот ефрейтор Марьин. И немножко тугодум. Для разведчика это плохо. Но он чертовски вынослив и стоек. На маршах, когда взвод ведет разведку впереди полка, Марьин назначается в боковой дозор. Ядро движется по дороге, боковые дозоры — по бурьянам и кустам, а то и по вспаханному полю. Никогда не жалуется Марьин. Катится себе, как шарик, и катится. В поиске его оставляют в группе прикрытия. — Чаво там, сказывай? Алябьев подмигнул Груздеву: — Коза. Понимаешь, коза? — Ну?! Марьин от удивления широко открыл рот. Алябьев наклонился к ефрейтору. — К самой землянке подошла... — Ну?! — Марьин передвинул автомат из-за спины на грудь. — Где она? Алябьев положил руку на кожух автомата: — Да ты подожди. Она с добром, а ты с автоматом. Понимаешь, подходит ко мне и к помкомвзвода... вот так, на три шага, и спрашивает: «Где тут у вас ефрейтор Марьин? Я ему молочка принесла». Смеялись все, кроме Алябьева, даже Марьин. Тут же ефрейтор обиделся. — И чаво рыготать? Захохотали еще громче. Груздев вышел на линейку — неширокую дорожку, проложенную вдоль землянок: — Взвод, слушай мою команду! Стал к разведчикам спиной: — Становись! Это был привычный походный строй взвода — в колонне по три. Не боевой, а походный. И они, на полуслове оборвав разговоры, встали в строй и тут же подровнялись, готовые застыть по стойке смирно. Это тоже было привычным, таким же, как короткие, точно выстрел, команды. Из тумана вынырнул младший лейтенант Семиренко. Серьезный, озабоченный. — Веди к штабу полка. Машины там. Я сейчас... И они пошли, окутанные морозным туманом — холодным, чужим туманом бескрайних лесов и болот. Груздев шел слева от колонны. Высматривая дорогу, он уже не замечал леса. Возле землянок стрелковых рот в туманном месиве стыли одинокие часовые. Но дальше, там, где расположились минометчики и артиллеристы, строились не то отделения, не то взводы — во мгле не разобрать. В полку происходило что-то необычное. Оно наметилось еще вчера, когда младший лейтенант Семиренко, придя из штаба полка, сказал: «Получить продукты на десять дней. Иметь на каждого по два бэ-ка[1]. Уходим отсюда в шесть ноль-ноль». Куда уходил взвод — Груздев об этом не спросил. Он уже давно привык к неписаному правилу: надо — скажут. Впрочем, командир взвода мог и не знать. Теперь, когда Груздев увидел, что вместе с ними собираются в путь минометчики и артиллеристы, он еще больше утвердился в этой мысли: происходит что-то необычное. Непонятное, оно настораживало, связывало воедино внутренние силы, как бы ослабевшие и обмякшие за долгие месяцы тихой лесной жизни. Они прибыли в эту полесскую глухомань еще в сентябре. Переехали с третьего Украинского фронта, который к тому времени был уже в Румынии. Выгрузились из эшелона в Ковеле и, совершив небольшой марш, остановились в густом сосновом бору. Через две недели передвинулись еще дальше. Шли по ночам, стороной обходя польские деревеньки, — они здесь редки и маленькие и называются местечками. Передислоцировался не только полк — целая ударная армия — армия прорыва. Тут, в лесах, она получала пополнение и готовилась к новому наступлению. Фронт стоял в двухстах километрах, у самой Варшавы, а кое-где и за Вислой. Судя по газетам, на переднем крае царило затишье. Совинформбюро сообщало о поисках разведчиков да об артиллерийских дуэлях. Теперь, как видно, тихой жизни пришел конец. Но почему не поднимают стрелков? И почему на машинах? Полк всегда передвигался одной походной колонной в своем полном составе. Все, что происходило сейчас в полку, прямо касалось Груздева, и он не мог не думать об этом. В то же время оно было как бы не главным — придет время и все станет ясным. Мысль привычно отбирала самое нужное — нужное вот теперь, вот сейчас. Груздев оглядел взвод, еще раз прикинул в уме — ничего ли не забыто? — и пошел быстрее: — Направляющие, шире шаг! У околицы деревни их догнал младший лейтенант Семиренко. Он, наверное, все-таки что-то знал. Но Груздев снова не спросил. Молча передвинулся в хвост колонны: на марше помкомвзвода замыкает строй.
2
Мощные моторы «студебеккеров» гудели уже много часов подряд. Колонна выбралась на автостраду и мчалась в тумане, не сделав с утра ни одной остановки. Марьин, отдернув брезентовый полог, глянул по сторонам. Алябьев, сидевший напротив, спросил: — Что там? Ефрейтор ответил коротко: — Мзгла. Алябьев поправил: — Мгла. Марьин не поверил, повернулся к Булавину. Бухгалтер подтвердил: — Мгла. И снова ехали молча. На каком-то повороте, когда рев мотора чуть стих, все явственно услышали отдаленный гул артиллерийского выстрела. Заулыбались, заговорили, точно ждали этого выстрела: — Гаубица. — Корпусная пушка. Заспорили, потом так же неожиданно умолкли. Каждый ушел в себя. Груздеву было знакомо и понятно это состояние. Через него проходят все, когда после долгого перерыва возвращаются на передний край. А в том, что они ехали к фронту, теперь уже ни у кого не было сомнений. И в каждом из них происходила сейчас та сложная внутренняя работа, которая выводит человека на некую прямую линию, с которой уже нельзя никуда свернуть. Многое из того, что он мог делать еще вчера, становится сегодня запретным. В каждого как бы входят ожесточение и напряженность. Входят и становятся той силой, которая ведет человека по жизни, определяет его действия и даже простые движения, жесты. Да, через это надо пройти. Нужно перешагнуть какой-то рубеж. А там снова начинается жизнь. Полная чуткой и суровой сосредоточенности, она оставляет место и для самых разобыкновенных разговоров, и для смеха, и для воспоминаний, и для неясной, хрупкой мечты. Но напряжение и ожесточение уже не покидают человека ни на одну минуту. Гудели, ревели моторы. А они все молчали. Так прошел еще час. Сержант Алябьев хлопнул себя по карману шинели: — Как же это я забыл про газету? Возле штаба свежую у почтальона добыл. Он вытащил дивизионку и стал читать вслух. Гул заглушал отдельные слова: «...тяжелые бои в Арденнах... Танковые удары... Англо-американские войска отражают атаки...» В предыдущих сообщениях говорилось, что союзники отошли к реке Маасу. Значит, фронт прорван... Значит... И вдруг Груздев уловил какую-то связь между наступлением немцев в Арденнах и тем, что происходит в полку и, может быть, во всей армии. Но почему тогда стрелки остались на месте? Минометчики и артиллеристы тоже почти все там — из каждой роты и батареи выехало только по одному расчету. Неожиданно машина остановилась. Стрельба стала более явственной. Младший лейтенант Семиренко — он ехал в кабине — подошел к заднему борту, заглянул в кузов: — Ну, как вы тут? Остановка на пять минут. Если кому что нужно, выходи. Но никто не вышел. Алябьев сказал: — Потерпим, скоро дома будем. — Дома? Семиренко улыбнулся. В первый раз за сегодняшний день. Лицо у него совсем юное — кожа на щеках гладкая, розовая, а серые глаза строгие. Улыбка не трогает их. Они все время видят что-то свое, требующее большой серьезности. Слева по обочине колонну обходил санитарный автобус. Под его колесами вихрилась снежная пыль, и Семиренко отступил вправо. Из глубины брезентовой будки Груздев скользнул взглядом по капоту, посмотрел еще чуть выше и... Его обдало жаром. Еще не веря себе, он крикнул: — Оля! Перешагивал через ноги Булавина и Марьина, он, почти упав, схватился за задний борт машины: — Оля! Автобус уже проходил мимо. Сквозь боковое стекло кабины на него смотрели знакомые, до боли знакомые глаза. Смотрели совсем равнодушно. Они или не видели его, или не узнавали. Скорей всего, не видели. Когда Груздев спрыгнул на дорогу, «санитарка» уже обходила головную машину колонны. Он побежал, но тут же остановился, потому что автобус выехал на бетонное поле автострады и почти сразу растаял в тумане. — Кто? — спросил Семиренко. — Моя... Он не знал, как ответить, и младший лейтенант не торопил его. — Соседка моя, — сказал Груздев. — Надо же так, а? Почти три года искал. А она вот, рядом была. Где теперь?.. — Вот именно, где? А ну-ка догадайся. Груздев пожал плечами. И еще раз улыбнулся Семиренко, одними губами: — Ладно уж, скажу. Ищи в нашей дивизии. И прибавил: — Знаки на машинах надо замечать. Но почему три года? — глянул на часы: — Садись, сейчас двинем дальше. И снова взревели моторы. — Значит, соседка? — спросил Алябьев и хитро усмехнулся. — То-то наш помкомвзвода... Груздев отвернулся, и сержант набросился на Марьина: — А все через тебя, хлопец. Расселся, как на ярмарке, и человеку помешал. Как сидят на ярмарке, Марьин, а впрочем, и Алябьев, не представляли. Но ефрейтор насторожился, глянул на Булавина. Бухгалтер молчал, и Марьин решил, что надо обидеться. — По ярманкам не ходим. Булавин поправил: — По ярмаркам. Алябьев сказал еще что-то, но Груздев уже не расслышал. Он был там, далеко-далеко, на широкой степной дороге, под иссиня-светлым кубанским небом... Вначале пришло это: дорога и небо. Потом вся степь, залитая ярким июньским солнцем. Груздев даже почувствовал ее запахи — по-утреннему чистые, напоенные свежестью. И снова в сердце шевельнулась боль, словно хотела напомнить, что она никуда не ушла и уходить не собирается. Но он уже не мог остановиться. Не хотел! Через это все равно надо пройти. Шаг за шагом. Его не вычеркнешь, не забудешь. Надо все понять и найти ему место. С прошлым всегда так... И странно, боль отступила. Это было подобно пробуждению после тяжелого сна. Открыл человек глаза, и на него хлынул свет. И нет больше скованности, и нет чугунных рук, которые только что давили в темноте. Но сон все-таки был, и от него сразу не избавишься. Незримый, он еще живет в человеке, как смутное, необъяснимое беспокойство. Ну, а если это не сон? Если так всегда? Свет все равно сильнее. Только не надо закрывать глаза. И не следует останавливаться.
3
Дорога и небо. И степь. Все, как в то утро... Почему-то вспомнился именно тот июньский день. Может быть, потому, что он был первым. Дорога и небо... Слева и справа к самым обочинам подступали плотные строи колосьев — золотистых, трогательно дружных в своем союзе и неуловимом порыве. Казалось они остановились только на миг. Чуть склонились и зашептались. Шепчутся, точно сговариваются шагнуть еще дальше, и не решаются, и не решаются... А дорога — ровная, молчаливо-спокойная — простерлась через всю степь, чтобы там, у самого горизонта, также величественно пройти сквозь голубые волны марева. В тот утренний час их было на этой дороге двое. На всю степь только двое. Шли легко и совсем забыли про велосипеды — катили их рядом, будто не знали, для чего они существуют. Говорили сразу и он и она. И это не мешало им понимать друг друга. — Ах, Толя, десятый класс — это не девятый. — Нет, не девятый. — И нам придется... — Конечно, придется... И смеялись. И тут же про небо. Почему оно сегодня такое синее-синее? А жаворонки — как колокольчики... И почему облака именно сегодня такие кипенно-белые? И почему... И замолчали. И посмотрели друг на друга. И потупили глаза... Шли, точно вслушивались во что-то. За стеною колосьев, совсем близко, озабоченно вскрикнула перепелка. Вскрикнула и весело завела: «Пить-пойдем, пить-пойдем, пить-пойдем»... Ей с готовностью ответили: «Пить-пить-пить»... Он сказал: — Я бы вот так шел и шел... И не договорил. Но она, наверное, поняла его. Остановилась, отбросила со лба светлую прядку волос. Снизу вверх посмотрела на него. Взгляд у нее особенный. Глаза говорили: «Я знаю что-то такое, чего никто не знает. Но я расскажу это не каждому, ах, нет, не каждому. Я расскажу только одному». Глаза мягко улыбались своей тайне. Тихо искрились в тени пушистых — недлинных, но очень пушистых — ресниц. Сейчас они казались синими — наверное, в них отражается небо. На самом деле глаза зеленые, как речная вода. Ему хотелось спросить: «Ну что ты знаешь? И кто он? Может быть, я? Наверное, не я? Совсем не я»... Глаза говорили: «Ах, не скажу». Но это глаза. А губы... Он вначале даже не поверил. Губы тихо шепнули: — Я тебе, Толя, все скажу... Солнечный зайчик — наверное, от руля — упал ей на щеку. — Все-все... Когда-нибудь, не сейчас. И вдруг вспомнила про велосипед, рассыпала по степи трель звонка. — Оля... Но она уже не слышала его. Издали до него донесся переливистый смех. А может быть, это еще висели в воздухе отголоски трели. — Оля! Ветер надул ее кофточку и, может быть, даже приподнял над землею. Оля как бы плыла по воздуху — легко и стремительно. Это было обманчивое впечатление: впереди ложбина, и Анатолию не виден велосипед. Он мог бы догнать ее в два счета. Но что-то удерживало его на месте. Слова, сказанные Олей, были здесь, возле него, и он спешил их понять, как если бы они могли раствориться в воздухе. А она ускользала все дальше и дальше и ни разу не оглянулась. Анатолий резко перекинул ногу через седло. Когда он спустился в ложбину, Оля была уже на гребне степного переката. Теперь он видел всю ее маленькую, крепкую фигурку — она четко вырисовывалась на фоне лазурного неба. Отсюда, снизу, казалось, что там, наверху, дорога делает немыслимый скачок, устремляясь прямо в синюю бездну. Это впечатление было совсем уж обманчивым: за перекатом пологий спуск. Поднимешься на гребень, и вот она перед тобой станица. Лежит в огромной зеленой котловине — сразу не окинешь взглядом, не поймешь, что к чему. Сады и кущи, сады и кущи... Из-за пышных крон проглядывают то белая стена, то сверкающая в лучах солнца оцинкованная крыша, то нарядно подстриженная камышовая стреха... И все словно плывет по голубому океану. Не станица, что-то сказочное. В первый раз они обнаружили это вчера. Поднялись на бугор и долго смотрели вниз. То, что открылось перед ними, волновало, и слова не находились, а может быть, были лишними. Конечно, лишними. И без слов их что-то связывало. Оно жило в самом молчании — теплое, лучистое, понятное и непонятное. Оля уже спрыгнула с велосипеда и махала ему рукой. Когда он подошел к ней, она смотрела вниз — на станицу. — Оля! Она дунула на прядку волос, упавшую ей на лоб, и вскинула на него глаза. Он сжал ладонями руль так, что скрипнули резиновые накладки. — Оля, ты должна сказать мне все! Она отодвинулась от него, словно не понимала, что ему нужно, и удивлялась. Но это удалось ей только на мгновение. Глаза тут же сказали: «Сейчас... Сейчас...» И дрогнули, заискрились — по речной глади прокатилась веселая рябь: «Ах, нет, не скажу...» У нее всегда так, без перехода. Он решительно подвинулся к ней: — Ты должна сказать. Потому, что... потому... На речной ряби ярче заиграло солнце. — А ты догонишь меня? И скользнула вниз, и как там, в ложбине, рассыпала на всю степь трель звонка. Он крикнул ей вслед: — Я люблю тебя! Люблю! Оля не отозвалась, будто не слышала.
* * *
Машину резко встряхнуло. Сквозь раздвинутый полог Груздев увидел, что дорога уже не бетонная, а выложенная брусчаткой. Значит, свернули в сторону. Туман по-прежнему был густым. Редкие артиллерийские разрывы — теперь уже не выстрелы, а разрывы — слышались справа. Но они тоже были отдаленными. Как видно, колонна двигалась по рокаде, вдоль фронта. Но что было дальше? Там, на степной дороге...
— А ты догонишь меня? Он выждал, чтобы Оля отъехала подальше, и ринулся вниз так стремительно, что в ушах засвистел ветер. Поравнялись на мосту. Она заговорила первой: — Толя, а знаешь... И совсем неожиданно: — Сколько сейчас времени? Он глянул на часы: — Без двадцати одиннадцать. — Поехали. — Но мы и так едем. — Надо скорее. И снова глаза заискрились в улыбке: «Я знаю что-то такое, чего никто не знает...» Ну и знай! Знай! Спрашивать не стану. Нет, Анатолий этого не сказал. Отвернулся и с подчеркнутым вниманием стал разглядывать свои часы. Они у него большие, во всю ширину руки, как компас. Новенькие, совсем новенькие. Кировские. Их купили старшие братья — Федор и Михаил. В складчину, еще зимой. А подарили недавно. Преподносили Михаил и жена Федора — Серафима. Сам Федор еще в апреле ушел на летние военные сборы. Дарили по случаю — Анатолию исполнилось семнадцать. Это была традиция. Ее завел еще отец, матери тогда уже не было. Старшему сыну подарил свою именную шашку, принесенную с гражданской войны. Сам и повесил над Федоровой кроватью. Михаилу отвез в город готовальню — он учился тогда в техникуме. А вот Анатолия не дождался. Умер в тридцать девятом... Отец часто говорил: «Человек силен правдой. Никогда не криви душой, Анатолий». Но он и не кривит. Сказал Оле напрямик. А если она молчит... Это ее дело. И не надо спрашивать. Но может быть, она не услышала? Тогда он должен сказать... Он поднял голову и перестал вертеть педали. Навстречу им двигалась широченная пятиугольная арба — на таких возят сено и солому. Быки на ходу жевали, сонно переставляли ноги. На арбе сидели колхозницы с оклунками и кошелками, оживленно переговаривались, смеялись: — Рано, кума, отбазарювалысь. — Зранку... Им пришлось посторониться, и они ехали теперь друг за другом. Слева, за огородами — их почему-то называют болгарскими, — был другой мост, и Анатолий видел, что по нему движется сразу два воза. Наверно, большой сегодня базар. Впрочем, чего же удивляться — воскресенье. А говорить все-таки не следует. Но она слышала. Она знала. И она сказала ему все в тот же день. Но это было потом. А еще прежде...
4
Под колесами «студебеккера» глухо застучало. — Мост, — сообщил Марьин, — и речка какая-то. Алябьев плечом отодвинул ефрейтора, высунулся из машины по пояс и уже оттуда заговорил: — Во-первых, не мост, а переправа. Запомни, Марьин, переправа. Во-вторых, не речка, а река. И называется она Вислой. Подвинулся в сторону, словно приглашал посмотреть на Вислу других. Повернулся и торжественно сказал: — С новосельем, братцы. Въезжаем на плацдарм. Только вот на какой, пока неизвестно. Марьин, не отходивший от заднего борта машины, призывно махнул рукой: — Гляди, чаво написано на указателе: Маг‑ну... Магнушев. Слово какое чудное. — Значит на Магнушевский. Колонна сразу же втянулась в лес. Теперь ехали медленно, и моторы гудели глуше. Плацдарм встретил их тишиной — плотной, устоявшейся, и Кирсанов, самый молодой солдат взвода, молчавший всю дорогу, сказал: — А тут совсем не так, как было на Днестре. И тебе машины и всякое такое. — Чего такое? — спросил Алябьев. — Ну, всякое там спокойствие. — Тоже сравнил. На Днестре был пятачок, а тут плацдарм в глубину километров пятнадцать. — Когда же это ты успел подбить счет? — спросил Булавин. — Газеты надо читать. А в общем, поживем — увидим, как оно будет... «всякое такое». — Однако верно, — заметил сержант Рябых. — Курочка в гнезде, а яичко... еще дальше. Время покажет. Точно подтверждая его слова, время тут же и показало: где-то совсем близко гулко сыпанули автоматы. Но они тарахтели недолго. Рябых сказал: — Война, она везде одинаковая. Или ты его или тебя. Однако лучше мы его, конопатого... И загораясь веселой злостью, привстал и своей широченной ладонью хватил Алябьева по колену. — Трам-тара-рам и кишки набок! Алябьев вскинул руки, втянул голову в плечи и, ломая язык, забормотал: — Гитлер капут! Гитлер некарош. Меня убивайт тоже не есть карош. И зашумели, задвигались, и Груздеву показалось, что вовсе нет никакой машины, и они после успешного поиска сидят в тесном блиндаже взвода, там, на Днестровском плацдарме. Рубеж пройден. Тот внутренний рубеж, за которым человек, отбросив нечто личное, перестает принадлежать себе. Пройден. Ведь они были старыми окопными солдатами. И на сердце у Груздева стало легко и покойно. Нет, это был совсем не тот покой, в котором человек отдыхает душою. Тут, на плацдарме, открытом всем огням, такой отдых уже невозможен. Просто это была уверенность в том, что все идет так, как надо. А рядом с этим чувством жило тепло. Совсем особенное тепло. Из полумрака, из ничего ему улыбались родные, до боли родные глаза. Милые, зеленые, как речная вода... Но почему же они не увидели его там, на дороге? Колонна свернула на просеку и остановилась. Младшего лейтенанта Семиренко позвали к головной машине, в которой ехал командир полка майор Барабаш. Вернулся он быстро. — Выгружайся! Отвел взвод в глубину леса: — Надо найти подходящую землянку. Есть тут старые, заброшенные. И, повернувшись к Груздеву, закончил: — Действуй. Я ухожу на рекогносцировку местности. Офицеры — командиры минометных рот и артиллерийских батарей во главе с командиром полка майором Барабашем — уже шли по дороге, направляясь к переднему краю. Туман, заметно поредевший, быстро смешивался с вечерними сумерками. Груздев огляделся. Лес был густым, старым. Рядом с вековыми соснами стояли размашистые ели. Кое-где виднелся орешник. Землянку нашли поблизости. И пока приводили ее в порядок, совсем стемнело. На западе, за лесом, изредка взлетали ракеты. Нечасто стучали пулеметы. Фронт жил своей размеренной жизнью. Груздева все плотнее обступали заботы. Надо было найти воду. Следовало накормить людей. Алябьев спросил: — Сварим кашу? Уезжая, они взяли с собою два ведра. — Обойдемся консервами. Нужно узнать, где передний край, тогда и будем жечь костры. Но за заботами он все не забывал о том, что где-то рядом, может быть, совсем близко, в этом же лесу, находится она — Оля. Да, да. На автобусе был знак их дивизии: квадрат и в нем цифра шесть. Теперь ему казалось, что он сам видел этот знак. Груздев вглядывался в черноту ночи, в широкие лесные тени, словно мог рассмотреть за соснами «санитарку» — один из сотен других санитарных автобусов.
* * *
Младший лейтенант Семиренко вернулся часа через три. Попросил воды, напился и, не став есть, собрал разведчиков в землянке. — Передний край противника отсюда примерно в трех километрах. Немцы занимают позиционную оборону. Известно, что у них три позиции. В каждой по две траншеи. Есть доты и дзоты. Нашему полку выделен участок шириной около километра. Обвел своим строгим взглядом лица, будто хотел убедиться в том, что разведчики уяснили эти слова: «шириной около километра». На них мог не обратить внимание разве что только Кирсанов. Но все другие поняли Семиренко очень хорошо. Они увидели за этими словами то, о чем командир взвода говорить пока не может, поскольку не имеет основания — приказа. Но им и не надо объяснять, что такой узкий участок дается хорошо укомплектованному полку только для наступления. — Слева от нас полк 1368‑й, справа — 1375‑й. Наша задача: разведка наблюдением, подготовка к поиску. За последние полмесяца на этом участке не взяли ни одного «языка» Мы должны взять. И еще раз оглядел разведчиков, словно уже выбирал среди них тех, кто сделает это. Остановил взгляд на Груздеве, потом перевел его на Алябьева, Булавина. Они всегда назначались в группу захвата. — Задача минометных и артиллерийских расчетов, прибывших с нами: подготовить огневые позиции для своих рот и батарей. Полк прибудет через десять дней. Помолчал и закончил: — Подходы к переднему краю скрытые. Можно ходить днем. Действовать начнем завтра утром. А теперь спать. Наряд назначен? Вопрос относился к Груздеву. — Назначен. Вот так и закончился для них этот первый день нового года. Груздев, однако, долго не спал. Лежал на мягкой, подмороженной и потому почти не пахнущей хвое и вспоминал, вспоминал и видел себя на залитой солнцем станичной улице... И слышал... Не клекот пулеметов, не треск автоматов. — Завтра поедем? Это говорит Оля. Остановились у калитки — их дома рядом. Говорит и улыбается ему из-под своих пушистых ресниц. А потом...
5
Все началось потом. Вот он идет к своей калитке. Перекатывает велосипед через порожек. Во дворе его встречает Серафима — в семье Груздевых все зовут ее Симочкой. Она тоненькая — девчонка девчонкой и только платок носит по-бабьи, завязывает узлом под самым подбородком. Впрочем, это с недавнего времени, с тех пор, как Федора призвали на сборы. До этого ходила в беретах. Их у нее добрый десяток. Все яркие-преяркие: оранжевые, красные, малиновые... Говорит, что именно такие ей и идут — под карие глаза и черные волосы. — С Лелей? — спрашивает Симочка. — Сколько? — До Александровки и назад. Двадцать пять километров. Если бы без Ольги, так до самой Ильинки доехал бы. — Ну иди, записывай. Все-таки двадцать пять. Она знает, о чем говорит. От Симочки у Анатолия секретов нет. Сейчас пойдет и запишет. Но прежде нужно вытереть велосипед. И пока он это делает, Симочка рассказывает: — Тут дружок твой приходил — Шурка. Говорит, в МТС вам пора. — Успеем. Пойдем дня через три. Летом они работали весовщиками. На токах. Симочка вздохнула: — Жарко... Потом он усаживается в передней за стол, кладет перед собой толстую тетрадь в картонном переплете. На обложке написано: «Программа-минимум». Отыскивает нужную страницу, берет ручку. Симочка от двери говорит: — И палит, и палит... Ставит на пол подойник, подходит к зеркалу, повязывает платок так, что видны одни глаза — собирается на выгон. — Глянь, Толик, на время. Чегой-то мне кажется, что рано. И он снова, в какой уж раз в этот день, смотрит на часы: — Без пяти двенадцать. Симочка совсем уже собралась, потом заглядывает в свою комнату. Из-за стола Анатолию видна никелированная спинка кровати и пирамида подушек. Настоящая пирамида! Внизу подушка большая, на ней поменьше, и еще поменьше и так до самой маленькой — величиной с конверт. Федор, посмеиваясь, говорил: «И зачем нам эта вавилонская башня?» Симочка отвечала, не вдаваясь в подробности: «Ничего ты не понимаешь». Совсем уж собралась и вдруг возле самой двери садится на стул, всхлипывает. Анатолий отодвигает тетрадь, насмешливо смотрит на Симочку: — Это чего же, от жары? Она склоняет голову, будто рассматривает кончики платка, и всхлипывает. Анатолий пускает в ход более сильное средство: — Вот сейчас возьму и напишу Федору. Симочка развязывает платок, вытирает слезы. Не слезы, а слезки — маленькие, кругленькие, светленькие. — Не надо, Толик. Это я так... Не надо. Берет подойник, подходит к столу, наклоняется, читает: — Вело... Велокросс... двадцать пять. А марш бросок что такое? Это когда пешком? Она задабривает его. Анатолий упирается: — А то еще бабушке расскажу. Но по голосу Симочка, наверное, чувствует, что он не расскажет. — Не надо, Толик. И снова повязывает платок. Анатолий встает: нужно разговор довести до конца. — Ты вот что, Сима, во-первых... — Что, Толик? — Во-первых, не называй меня так — не маленький. Она отступает к двери, делает ему поклон: — Звыняйте, Анатолий Игнатьевич, опаздую... Смеется и на пороге сталкивается с Михаилом. Он делает строгое лицо: — Вы что тут, артисты? — Звыняйте, — не переставая смеяться, говорит Симочка. Это уже относится к Михаилу. В коридоре снова вздыхает. — Жарко... Михаил спрашивает: — Опять плакала? Анатолий исподлобья смотрит на брата: — С чего ты взял? — Слышал. Ты вот что... Пощипывает усы. Они у него совсем коротенькие — только начал отпускать. Он хочет сказать еще что-то, но умолкает: за окном происходит странное и непонятное. Задребезжало, покатилось по земле ведро, послышался топот и сразу не то вскрик, не то плач. И тотчас в комнату вбегает Симочка. Без платка, с рассыпавшимися по плечам волосами. Она хватает воздух открытым ртом, приговаривает, пришептывает: — Ой, лышечко, ей, Федечка. Бросается через переднюю в свою комнату, дрожащей рукой тянется к черному кругу репродуктора. Они ничего не понимают, а Симочка все никак не может попасть вилкой штепселя в розетку, сваливает на пол подушки, кричит чужим голосом: — Война! Позже, значительно позже, вспоминая этот день, Анатолий всегда видел черный диск репродуктора, цветные подушки, разбросанные по полу, и Симочку с черными, растрепанными волосами и лицом белым, как стена. Но тогда... тогда он, как и многие люди — молодые и немолодые, — еще не видел, не мог понять всей страшной глубины развергшейся бездны. Шагая через подушки, они подошли к самому репродуктору. — Пришла беда, отворяй ворота. Первой сказала это бабушка. Она вошла в комнату незаметно и стояла рядом с ними — сгорбившаяся, держа в больших, почти мужских руках качан капусты. Он скосил глаза на бабушку — не понял ее. А она положила капусту на стул и стала подбирать подушки. Симочка сидела на кровати, опустив голову, уронив на колени руки. За ее спиной на стене висела изогнутая казачья шашка... Это тоже вспоминалось часто. И еще лицо Михаила — твердое, потемневшее. Оно будто окаменело и стало очень похожим на лицо отца. Прежде Анатолий этого сходства не замечал. — Война, — выдохнул Михаил и слепо посмотрел в окно. Анатолий проследил за его взглядом и выскочил во двор, словно война шла тут же, за окном, и он боялся что-то пропустить. По улице, прямо посередине, по пыльной дороге, бежал Давидка. Полгода назад он вместе со старшим братом — скрипачом Сигизмундом приехал из Польши. Они снимают квартиру через три дома от Груздевых. Рубашка на Давидке совсем мокрая. — Ты чего? — крикнул Анатолий. Давидка непонимающе посмотрел на него, взмахнул рукой, показывая не то назад, не то на небо, и, сокращая путь, свернул в бурьян. Побежал напрямик и еще быстрее, точно его кто-то настигал, может быть, сама война. Все это показалось Анатолию смешным, и он засмеялся и пошел во двор к Краевым — к Оле. Ему хотелось движений, действий и при этом немедленных и решительных. Еще издали он услышал, что кто-то в доме поет. Наверное, Анастасия Владимировна — Олина мать. Она часто поет. Все песни у нее получаются на мотив «Каховки». На этот раз она пела действительно «Каховку»:
Ты помнишь, товарищ,
Как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза...
Каховка, Каховка,
Родная винтовка.
Горячею пулей лети...
6
А в доме все было прежним, словно Анатолий никуда не ходил и все они только что, вот сейчас, услышали весть о войне. Симочка так и сидит на кровати. Она смотрит на репродуктор, из которого льется бравурная мелодия марша. На лице ее сложное выражение. Главное в нем — ожидание. Она, наверное, не удивится, если по радио сейчас скажут о Федоре. Она так же не удивится, если скажут, что войны никакой нет и все, о чем сообщалось, неправда. Михаил возле окна. Но теперь он сидит. Смотрит во двор и молчит, как тогда. Бабушка тоже сидит. Качан капусты у нее на коленях. Она прикрыла его своими большими ладонями и тоже чего-то ждет. «Никто не знает, что делать, — подумал Анатолий. — И я не знаю. Ведь этому не учили. Рыть окопы — учили. Стрелять из винтовки — учили. Отличить иприт от люизита — учили. Пользоваться противогазами — учили. И в школе и в кружках. А этому не учили». Он остановился у двери и начал вспоминать. Ну что же? Что нужно делать в первый день войны? Нет, этому не учили. Но ведь это надо знать. Кто знает? Этого многие не знали. Просто не верили, что оно придет, свалится на голову средь бела дня. Готовились и все-таки не верили... А прежний опыт забылся. Он часто забывается. Поднялась бабушка. Она что-то знала. В ней заговорила мудрость лет. — А ну, Натолий, давай дрова. Я пиду тисто ставыть. Михаила будэмо снаряжать. И к Симочке: — А ты, дивчина, в череду сбигай. Жизнь свое диктуе.
* * *
Было уже темно, когда к Анатолию пришел одноклассник Александр Крутов, а попросту Шурка. — Папа уже уехал. Отец у него хирург. — И Ольгина мать тоже. Они вместе. И еще один врач с ними. Ничего не сказав, Анатолий рванулся к Краевым. Шурка остановил его: — Ольга сейчас сюда придет. Мы вместе с вокзала притопали. — Плакала? — спросил Анатолий. — Кто? — Оля. — А ихнее дело такое, — сказал Шурка и, увидев Олю, которая входила в калитку, тихо прибавил: — Все плакали. Потом они втроем сидели на скамейке. — Что ж теперь делать? — спрашивал Анатолий. Оля молчала. У Шурки уже был свой план. — Дело ясное. Надо проситься на фронт. Про добровольцев вон по радио полдня передают. Теперь программу-минимум побоку. Эта программа была у них общей. Они составляли ее вместе. Еще год назад решили, что станут летчиками. Знали: в авиацию попасть нелегко. Именно поэтому и была составлена программа. Минимум — это подготовка: учеба в школе и физическая закалка. Потом, когда их примут в училище, пускается в ход программа-максимум. Шурка смело развивал свой план: — Переходим сразу к максимуму. В авиацию мы, конечно, не попадем. Очень долго надо учиться. Это будет у нас потом. А сейчас... Главное, чтобы в бой. А насчет авиации, тут жалеть не приходится. Когда идет война — личное приносится в жертву. И еще раз повторил: — Главное, чтобы в бой! Из темноты выступил Михаил. Они не заметили, как он подошел. — Вот что, артисты, бои — это забота пока не ваша. Дел у вас тут будет много. Мы уходим, вас оставляем хозяевами. Но они не хотели быть хозяевами. Они хотели на фронт. На фронт и больше никуда! А Оля все молчала. Они заспорили с Михаилом, а она сидела и будто не слышала их разговора. Михаил сказал: — Ты, Анатолий, помнишь, что говорила сегодня бабушка? Жизнь диктует свое. Так я к этому прибавлю: теперь всему, абсолютно всему, диктует война. Поняли? Нет, они тогда еще многого не понимали. Война круто поворачивала судьбы людей. И не знали, не могли они знать, что раньше всех почувствует это на себе Оля. Да, она, Оля.
7
Когда Груздев проснулся, возле землянки уже горел костер. Ефрейтор Марьин оструганной палкой помешивал в ведре кашу. — Сам сообразил? — спросил Груздев. — Нет. Это меня они, младший лейтенант, разбудили и сказали варить. В стороне, на плащ-палатке, разостланной возле сосны, сидели младший лейтенант Семиренко и начальник разведки полка капитан Шмелев. Они говорили о чем-то вполголоса и смотрели на карту. Шмелев то и дело снимал очки, протирал их перчаткой. Об этих очках не раз говорили разведчики. Алябьев однажды сказал: «Они с простыми стеклами. Это так, для маскировки». Но при чем тут маскировка? А очки действительно никак не гармонировали с сильной, атлетической фигурой Шмелева. Но откуда взялся капитан? С ними он не ехал. Утро было серым, но туман висел высоко. Лес уже не казался таким глухим, каким он представлялся вчера. Тут и там меж стволов сосен виднелись то кухня, то укрытая брезентом бричка, то чуть выступающая из капонира кабина автомашины. По дороге шли два солдата с термосами за спинами. На переднем крае редко и негромко постукивало, будто кто-то сонно переставлял в комнате стулья. Груздев глянул вокруг с тайной надеждой. Но откуда он возьмется здесь, санитарный автобус? Медсанбат, если он уже на плацдарме, остановился в тылу. Младший лейтенант окликнул Груздева: — Поднимай взвод! День обещал Груздеву многое, и он заторопился, быстро сбежал по ступенькам в землянку и громче чем делал это обычно, крикнул: — Подъем! Алябьев, который уже не спал, притворно обидчиво сказал: — И куда они торопятся? Не могли на два часа... раньше разбудить. Это была старая шутка, но она всегда вызывала смех и означала, что настроение у сержанта самое преотличное. Он тут же подхватил: — Подъем! После завтрака их собрал капитан Шмелев. Снова спустились в землянку, уселись тесно друг возле друга. — Я здесь уже три дня. Обстановка в общем ясна. Вы, наверное, уже заметили: участок тихий. Таким он и должен оставаться. От нас зависит многое. Нейтральная полоса широкая — до пятисот метров. Но вести наблюдение будем пока из траншеи. Что касается поиска, то его проведем в самые последние дни. Как и Семиренко, он не говорил о наступлении. Но эти «последние дни» снова сказали разведчикам о том, что наступление предполагается и, очевидно, начнется в самое ближайшее время. И еще раз предупредил капитан Шмелев: — Главное сейчас: скрытность. И прибавил: — Артиллеристы и минометчики готовят позиции только ночью.
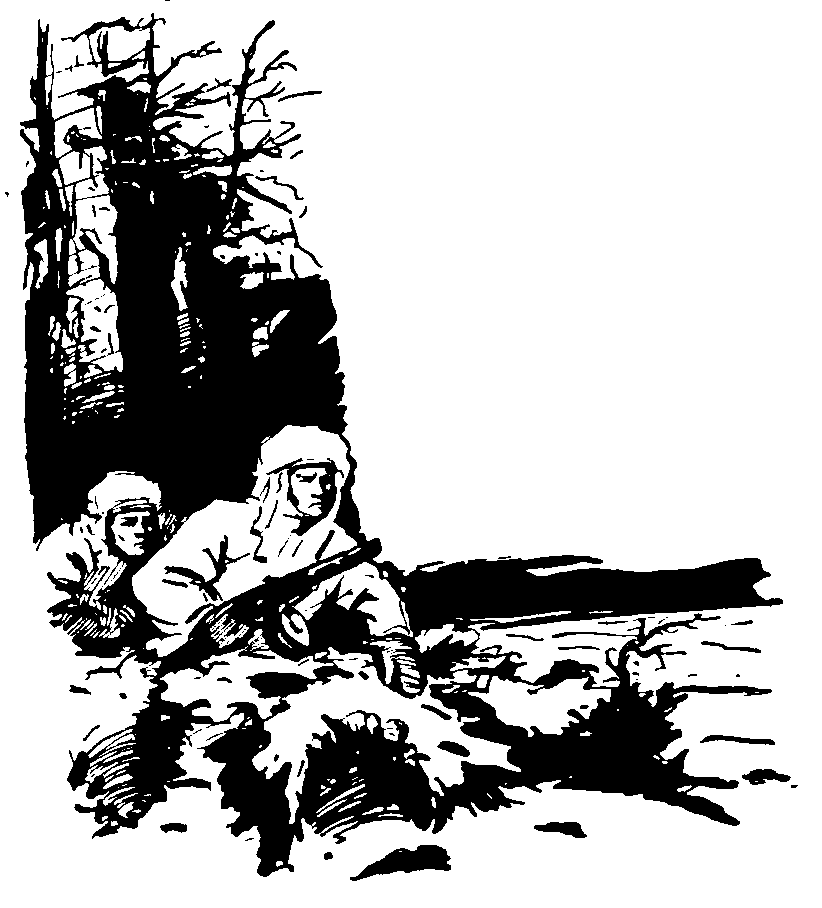
Чуть позже небольшой группой они отправились на передний край. Шли гуськом, друг за другом, молча всматриваясь в лес, вслушиваясь в звуки и шорохи. Может быть, сейчас это было и не нужным. Но в них уже брала верх сила привычки. Они безотчетно отдавались ее власти.Скорей всего это был инстинкт — тот инстинкт, который со временем вырабатывается в каждом солдате и дополняет разум. Теперь им вот так шагать и шагать, всматриваясь и вслушиваясь, шагать до тех пор, пока вокруг них живет война. Ход сообщения начинался в глубине леса. Почва тут была суглинистая, и, наверное, стенки земляного коридора неудержимо оползали всю осень. Потому их и обложили плетнями, подперли распорками. — Однако поработали, — сказал сержант Рябых, пощупав рукой вязь плетня. — Надо же уметь. — Теперь все это ни к чему, — заметил Алябьев. — Чего? — Плетни, говорю, уже ни к чему. Мороз, видишь, что сделал? Он топнул ногой по земле. — Прямо как бетон! Рябых кивнул головой: — Да, ни к чему. Кивнул, явно сожалея о том, что красивые плетни оказались не нужными. И, наверное, отвечая своим мыслям, вздохнул: — Однако война. Да, война не считалась с человеческим трудом. И Груздев, слушавший этот разговор, подумал об артиллеристах и минометчиках. Вот уж кому сейчас круто! Попробуй вырубить огневые в такой земле. Вырубят, конечно. А начнется наступление — уйдут дальше, и новые заботы отодвинут, заставят забыть и этот, насквозь промерзший суглинок, и все, что было с ним связано. И это, наверное, хорошо, что человек умеет не помнить. Иначе было бы слишком трудно идти по этой жизни. Да, тяжелое надо хоронить в глубинах памяти. В тех глубинах, куда потом почти не заглядывает мысль. Ну, а если забывается не все? Ну, а если не все? Не все! Разве можно не помнить того, что произошло там, в станице? Оно приходит неожиданно, и ему не прикажешь. Прикажешь. Вот так: — Не надо! Не надо! — Ты что-то сказал? Это спросил Алябьев. — Нет, я молчу. — Мне показалось, что ты сказал: «Не надо». — Показалось. Ход сообщения вывел их из леса, и Груздев, не замедляя шаг, стал смотреть на открытое заснеженное поле. Впереди был небольшой подъем, и там виднелся бруствер траншеи. Он был очень высоким, и это показалось ему странным. Обычно землю, выброшенную из траншеи, стараются уложить в низенький, неприметный вал. А здесь... Ну конечно, здесь очень близко подпочвенная вода. Глубоко зарыться нельзя, и стрелки укрываются за высокими брустверами. Наверное, поэтому и нейтральное поле широкое. Передний край был в этих местах действительно совсем не таким, к каким они привыкни на юге, и кто-то шедший позади, кажется, ефрейтор Лукашов, сказал: — А тут ничего. Там, на юге, где окопаться можно в любом месте, до немецкой траншеи было рукой подать — гранатой достанешь. Рябых возразил. — Это еще как сказать — хорошо оно или плохо: по такой нейтралке пока до них доползешь, всю одежонку протрешь... По траншее они обошли весь участок, отведенный полку. Попутно выбрали два наблюдательных пункта. Впрочем, не выбирали. Их заранее облюбовал капитан Шмелев. Нейтральное поле было голым до самой немецкой траншеи. За нею простиралась такая же пустая степь, и лишь у горизонта бугрился лес. В полосе полка с немецкой стороны были выдвинуты вперед две небольшие траншейки боевого охранения. Они отчетливо выделялись на ровном, как стол, поле. Их и взяли под наблюдение. — Глаз с них не спускать, — сказал капитан Шмелев. — Ни днем, ни ночью. Там примерно по взводу. Выявить их распорядок, систему огня. Особо следить за ходами сообщения. Старшим на одном из наблюдательных пунктов был назначен Рябых, на другом — Груздев. Это означало, что теперь они надолго останутся в этой траншее. Груздев посмотрел назад, на лес, и тотчас отвернулся и вошел в ячейку. Он умел подавлять и мысли и чувства. Умел. Это делается так: надо стиснуть зубы и думать о немце. О том самом немце, который живет сейчас вот там, в пятистах метрах. И это все. Надо почувствовать себя один на один с врагом. И тогда остальное отступает. Остается только солдат и война.
8
До полудня они не слышали ни одного выстрела. Выставив над бруствером перископ, Груздев осмотрел метр за метром немецкую траншею, ход сообщения и несколько часов подряд наблюдал за вражеским боевым охранением. Ни малейшего движения. Только вдали, во второй траншее, вспух и пополз по земле дымок. Как видно, кто-то не выдержал холода и затопил в блиндаже печку. Дымок, конечно, заметили артиллеристы. Но они не стреляли. И, как видно, неспроста. Значит, и здешние артиллеристы о чем-то предупреждены. Конечно, артиллеристам лучше помолчать. Зато потом... А пока надо наблюдать и наблюдать. Не так уж прост он, этот передний край. За второй траншеей Груздев рассмотрел ломанную линию дотов — «панцерверке», расположенных в шахматном порядке. Перекрестным огнем они, наверное, простреливают все поле. Перед первой траншеей горбилась присыпанная снегом спираль Бруно. И, конечно, повсюду мины. О, немцы мастера начинять ими землю! Да, нелегко будет прорвать оборону. Но это придет потом... До него не менее десяти дней. Трудное и неизбежное, оно где-то там, далеко-далеко. А вот поиск... Груздев навалился грудью на берму и смотрел, смотрел, смотрел. — Ну как? — спросил ефрейтор Булавин. — Ничего особенного. Наблюдательным пунктом служила обычная стрелковая ячейка. Двоим в ней было тесно, и Булавин сидел в проходе, свесив ноги в траншею. Несколько раз в ячейку заглядывал сержант Алябьев. Вместе с Кирсановым он был во второй паре. Они уже подыскали место для отдыха — в блиндаже у стрелков. Потом сходили в лес, принесли хвои, выстелили ею дно ячейки. — Сменю? — спросил Алябьев. — Успеешь. Ну скажи ты, прямо вымерли фрицы! — А может быть, они на день уходят в глубину обороны? — Вряд ли. Скорее всего сидят в блиндажах. Мороз! — А что мороз? Климат-то тут уже, считай, ихний. Ты знаешь, старшой, сколько до Германии? — Сколько? — По прямой не больше пятисот километров. Это уже до коренной неметчины. Они же Познаньскую область считают своей. Поляков оттуда выселили. Так я ее не учитываю. Пятьсот до реки Одер. Тут разок нажать — и вот мы там: «а где ты, гитлерова мама?» Пятьсот! По сравнению с тем, что осталось позади, — это совсем мало. Но попробуй пройти их, эти пятьсот километров! И еще раньше вот эти пятьсот метров. Языка придется брать где-то здесь, скорей всего в первой траншее. — Не спрашивал у стрелков, не замечали они, когда к немцам кухня приезжает? — Не знают. Наше дело, говорят, стрелковое. То атаки отбивать, то в атаки ходить. А кормленный он, немец, или голодный — нам все равно. Веселые ребята! Одним словом, стрелки. Кстати, наши знакомые. Мы их на Днестре сменяли. Закуришь? — Вытащил пачку махорки — кисетов Алябьев не признавал: — Закуривай, курячи, кто не курит... И, уловив на себе насмешливый взгляд Груздева, сглотнул последние слова — они были похабными. Не любил помкомвзвода и таких разговоров. Не терпел. И по этому поводу Алябьев как-то высказывался: «Говорят, что только женщины облагораживают общество. Врут, есть еще и помкомвзводы». Однако — Груздев это знал — Алябьев в тайне души завидовал ему, и потихоньку брал с него пример. И если уж заговаривался, тут же старался замять ненароком вырвавшееся слово. Вот и сейчас... — Курить дело хорошее, но и поесть бы не мешало. И, потыкав кулаком себя в бок, прибавил: — Оно уже просит. Булавин заметил: — Отвыкать придется от мирных привычек. Теперь два раза в сутки, и полный тебе ажур.
Сменился Груздев, когда уже стемнело. В ведре, укутанном плащ-палаткой, Марьин принес кашу. Наскоро поев, Груздев вернулся в ячейку, вылез на бруствер и долго лежал, вслушиваясь в ночные звуки. Ветер принес издали хрипение заигранной пластинки. Это было не ново. Как видно, какой-то офицер, скорей всего командир роты, обер-лейтенант, выпил за ужином шнапса и теперь веселился. Вернувшись в траншею, Груздев закурил и, присветив цигаркой, посмотрел на часы. Восемь вечера, или двадцать ноль-ноль. Наверное, днем кухня не приезжает. Алябьеву он сказал: — Последи за огнем. Интересно, из боевого охранения они стреляют или нет? — Если стреляют, то дураки. Но пока молчат. Потом Кирсанов показал им блиндаж. В этот час он был пустым. По ночам почти все стрелки стояли в ячейках.
* * *
Блиндаж оказался низким — не разогнешься. Но в нем можно согреться. Только теперь Груздев почувствовал, сколько холода вобрал он в себя за этот день. Вытянулся во всю свою длину на сухой шуршащей хвое и снова закурил. Холод уходил из него, вытесняемый теплом тела, и вместе с ним Груздева покидало напряжение, уступавшее место некоей внутренней мягкости. Она, эта мягкость, давала волю чувствам. Теперь Груздев не сопротивлялся. Он мысленно ходил по привисленскому лесу, потом как-то незаметно ушел в прошлое — в первый день войны. И ему снова увиделась опаленная огненным зноем далекая станица. И сразу же вечер. — Оля, мы что-то должны делать. Завтра же... Почему ты молчишь? Они проводили Шурку и возвращались домой. Светила луна, и на земле лежали тени. Большие и черные. — Ну, почему ты молчишь? Она взяла его за руку. — Я думаю. — Давай вместе, вслух. — Вначале нужно про себя. — Но разве мы не одинаковы? — Завтра ты с Шуркой пойдешь в военкомат. Вас, конечно, никуда не возьмут. Это завтра. Но придет время... Вы и потом можете быть вместе. А я? И дело не только в расставании, просто у меня будет что-то свое. И об этом я должна подумать, чтобы не сделать ошибки. Ее допускать теперь нельзя. Ни мне, ни тебе, никому. Она остановилась: — Толя, поцелуй меня. Это было неожиданно, так неожиданно, что он отступил на шаг. — Толя, поцелуй меня. Она ждала. И он подошел к ней, ткнулся лицом в ее щеку. — Не так. В губы. Он не знал, как это делается. Много раз думал, как подойдет к Оле, положит руки ей на плечи... И никогда не пытался это сделать. А она все ждала. Он наклонился к ней и коснулся ее губ. Оля сказала: — Это мы попрощались с детством, навсегда. Теперь мы взрослые. Он не успел понять этого, а она попросила: — Поцелуй еще. И он снова наклонился к ней, и теперь все получилось легко и просто; губы у нее мягкие и теплые. — А это на верность. У нас будет мало времени, и мы должны сказать друг другу все. Она порывисто прижалась к нему, и он почувствовал на груди ее горячее дыхание: — Я люблю тебя, Толя, все время любила, всегда. Но мы скоро расстанемся. И это на верность. Он хотел сказать ей о себе, но не находил слов, даже самых простых, какими говорила Оля. — Но откуда тебе известно, что скоро? — Я знаю... Я старше тебя. — Но мы одногодки. — Когда одногодки, женщина всегда старше мужчины. Опустила руки, сошла с дороги, точно хотела посмотреть на него со стороны. — А теперь пойдем. Тебе надо поговорить с Михаилом. Она обо всем подумала. Она все предвидела. Но все ли?
* * *
На следующий день они провожали Михаила. Анатолий думал о брате, о том, что, может быть, уже никогда не увидит его. В то же время каждую минуту он чувствовал рядом с собой Олю, и она как бы разделяла с ним его мысли и переживания, и от этого ему было не так трудно. Вот именно разделяла, хотя ничего не говорила. Но он откуда-то это знал, будто Оля стала частью его самого. Еще через день, когда они с Шуркой собрались пойти в военкомат, их вызвали в школу. — Поедете в колхоз на уборку урожая. А утром, когда Анатолий зашел за Ольгой, она встретила его у порога — тихая, сникшая и в слезах. — Я не могу ехать, у папы сердечный приступ. Но ты поезжай. Я побуду тут немного. — Тебе помочь? — Не надо. — Может быть, я зайду к Юрию Петровичу? — Папа заснул. Ты поезжай. Я приеду дня через два. Вытерла слезы и улыбнулась. И проводила его до калитки. И пожала ему руку — в первый раз. Раньше они никогда так не прощались. И он пошел. На углу оглянулся. Она стояла у калитки и смотрела на него. Родные зеленые глаза, на лбу светлая прядь волос. Помахал ей рукой и снова пошел, и не знал, что не увидит Олю ни через два, ни через три дня...
* * *
— Старший сержант, ты не спишь? — Не сплю. — Как ты думаешь, скоро война кончится? — Наверное, скоро. — Да, по всему видно, дело идет к годовому отчету. — К чему? A‑а, ты же бухгалтер. — Это не мои слова. Так всегда говорил старик, с которым я работал. Даже когда его дочку отвезли в родильный дом. Он был настоящий бухгалтер. А я счетовод. — Но теперь ты станешь бухгалтером. — Я многое забыл. — Станешь. Главное, что ты любишь свое дело. То, что любишь, нельзя забыть. — И все-таки... Я в армии почти три года. А ты? — Немного больше. С ноября сорок первого. — Но ведь мы... — Да, ровесники. Я тоже с двадцать четвертого. Наш год тогда не призывали. — Ты сам? — Сам. После речи Сталина. Шестого ноября, помнишь? — В общем помню. Но... — Там говорилось, что у немцев танков больше, чем у нас. Нужны были отряды истребителей. Они создавались из добровольцев. Время шло тяжелое, и к возрасту уже не особенно придирались. Мне было тогда семнадцать с половиной. — И ты... — Не только я. Из станицы нас ушло трое. — Значит, ты был пэтеэровцем? — Нет. Имелись в виду гранаты и бутылки с горючей смесью. Но действовать нам довелось как стрелкам и при этом в разных местах. Я попал под Таганрог. — Тебе пришлось и отступать? — Пришлось. — А я только наступал. Печку разжечь? Здесь есть дрова. — Разжигай. Ночь длинная. Она была длинной, почти бесконечной, эта зимняя ночь. Она всегда такая, если человеку не спится, если мысли водят его по дорогам прошлого. Водят и воскрешают давно минувшее и чаше всего нелегкое...
9
Удивительно быстро обживается солдат на новом месте. Просто уму непостижимо, как это делается. Поутру, к концу недели, глянул Груздев на нейтральное поле и уловил себя на мысли, что оно стало для него таким же привычным, непременным, как воздух, небо, автомат на груди, извилистая траншея и вся его трехлетняя окопная жизнь. Удивительно быстро... И пойми, разберись, как это происходит у солдата! Вот лежит он под огнем на нейтральном поле. Где-то позади дорога — длинная, прямо-таки бесконечная, — по которой шел он в колонне. Где-то там, позади, полк разворачивался и принимал боевой порядок. Где-то там шел солдат в цепи и потом вместе с другими стрелками бросился в атаку. Без артиллерийской подготовки, без танков. Это называется атаковать с хода. И вот добежал он до этого места. Добежал и какой-то очень важной частью сознания понял: дальше шагу сделать нельзя, уж очень плотный огонь. И лег. Весь вжался в землю — только голова чуть приподнята. И, может быть, даже не голова, а одни глаза. Смотрит, ощупывает острым взглядом каждый изгиб желтого бруствера немецкой траншеи и упирает затыльник автомата в плечо. А вокруг — и слева, и справа, и над ним — высвистывают пули. Иная очередь врежется в землю под самым плечом — аж по щеке чем-то секанет: не то кусочками спекшейся земли, не то свинцовыми брызгами. Иная высвистит такую трель — ну прямо тебе соловей. Только так кажется потом, когда вспоминаешь. А тогда все они, свинцовые очереди, одинаковы. Посвист у них один — холодный. Других слов не найдешь — злой, холодный. А солдат лежит и смотрит — острым, ожесточенным взглядом ощупывает каждый изгиб вражеской траншеи. Лежит, смотрит и стреляет. Скупыми, короткими очередями. А правая нога уже сама собою подтягивается и ищет упор, носком выдавливает его в земле: сейчас снова будет атака и надо быстро встать. Упереться носком в лунку и вскочить. А пока солдат улучает минуту и вытаскивает из сумки гранату. Запал ввинчен заранее. Он всегда там, внутри гранаты. Не положено, но так удобней. Случается, что тут же звучит и команда: «Приготовиться к атаке! Встать... Вперед!» Бывает и по-иному. И тогда звучит другая команда: — Окопаться! Трудное это дело — окопаться под огнем. Лежит солдат перед ним — перед врагом, — как на ладони. Чуть приподнялся — и вот она, пуля. В человека попасть нелегко. Труднее, чем в мишень. Проверено. Много раз проверено. Однако же... Только кто же об этом думает? Солдат окапывается. Передвинет автомат справа налево — чтобы тут же был, прижмется к земле еще плотнее, нащупает на поясе малую саперную лопатку. И вот уже чехол расстегнут. Теперь лопатку вперед. Теперь почти вслепую нужно нагрести перед головой бугорок. Самый маленький — и тот хорош. И тот прикроет. Потом надо потихоньку отползать. Отползать и лопатой ложбинку прокладывать. А землю всю вперед. Потом опять подвигаться к бугорку и начинать все сначала. И на немца нужно поглядывать. Увидел — высунулся какой — за автомат и короткой очередью. Так, чтобы пыль на бруствере схватилась. Поглядывает солдат, а сам прижимается к земле и зарывается все глубже и глубже. И снова поглядывает — могут в контратаку двинуть. Но вот отрыл солдат окоп. Подровнял бруствер, подчистил в передней стенке нишу, разложил все свое немудреное хозяйство. И готов он, новый дом. И дух в нем появился жилой. Земля, она впитывает его сразу. Впитывает и, как живой человек, дышит и махоркой, и соленым потом, и ружейным маслом... Попробуй теперь выковырнуть отсюда солдата! А ночью поведут они от окопа к окопу траншею. Потом проложат в тыл ходы сообщения. Тут тебе и улицы, и переулки. Целый земляной город. Не город, а крепость. И пока окапывался солдат, породнился с местом. Запомнил, где какой поворот в траншее, где какой осколок валяется. А нейтральное поле в своем секторе высмотрел до последней кочки. У разведчиков получается еще быстрее. Обязанность такая: наблюдать, наблюдать, наблюдать. И все надо помнить и понимать. Младший лейтенант Семиренко не раз говорил: — Нейтральное поле каждый разведчик должен знать, как свой собственный вещевой мешок.
* * *
К концу недели Груздев знал о ничейном поле все. Он многое мог рассказать о противнике и прежде всего о его боевом охранении. — Значит, днем к ним никто не ходит? — спрашивал капитан Шмелев. — Не ходит. — Три пулемета? — Скорей всего три. По ночам в разное время стреляли из трех точек. Не думаю, чтобы переносили. — Не должны бы. — Скорей всего три. — Значит, там действительно взвод. Три пулемета — три отделения. Этот разговор происходил днем, в траншее. Вечером младший лейтенант Семиренко оставил на наблюдательном пункте Кирсанова и Марьина. — А вы со мной. Груздев, Алябьев и Булавин переглянулись. Что ж, так и должно быть. В лесу младший лейтенант сказал: — Отдыхать. Завтра на задание. Постояли перед землянкой, покурили. Тихо шумели сосны. Ветер тянул откуда-то из-за Вислы, с востока, был не здешним. Что он нес на своих крыльях? О чем шепчутся эти сосны? Груздев затоптал окурок. Сегодня нельзя думать. Ни вспоминать, ни думать. Спать. Спуститься в землянку, лечь, закрыть глаза и спать. Через пять минут Груздев уже спал.
* * *
В это утро их никто не будил. Завтракали, когда уже совсем рассвело. Ночью выпал снег. Он припорошил лапы елей. Лес стоял нарядный, праздничный. Деревья, как солдаты: зеленые мундиры, ослепительно белые подворотники. Сегодня они, как солдаты перед парадом. Груздев спросил Алябьева: — Побреемся? — Обязательно. Груздева охватило давно знакомое чувство приподнятости и той внутренней напряженности, которая собирает воедино все силы. Собирает постепенно, не торопясь, ничего не упуская и отрешая человека от всего, что не имеет отношения к предстоящему трудному делу. Брились, осматривали маскхалаты, чистили автоматы. Потом пришел капитан Шмелев. — Ну как, орлы? Ответил Алябьев: — Остается только крыльями взмахнуть. — Взмахнем. А теперь уточним задачу. Как и в первый день, они собрались в землянке. — Поиск проводим нынче ночью. Устраиваем засаду. Первой действует группа старшего сержанта Груздева.
10
— Попрыгали! Это сказал младший лейтенант Семиренко. Слово давно привычное и всегда значительное. Потом будет коротко сказано: «Пошли» или «Тронулись», или что-нибудь в этом роде. Но ни одно из них уже не произведет такого впечатления. Это последнее слово и есть тот штрих, который завершает внутреннее преображение. В одно мгновение оно переносит человека в жизнь новую, жизнь особенную, в жизнь, для которой нет никаких сравнений. Главное в ней обостренные слух и зрение, короткие и сильные движения и воля... Воля! Стальная, подобная пружине. — Попрыгали! И они подпрыгнули. И еще раз. И еще. Прыгали и вслушивались. Так проверяется подгонка снаряжения. Это по наставлению. Но именно так, по неосознанным законам сурового быта, каждый из них делает в новой жизни первый шаг. Пока они еще здесь, в траншее. Но они уже и там — за бруствером и еще дальше — за минным полем, за «колючкой», в двух шагах от врага. В группе захвата их — трое. Задача укладывается в одну фразу. «Выйти к ходу сообщения, ведущему из немецкого боевого охранения в траншею и, устроив засаду, взять «языка». Справа в полукилометре действует разведгруппа сержанта Рябых. Она выйдет на нейтральное поле позже. Примерно через час. Но это не точно. Все зависит от того, как получится у Груздева. Младший лейтенант Семиренко придвигается к Груздеву вплотную. Глаза смотрят не мигая. Даже в темноте видно, что они серьезные. — Трогай! Перебравшись через бруствер, они идут согнувшись, мягким, пружинящим шагом, готовые каждое мгновение прильнуть к земле. Над ними низкое туманное небо. Без единой звезды. Но оно светлое, будто отражение заснеженного поля. Не останавливаясь, Груздев бросает через плечо короткий взгляд. Вслед за ним идет Алябьев, потом Булавин, Марьин, Лукашов. Дальше белая пустота, хотя он знает, что там еще три разведчика из группы прикрытия. Их делают незаметными маскхалаты и ночь. Значит, видимость не более пяти — шести метров. Груздев вглядывается во мглу: где-то неподалеку свои проволочные заграждения. То и дело смотрит он под ноги. Саперы оставили на снегу неглубокие следы. Сейчас это единственный ориентир. Следы доведут до самой «колючки». До своей. У прохода через проволоку их встречают два сапера. Один из них поднимается и молча ведет дальше. Идут медленней. Впереди немецкое минное поле и за ним спираль Бруно. Еще час назад туда ушли саперы и первая группа прикрытия. В туманной мгле вспыхивает ракета. Свет неяркий, молочный. Но они сразу же ложатся. Потом снова скользят по степи, молчаливые, похожие друг на друга и как бы бестелесые. В свете следующей ракеты Груздев успевает рассмотреть кольца проволочного заграждения. Еще несколько шагов, и дальше по-пластунски. Прямо на проходе лежит Кирсанов. Он придвигает к лицу Груздева руку, показывает большой палец: все в порядке. Приникает к самому уху. Сквозь тонкую материю капюшона Груздев чувствует горячее дыхание Кирсанова: «3а «колючкой» чисто». Что ж, там мин и не должно быть. Обычно не бывает. Разве что только в бруствере. Теперь надо затаиться, передохнуть и осмотреться. Алябьев в таких случаях говорит: «Надо прижухнуть». В полосе поиска стрельбы почти никакой. Автоматы потрескивают то справа, то слева. Это может быть делом случая. А если немцы что-то заметили и приготовили ловушку? Груздев вспоминает ночи, проведенные на наблюдательном пункте. Да, тут всегда вели огонь редко: траншея прикрыта боевым охранением. Но надо еще немного выждать. Длинная трасса светящихся пуль проносится над головой раньше, чем он улавливает клекот пулемета. Стреляют из первой траншеи. Груздев выжидает еще. Следующая трасса должна пройти левее, потому что окоп боевого охранения от них справа. Груздеву кажется, что он даже различает бруствер. Вот он чуть горбится на фоне неба. Если ползти прямо, они упрутся в конец траншейки, в ее правый фланг. Но этот фланг им и нужно обойти. Пулемет молчит. Груздев выжидает. Поиск требует дерзости, вдохновения и еще... И еще выдержки. Выдержка — это венец точного расчета. Ну, так давай же, кто кого? Трассирующие пули летят на этот раз широкой полосой. Пулеметчик стреляет с рассеиванием влево. Тонко звенит колючая спираль. Наверное, пуля попала в проволоку. Но почему он стреляет так низко? Груздев следит глазами за желто-зеленой трассой. Она чуть приподнимается и уносится вдаль, к лесу. Просто в руках дрогнул пулемет. Груздев тихо толкает Алябьева. Сразу же за проволокой сворачивает влево и ползет почти вдоль заграждений. Надо отсчитать около двадцати метров. Их пятеро. Трое из группы прикрытия остались у прохода. На перчатки налипает снег. Они начинают скользить. Груздев подносит их ко рту, зубами сдирает заледеневшую корку. И снова ползет. Над головой с шумом проносится еще одна трасса. Но теперь так и должно быть. Кажется, двадцать метров позади. Он нащупывает руками рытвину, запорошенную снегом. Это то, что надо. Здесь останутся Марьин и Кирсанов. С пулеметом. Они будут держать под прицелом боевое охранение. А теперь под косым углом к ходу сообщения. Ползут почти рядом. Алябьев — справа, Булавин — слева. Груздев уходит чуть вперед. У него самые чувствительные руки. Когда до земляного вала остается не более пяти шагов, он снимает перчатки, засовывает их на спине за ремень. Пальцы ощупывают снег, добираются до мерзлого грунта. Чисто. Ногами поддает тело вперед. Чисто. Еще раз. Чисто. Еще... В бруствере тоже мин нет. Он отогревает за пазухой руки. Алябьев — справа, Булавин — слева. Локоть к локтю. Молчат. Все оговорено заранее. Нужно ждать. Должен же кто-то пройти по ходу сообщения. Ставка взята на двоих или троих и в крайнем случае на четверых. И самое главное: надо взять «языка» без шума. Иначе отсюда трудно, почти невозможно будет выбраться. Извилистая щель хода сообщения чернеет перед ними, молчаливая и чужая. Они лежат у самого вала. Груздев чувствует, как у него стынет тело. Мороз крепчает. Но никто не идет. Тишина, скованная морозом, плотная, почти твердая. И холодная, мертвая. Где-то в стороне стреляют и, наверное, ходят из ячейки в ячейку, а здесь тихо и пусто. Надо надеть перчатки. Сколько времени? Наверное, они лежат здесь уже целый час. Груздев подтягивает левую руку. Циферблат, как белое пятно, — ни цифр, ни стрелок. Надо еще ближе и на минуту закрыть глаза — снег ослепляет. В темноте он губами отворачивает края перчатки. Часы перед левым глазом. Теперь стрелки видны отчетливо. Прошло всего-навсего тридцать две минуты. Так всегда. Когда ты на нейтральной полосе, вдали от своих, время останавливается. Каждая минута растягивается в целую вечность. И ты сам как бы заторможен и затерян в зыбком враждебном воздухе. Но это до тех пор, пока не увидишь врага. Груздев смотрит по сторонам. Перед Алябьевым на снегу — черная ребристая лимонка. У Булавина под рукою нож. Все рассчитал бухгалтер: раз без шума, значит граната не нужна. Слева стучит пулемет. В первой траншее. Когда слышишь его издали, очередь сливается. Тут он близко и стучит. Это — скорострельный. А впереди, за ходом сообщения, там, где должна действовать группа сержанта Рябых, совсем тихо. Пистолет — он за пазухой — уже вобрал в себя студеность промерзшего снега и обжигает живот. Надо сдвинуть вальтер в сторону. Груздев приподнимается и... тут же приникает к земле. За ходом сообщения — вначале показалось, что очень близко, — трескуче разрывают тишину густые автоматные очереди. Яркий свет заливает все поле. Очереди частые, лихорадочные. Тело само собой вжимается в снег — оно как-то враз наливается гибкой и подвижной силой. А глаза... Они живут тоже как бы самостоятельно и все видят. Это дается через опыт. Глаза всегда должны быть открытыми. Огонь ведется на узкой полосе и как раз примерно в полукилометре. Но еще не увидев, Груздев по звукам стрельбы понял: стреляют немцы. А очереди чаще, гуще. Так ведут огонь, когда обнаруживают противника. Значит... Алябьев одними губами: — Влипли. Да, влипли. Там, у Рябых. А огонь уже охватил весь передний край. Пулемет слева стучит, не умолкая. В яростном припадке клокочут автоматы. В свете ракет — они вспыхивают по всей линии немецкой траншеи — снег горит, слепит глаза, и его отблески становятся такими же острыми, как прошивающие зыбкий воздух трассеры. Небо стремительно наполняется воем мин. Выстрелов Груздев не уловил. Свои или чужие? Мины обрушиваются на немецкую траншею — на участке Рябых. Это свои прикрывают отход. Булавин придвигается к самому плечу: — Все. Надо уходить. Груздев кладет руку ему на затылок, прижимает к земле. Бухгалтер покорно опускает голову лицом в снег. Он умеет подчиняться. Но, наверное, не понимает. У него во всем арифметический расчет. По логике вещей, надо действительно уходить. Если группу Рябых обнаружили, теперь по всему переднему краю немцы будут смотреть в оба. Но в том-то и дело, что уходить не следует. Нужно выждать, уцелеть и еще прежде остаться незамеченными в этой буре света и огня. Нужно вжаться в снег... Ракета взвивается у устья хода сообщения. Прочертив рыжую дугу, она загорается прямо над ними. Рассыпает искры, гаснет почти над землей. В ее последней яркой вспышке Груздев краем глаза видит Алябьева и черную гранату под самым бруствером. Сержант неподвижен, будто и нет клокочущего огня и дикой скачки ослепляющих ракет. Группа сержанта Рябых, наверное, уже отошла. У нее другого выхода нет. Конечно, отошла. Отчетливо слышна гулкая дробь максимов. А вот и вспышки выстрелов — частые, в каждой ячейке. Значит, Рябых уже в своей траншее. Очередная ракета полыхает пламенем. Искры перед самыми глазами. Опаляют лицо, трещат, будто на голове загорелись волосы. Груздев упирается подбородком в снег и от холода у него сразу немеют скулы.
* * *
Разведка наблюдением, разведка боем, разведка-поиск... Это и есть жизнь взвода. Он один на весь стрелковый полк. В наступлении всегда на виду. На марше, когда начинается преследование противника, батальоны идут в колоннах, ряд за рядом, а разведчики... у них свой строй. Они впереди полка: днем в двух-трех, ночью в одном-двух километрах. На дороге ядро, справа, слева и впереди — дозоры. Взвод первым сталкивается с врагом. Днем их видно всем. Ночью разведчиков слышат по звукам перестрелки. Но это в наступлении. А в обороне... Тут разведчиков видят немногие. В какой-то стрелковой роте знают: вот тут их наблюдательный пункт. Они всегда там. Иногда пройдет кто-то из них по траншее. Летом в пятнистом, зимой — в белом маскхалате. Пройдет и оставит за собой нездешнее дыхание. Стоит стрелок, смотрит в спину разведчику и думает: «Тот огонь, что общупал со всех сторон мою ячейку, это не самое страшное — я тут среди своих. А вот они...» Очень много раз стрелок видел, как пучилась во взрывах, рассекалась густыми огненными строчками нейтральная полоса и оттуда скатывались в траншею люди в потемневших от крови маскхалатах. И часто, очень часто они приносили с собою, бережно спускали с бруствера неподатливые тела убитых. Там, на нейтральной полосе и в расположении противника, разведчики ничего не оставляют, не имеют права оставлять. Из всех видов разведки самый трудный поиск. Нужно пройти через минные поля и проволочные заграждения, пройти незамеченными и, проникнув в боевые порядки противника, взять и принести в свою траншею живого врага — «языка». Поиск готовится всегда очень тщательно, учитывается все, вплоть до того, куда нужно положить перчатки, какой рукой ударить в голову и какой сдавить горло. И все-таки... Противник знает, что в его траншею могут прийти разведчики. И он не дремлет. И достаточно сделать одно неосторожное движение, как все расчеты, основанные на долгих наблюдениях и опыте, оказываются нарушенными, а планы, задуманные самым хитрейшим способом, тщетными. И тогда огонь гуляет по всему переднему краю и к противнику не подступишься. Но проходит время, и фронт опять затихает и стынет в настороженном молчании. И вот тут-то можно обхитрить врага.
* * *
Наверное, они лежат уже не менее двух часов. Груздев снова подносит к глазам левую руку и сразу видит стрелки. Прошло целых три часа. Огонь уже стих, постреливают совсем редко. Сколько осталось до рассвета? Время еще есть и нужно лежать. Теперь немцы их не ждут. Обычно разведка приходит один раз. Если не получилось, тогда придет через несколько дней, в крайнем случае в следующую ночь. Это по логике... Ну, а если без нее? На войне очень часто без нее. И что удивительно: об этом думают немногие. Почему-то не догадываются. Маскхалат примерзает к снегу. Груздев потихоньку шевелится и опять замирает. Должен же кто-то пройти по этому ходу сообщения? Небо темнеет. Нет, оно не темнеет — просто опустилось ниже. И кажется, с него срываются хлопья снега. Передний край скован морозом и тишиной. Ни одного выстрела. Тело налилось чугунным холодом, оно как чужое. Груздев сжимает в перчатках пальцы. Главное тут руки. Они нужнее всего. Под Булавиным по временам скрипит снег. А Алябьев... Этот неподвижен. Но по его позе видно: лежит, готовый к прыжку. Сколько теперь осталось до рассвета? Наверное, пора уходить. Груздев снова смотрит на часы. Рука как деревянная. Глаза слезятся. Стрелки широкие, расплывчатые: почти пять. В запасе еще полчаса. Совсем мало. Когда возвращаешься с пустыми руками, всегда плохо. Капитан Шмелев очень вежливый. В таких случаях он никогда не ругается. Мягко спрашивает: — Ну что, выспались? И смотрит через свои очки. И не прибавит больше ни слова. Они всегда могут сказать что-нибудь в свое оправдание. Но никогда не говорят. На душе тяжелое и тревожное чувство. Больше всего в нем сожаления, будто они и в самом деле могли взять «языка», но не сделали этого и там, на нейтральной полосе, спали. Да, сожаления. Завтра снова идти. Если сегодня не получилось, завтра снова... И так до тех пор, пока... Шаги зазвучали неожиданно. Тихие и осторожные. Бух‑бух, бух‑бух. Ближе, ближе. Тело обдает жаром, и оно снова наливается живой силой. Немцы идут со стороны траншеи. Но их не двое и не трое. Их и не четверо. Во мгле Груздев различает длинную вереницу людей. Наверное, разведчики. Но он тут же отбрасывает эту мысль: на немцах не белые маскхалаты, а обычные темные шинели. Груздев прижимает Алябьева и Булавина к земле. Сдерживая дыхание, они вслушиваются, ловя каждый звук и слухом, и всем своим телом, превратившимся в один напряженный до предела мускул. От немцев их отделяет только невысокий вал. Бух‑бух, бух‑бух... Груздев считает. А они все идут и идут. Каждый шаг отдается ударом в его теле. Бух‑бух, бух‑бух... Их около тридцати. Кто-то зацепился автоматом за стенку, тихо выругался. Шаги отдаляются, замирают. Но еще чуть раньше Груздев приподнимается, смотрит немцам вслед. Сомнений быть не может: это не разведчики, обычные егеря. Но зачем они пришли в боевое охранение? И вдруг снова шаги. Частые, громкие. Немцы возвращаются. На этот раз они разговаривают, кто-то даже смеется. Сдержанно, но все-таки смеется. Идут не таясь и явно торопятся. И вот они уже совсем рядом. Бух-бух-бух... И снова Груздев считает. И на этот раз немцев тоже около тридцати. Но их все-таки меньше. Почему? Как же он не догадался сразу! Все очень просто. И потому, что их меньше, и потому, что они ведут себя по-иному. Это другие немцы. Произошла смена взводов. Те, что уходят в тыл, всегда ведут себя по-иному. Нужно ждать. Ждать! Кто-то обязательно задержится там, в траншейке боевого охранения. И скорей всего это будет офицер. Кто-то обязательно... И он должен идти тут, мимо них. Обязательно!.. Вот сейчас. Сейчас... Он снимает перчатки и опять засовывает их за ремень на спине. Теперь в запасе несколько минут... Их было двое. И по тому, что они шли не спеша, Груздев понял: один из них офицер. Он не смотрел — могут заметить. Слушал. Но кто из них офицер: первый или второй? Конечно же первый. В этом случае солдат прикрывает. Груздев дважды толкает Алябьева локтем. Это означает: «второй твой, бьешь насмерть». Вытаскивает нож и поворачивает его рукояткой книзу. Подтягивает ноги. Бух‑бух... Еще два шага. Еще шаг. Они стремительно сваливаются на немцев, и Груздев тяжелой рукояткой ножа бьет переднего в голову. Вместе они падают на дно узкого земляного коридора. Заученным движением правой руки он нащупывает лицо врага, а левой выдергивает из-за ремня перчатку. И вот уже кляп во рту.

Тут же Груздев подхватывает немца под руки, подает его Булавину. Алябьев уже выбрался наверх. Вдвоем они уносят «языка» во мглу ночи, а Груздев наклоняется ко второму немцу, поднимает его и перебрасывает через земляной вал: чем позже его обнаружат, тем лучше. Выбирается наверх, выравнивает руками снег на бруствере. Алябьева и Булавина он настигает шагах в десяти от хода сообщения. Они связали немцу руки, пропустили веревку под мышками и волокут его по снегу, подвигаясь вперед на четвереньках. Из боевого охранения одна за другой взлетают две ракеты, и им приходится лежать. Шинель немца темнеет на белом поле. Еще одна ракета. Наверное, заметили... Не видят! Шинель не очень черная, метель сделала ее серой. На ходу Груздев посыпает немца снегом. Ноги скользят и плохо сгибаются. Кажется, что снежная наледь сковала тонкую ткань маскхалата, ватные брюки и намерзла прямо на голых коленях. Надо сорвать корку. Но останавливаться нельзя. И нужно плотнее прижиматься к земле. Теперь они на одной линии с траншеей боевого охранения. Бруствер четко вырисовывается на фоне серого неба. Ладонями Груздев толкает немца в каблуки сапог. Голенища уже совсем белые. Метель набирает силу, сечет по лицу. Груздев поднимает голову: где-то тут Марьин и Кирсанов. Они должны увидеть. Иначе будут ждать и не уйдут отсюда. Алябьев и Булавин забирают круто влево. Значит, добрались до «колючки». Еще два рывка, и Груздев различает мохнатые кружала проволоки. Но где же Марьин и Кирсанов? Он снова приподнимается, поворачивается вправо и тотчас слышит: — Мы вот они! Громко, слишком громко, Марьин. Алябьев цедит сквозь зубы: — Заткнись! С треском вспарывает воздух ракета. Свет ослепительный. Необыкновенно яркий. Но это тоже только кажется. Ракета как ракета... И тут же пулеметная очередь. Но уже в темноте — не прицельная, сразу оборвалась. Следующая уходит в сторону. «Колючка» теперь справа. Ей нет конца. Тянется и тянется. Где же проход? «Колючки» нет... Все на своем месте. Алябьев и Марьин отползают в сторону. Вначале нужно убрать за проволоку «языка». Груздев с силой толкает немца в каблуки сапог, и он въезжает в проход, как на салазках. Теперь почти все, теперь он никуда не денется. Снова на четвереньках. Надо проползти еще немного. Совсем немного! Теперь можно встать. Груздев вскидывает немца на плечо и бежит. Алябьев справа, Булавин слева. Неожиданно немец бьет Груздева коленом в живот. Он падает и прямо под собой видит чужие глаза. Корчась от боли, инстинктивно поднимает руку и... Алябьев тут же: — Оглушить? — Не надо. — Может, все-таки оглушить? — Не надо. И сквозь боль в животе: — Рука... у тебя... тяжелая. Алябьев стягивает ноги немца ремнем, подносит к его лицу нож. Видал? Это понятно и без переводчика. Груздев поднимается, высматривает проход в своем минном поле. Теперь немца несет Алябьев. Булавин прикрывает. В ночной мгле у самой земли вспыхивает синий огонек. Вспыхивает и гаснет. Это сигналит сапер. Там проход.
* * *
Немного позже они сидели в блиндаже и при свете коптилки-гильзы рассматривали немца. «Язык» — что надо! Обер-лейтенант. Это — по погонам. Но что он скажет? Лицо у него бледное и худое, какое-то высохшее. Глаза желтые. Груздев никогда таких не видел. Веки красные, а глаза желтые. И погасшие. Совершенно без блеска. Немец дышал, широко раздвинув губы. Нижняя челюсть опущена, будто кляп все еще у него во рту. В теплом воздухе блиндажа поплыл запах спирта. Груздев вспомнил первый вечер на наблюдательном пункте, хриплое бульканье патефонной пластинки. Уж не этот ли обер-лейтенант развлекался в ту ночь? Капитан Шмелев сказал: — Судя по глазам — алкоголик. Наверное, слово алкоголик что-то напомнило немцу. — Шнапс... Он пожевал губами и произнес длинную фразу. Капитан Шмелев переспросил — он свободно владел немецким языком. Обер-лейтенант снова пожевал губами, облизал их языком. — Вотка. И повторил по слогам: — Вот-ка. Капитан Шмелев подмигнул Груздеву. — Найдите спирту. Этот подонок живет только на жидком топливе. Вы выбили из него хмель, и он ничего не соображает. Фляга со спиртом нашлась тут же. Немец никак не мог сделать первый глоток. Когда он взял кружку, рука у него затряслась, а губы задрожали. Несколько раз он пытался донести кружку до рта, но это у него не получалось. Рука не могла преодолеть каких-то два сантиметра, самых последних. И тогда обер-лейтенант поставил кружку на земляной стол, наклонился и стал пить по-собачьи, почти одним языком. Разведчики, пораженные этим зрелищем, смотрели на немца молча. А он все лакал и лакал, не обращая на них внимания и видя, наверное, только кружку. Потом откинулся на стенку блиндажа и несколько минут сидел, закрыв глаза. А когда открыл их, они у него горели живым, лихорадочным блеском. Точно совершая чудо, он напыжился, победоносно глянул на разведчиков, без труда поднял кружку и, твердо поднеся ее ко рту, выпил оставшийся спирт залпом. И сразу же заговорил — легко и свободно. Капитан Шмелев кивал головой и делал пометки в записной книжке. Мельком посмотрел на Груздева: — Группы прикрытия не вернулись? Груздев вышел в траншею и столкнулся с Кирсановым. — Пришли? Будто находясь все еще там, в проходе через вражеское проволочное заграждение, где разговаривать нельзя, Кирсанов поднял руку, показывая большой палец: все в порядке! Подошел младший лейтенант Семиренко и, как всегда, немногословно сказал: — Чисто сработали. Груздев спросил: — Как у Рябых? — Обнаружили возле «колючки». — Никого не... — Ранило одного сапера. Хотели пойти еще раз, но Шмелев запретил. Сидят сейчас на НП. Еще надеются. Я послал за ними связного. Теперь все!
11
Позже, когда они вернулись в лес, командир взвода как бы между прочим спросил: — Значит, соседку, говоришь, встретил? Груздев не удивился этому вопросу. Младший лейтенант должен был заговорить о встрече. Он никогда ничего не забывал. Но всему свое время. Перед поиском нужно было думать только о предстоящей операции и лишь о ней говорить. То, что не входит в орбиту боя, отвлекает, мешает человеку быть солдатом. Старый, испытанный временем закон. Они сидели вокруг костра, ждали, когда капитан Шмелев закончит допрос пленного. По дороге с переднего края обер-лейтенант снова попросил спирта, а выпив, сказал, что еще раз хочет поговорить с капитаном с глазу на глаз. Сейчас они в землянке. А здесь, у костра, собрались Семиренко, Алябьев, Булавин, Кирсанов. Не было только Рябых и его отделения. Они еще там, в траншее. Невысокое пламя освещало лица. Глаза младшего лейтенанта смотрели внимательно, но сквозь их всегдашнюю серьезность и даже строгостьпроступало что-то очень мягкое. Они как бы говорили: «Может быть, это очень сокровенное. Но я хочу помочь тебе. Конечно, ты можешь ответить тоже как бы между прочим. И тогда я не буду спрашивать». Груздев окинул взглядом всех, кто сидел возле костра. Неяркий красноватый свет делает лица одинаковыми. Но, может быть, это не свет, а одно общее для всех выражение. То самое, что проступило в серых глазах младшего лейтенанта. — Это соседка. Но она для меня... Они смотрели на него все так же внимательно. Никто не сдвинулся с места, никто не сказал ни слова. Груздев тоже молчал. Вплотную к костру подступила черная темень. Она окружала их стеной. За этой стеной полоскалась автоматная трескотня. И там же в бескрайней ночи звонко ухали мины. То близко, то чуть подальше. Ухали и ухали. Первым заговорил Булавин: — А письма... Ты, кажется, не получал. За этим вопросом стояло очень многое. Но Груздев не хотел, не мог рассказать. — Не получал. Снова молчали. Передний край тоже затих. Лишь из землянки доносился неясный голос обер-лейтенанта. Булавин встал. Высокий, нескладный. Развел в стороны длинные руки и хлопнул ими себя по бокам. О, он тонко чувствовал, этот Бухгалтер: — Теперь ты ее найдешь. Тут простой расчет. — А при чем расчет? — спросил Алябьев. — При том. Раз люди идут одной дорогой, значит, встретятся. Семиренко подтвердил: — Встретятся. Тоже встал и, обращаясь к Груздеву, сказал: — Сейчас капитан Шмелев закончит допрос и ты с Булавиным поведешь пленного в дивизию. Штаб уже на плацдарме. Где-то возле штаба и медсанбат. Ищи в медсанбате. Из землянки выглянул капитан Шмелев. — Дайте спирту. Этот подонок должен пить через каждый час. Говорит, что иначе жить не может. Рябых не вернулся? — Нет. Вот-вот должен быть. Младший лейтенант кивнул головой в сторону землянки. — Что-нибудь интересное? — Не «язык», а оперативная карата. Во второй траншее никого нет. Очки капитана сверкнули радужным светом: — Но зато во второй позиции... Кто это? С дороги свернула к землянке группа людей в белых маскхалатах. Еще издали Груздев узнал разведчиков взвода. Они шли медленно, будто страшно устали. Двое несут на плечах что-то длинное, завернутое в плащ-палатку. И вдруг он заметил, что среди них нет сержанта Рябых. Шагнул навстречу и остановился. А они шли, не прибавляя шага, придавленные той странной усталостью, которой нет названия. В ней и ожесточение, и горечь потери, и вина живых перед мертвыми. Это случилось полчаса назад. Уже в лесу. Мина попала в ход сообщения. Разорвалась в ногах у сержанта. Он шел первым. Других даже не поцарапало. А его наповал.
* * *
Капитан Шмелев шагал впереди. Чуть позади него обер-лейтенант. Груздев и Булавин замыкали шествие. Штаб дивизии оказался всего километрах в двух. Для них, привыкших шагать и шагать, путь был совсем коротким. Но Груздеву показалось, что шли они долго. Так вот всегда. Отойдешь чуть подальше от переднего края, и тут как тут эти мысли. Булавин как бы про себя сказал: — В поиск сходили и... ничего. А здесь, в тылу, да еще в ходу сообщения... Никакой системы. Они думали об одном и том же. Система, конечно, была ни при чем. Во всех других случаях тоже говорили что-нибудь подобное. Просто трудно было сразу свыкнуться с тем, что сержанта Рябых уже нет. И никогда не будет. Это все. Был человек и вот его нет. Навсегда исчез с лица земли. Исчез... Какое странное слово... И навсегда. В этом и есть самое непостижимое: навсегда. Конечно если вдуматься, можно понять. И тогда... Нет, это все-таки непостижимо. Неправда! Понять можно. Не надо обманывать себя. Понять можно. Страшно? Да, страшно. Особенно, если думать о себе. Все остается, а тебя нет. Все остается... На это надо смотреть открытыми глазами! Все остается... Все... Но так было всегда. Человек рано или поздно умирает. Даже в той, обычной жизни. Умирает и... Но смерть это еще не конец. Человек умирает и... остается. И каждый должен думать о том, каким он останется, каким оставит себя на земле. Конечно, каждый должен многое получить. Это естественно. Но каждый должен еще больше отдать. — Старшой, ты помнишь, как Рябых взял Гауптмана? Того, одноглазого, из штрафного батальона. Помнишь? Ковалева тогда ранило, и Рябых нес их обоих. Помнишь? — Такое не забывается. — Ковалев еще просил, чтобы Рябых бросил его на нейтралке, боялся, что «языка» не дотащат. А он обоих. Обоих. Хотя если бы пришлось выбирать, надо было уносить только «языка». Тогда ходили почти целый месяц — и полковые, и дивизионные, и корпусные... И все впустую. Не бросил... И такое не забудется. Да, все в этом: что оставляет человек людям. Но ведь чем дольше он живет, тем больше дает другим. Чем дольше... Значит, каждый должен... Ну, а если война? Если ты солдат? Если за твоей спиной... Тогда... Никто не знает, сколько отмерено ему здесь времени. Но каждый должен успеть отдать людям свой долг сполна. Вступает в силу Шуркин закон. Почему Шуркин? Всеобщий. Но он здорово сказал, этот Шурка: «Когда начинается война — личное приносится в жертву». На войне человек должен отдавать и отдавать. Все отдавать. До конца. — Старшой, как ты думаешь, скоро кончится война? За последние дни он спрашивал это во второй раз. Наверное, Булавин сказал очень громко. Капитан Шмелев остановился, посмотрел на немца, потом на них: — Хотите, я вам дам самый точный ответ? Война кончится в день нашей победы. Нет, он не думал шутить. Голос капитана звучал жестко: — Война кончится в тот день, когда мы разобьем фашизм. Он умолк, подбирая слова. — Другого календаря для нас нет. Время сейчас измеряется не днями, а ударами. Круто свернул в густой ельник, где в предутренней, уже поредевшей мгле виднелись не то блиндажи, не то землянки, Груздев тихо сказал: — Время измеряется ударами, а жизнь человека тем, сколько силы вложил он в эти удары. Булавин на ходу повернулся к Груздеву. Может быть, не понял? Нет, не таков Бухгалтер! У него свое мнение. — Я бы сказал по-другому. Не жизнь, а сам человек... Да. На войне человек оценивается по силе, которую он вкладывает в удары по врагу.
12
Когда сдали пленного, уже рассвело. Капитан Шмелев остался в штабе. — В медсанбат? — спросил Булавин. — Если не возражаешь, я с тобою. Вместе они разыскали коменданта. Он объяснил: — Головной отряд медсанбата уже здесь. Пойдете по дороге в сторону переправы, слева увидите балочку, там и ищите. Это недалеко, не больше километра. Дорога была безлюдной. Укатанная, твердая, безмолвная. Она молчала так же, как молчал лес. Но дорога не умела хранить своих тайн. Она несла на себе следы напряженной ночной жизни и показывала их всем. Надо было только понимать их. Груздев умел читать эту книгу. Сколько здесь прокатилось тяжелых пушечных колес! Только за последнюю ночь. Он смотрел по сторонам и машинально отмечал про себя то артиллерийскую огневую, то брезентовый тент «катюши», то зачехленный ствол тяжелого миномета. Все было новым — только что прибывшим. Об этом говорили и свежие колеи, ведущие к огневым позициям, и грудья земли, кое-где проглядывающие из-под маскировочного снежного слоя. Значит, артиллерия уже подтянулась и не сегодня-завтра придут стрелки. Значит... В нем жил разведчик. И он не мог не делать обобщений. Но все это происходило сейчас как бы не зависимо от Груздева, между прочим. И оно не мешало ему жить другой жизнью. Груздев видел и эту зимнюю дорогу, петляющую меж сосен, и широкий степной тракт, прямой как стрела; он видел и мутное, низкое небо, подслеповато, почти в упор разглядывающее лес, и совсем-совсем иной небосклон — синий, высокий... Но в этой другой его жизни не было мыслей. Только чувства. Они омывали сердце, растворяли в себе напряжение, мягко снимали и уносили заботы. Чем дальше шел Груздев, тем больше умерял шаг, точно хотел продлить это странное состояние, чтобы освободиться еще от чего-то. И вдруг почувствовал: там, под самым сердцем, появилось что-то новое — тревожное и необъяснимое. Он выжидал, надеясь, что это сейчас уйдет. Но оно не уходило. Было так, как если бы он хотел через что-то перешагнуть и вдруг понял: сделать этого не может. И тогда Груздев остановился, посмотрел на свои руки, сошел с дороги, погрузил их в снег. — Что, умоемся? — спросил Булавин. Груздев не ответил. Набрал горсть снега — чистого, ослепительно белого. Потом стал тереть им руки. Он и сам бы не мог сказать, для чего это делает. Тер и тер. И снова погружал руки в сугроб. Он знал: это надо сделать. Чувствовал: надо! Булавин уже успел вытереть лицо перчаткой, когда Груздев выпрямился и так же, не говоря ни слова, зашагал по дороге. — А лицо? Ты что, только руки? — А при чем тут лицо? Вопрос вырвался сам собою и прозвучал, наверное, странно. Но Булавин понял его, как шутку: — Вот именно, при чем? На войне главное — руки. Груздев хотел поправить его. — И их отмыть можно. А душа... И замолчал. Об этом говорить не следовало. И это надо было в себе подавить. Резко бросил Булавину: — Пошли. И через два шага: — Выше голову, ефрейтор! Спишь на ходу. Все дело в бессонной ночи. Когда человек ослабевает, он размягчается. Черт знает, до чего можно договориться. Руки, душа!.. С рук надо смывать грязь, потому что ими-то и приходится брать за глотку этих... — Как капитан назвал обер-лейтенанта? Кретином? — Нет, подонком. Вот-вот, подонки. На них много грязи. И когда берешь их за глотку, поневоле пачкаешь руки. А душа... Душа тут ни при чем. Это совсем другое. То, что живет там, называется иным словом. Когда они свернули в балочку и были уже в нескольких шагах от палаток, поставленных в низине под осинами, Булавин остановил Груздева: — Подожди. Дай глянуть, в каком ты виде. А то еще... Знаешь, сердце девичье такое. — Какое? Булавин задумался: и в самом деле, какое? Он не находил ответа, и это было написано у него на лице. Ну, думай же, Бухгалтер, думай! — Оно к красивому тянется. Сказал и, наверное, почувствовал, что в этом ответе чего-то не хватает. — А знаешь... Груздев неожиданно для себя сказал: — Знаю. Булавин улыбнулся. — Тебе, конечно, виднее. И совсем тихо: — Меня еще никто не любил. И заторопил: — Пошли. Из палатки — их было две, и эта оказалась ближней — вышла женщина. Без шинели, с открытой головой. Светловолосая, тоненькая, с румянцем во всю щеку. Булавин схватил Груздева за руку. — Она? — Нет. Булавин не поверил: — Смотри лучше. Может, изменилась? Красивая... Подошли ближе. На узких погонах у женщины было две маленьких звездочки. Груздев козырнул: — Товарищ военфельдшер, разрешите обратиться? — Обращайтесь. Прищурила глаза, оглядела их с ног до головы. Груздев представился, спросил об Оле. — Краева? Да, знаю хорошо. Только ее тут нет. Санинструктор Краева в госпитале. — Ранена? Груздев положил руку на автомат и тотчас отдернул ее, и военфельдшер заметила это и улыбнулась. — Она же санинструктор! Краева повезла раненых. Он хотел ей рассказать многое, может быть, абсолютно все, но вдруг заметил, что она щурит глаза как-то насмешливо, и ничего не сказал. И тогда выступил вперед Бухгалтер: — Они, товарищ военфельдшер, из одной станицы. Соседи. Он говорил еще что-то, но Груздев уже не слушал. Взял Булавина за плечи, отодвинул его в сторону и, исподлобья глядя военфельдшеру в лицо, сказал: — Вы, конечно, увидите Краеву. Передайте ей, что приходил Анатолий. Скажите, жив, здоров и... Посмотрел в упор, повторил: — Жив, здоров и... любит ее. Теперь глаза военфельдшера были широко открытыми. Она неожиданно для него сказала: — Какой вы, Толя, милый. И скороговоркой: — Передам, все передам. И знаете что: приходите вечером. Она должна вернуться. И сощурила глаза. Но теперь Груздев уже не видел в них насмешки. Просто у нее такая манера: смотреть прищурившись. — Я приду. Обязательно приду. Но он не пришел. Вечером капитан Шмелев поставил новую задачу. Теперь полоса наблюдения простиралась всего на полкилометра. Значит, наступление. Когда стемнело, весь взвод был уже в первой траншее.
13
Ночью из верховьев Вислы скатились мягкие волны тумана. Они прихлынули к Сандомиру и тут остановились. Молочная зыбь дышала, как живая, росла, набирала силу, бесшумно выплеснулась на плацдарм, и в ней утонул весь лес — ели и осины, орешник и мачтовые сосны. Потом волны продвинулись еще дальше — вниз по реке к Пулавам, Магнушеву, Радому и докатились до самой Варшавы... Кипенно-белые, сказочно-причудливые. Может быть, и в самом деле они были красивыми. Только в ту ночь этого никто не заметил. На лесных просеках ездовые наезжали на пни, крепким словом поминали и небо, и туман, и того, кто придумал такую погоду. Стоя на коленях, они руками шарили под колесами и лишь на ощупь находили колею. Стрелки в первой траншее до боли в глазах вглядывались во мглу и, ничего не видя, тоже кляли в душе это белое наваждение, так некстати напущенное небом на землю. — Скажи ты, как вроде наколдовал кто-то. — А ты перекрести нейтралку, гляди, развеется. — И то дело. И крестил стрелок ничейное поле очередями из автомата. В другой ячейке — свой разговор: — Плевал я на этот туман. Подморозит, и он свернется. — Если продержится до утра, считай, что нам не повезло. По такому туману ИЛы не полетят. — «Юнкерсы» тоже не поднимутся. Так на так и выйдет. — Не скажи. Это тебе не сорок первый и не сорок второй. У немца авиации теперь меньше. Опять же и передвинуть ее нужно сюда. Нет, не скажи. Не повезло. ИЛы, они как проутюжат, так уж проутюжат. А теперь что ж... — Значит, артиллерии и танков тебе мало. Мед ему, да еще и ложку. Гранаты и автомат у тебя для чего? Или ты хочешь в атаку сходить так, вроде бы на прогулку, по чистой дорожке? — Я за то, чтобы меня поддержали. Огнем! — А ты не беспокойся. Насчет этого в штабах, небось, обдумали. Твое дело — автомат и гранаты. Тут и пораскинь мозгами. А то будешь оглядываться да на небо посматривать: где вы там? Поддержите Васькову штаны. На дядю надейся, а сам не плошай. Тут у каждого свой маневр. — А ты не учи. У них, знаешь, какие доты? — Плевал я на ихние доты. — А это утречком посмотрим. — Нечего смотреть! Иждивенец!.. — Чего такое? Это почему ж ты меня таким... малолетним словом?! Да я сам сколько дотов блокировал! Десять, а... — Может, пятнадцать? — А и пятнадцать! Не считал я их. Иждивенец! Скажет же... Плевал я на доты! И на туман тоже плевал... — Вот теперь ты мне нравишься. А за это давай табачку. — А свой где? — У тебя вроде покрепче. — У меня всегда... Постой, так он же из одной пачки! — Из одной, а разный. Бывает! Не веришь? — Нет, я ничего. Бывает. Бывает, что и слон летает. Держи кисет. — А ты, может, сухаря погрызешь? Поджаристый, рассыпчатый. Бери! — Не хочу. — Бери! — А ты, я смотрю, агитатор. — Знали, кого назначали. Жуй, Васьков, да мотай на ус.
* * *
Было далеко за полночь, когда Груздева разбудил капитан Шмелев. — Возьми еще кого-нибудь, сходим в штаб полка. Груздев тронул за плечо Кирсанова. — Собирайся. Глаза у Кирсанова совсем сонные. Он где-то там, в другом мире. Что ж ему снилось, этому Кирсанову? Спросить — расскажет. Только застесняется, зарумянится. Но все-таки расскажет. Глаза совсем сонные, а руки знают свое дело. Коротки солдатские сборы: ощупал на ногах обмотки — не раскрутились; подтянул пояс, передвинул на ремне нож, чехлы с дисками, гранатную сумку — все на свое место; взял автомат и готов. И в ближний путь и в дальний. Разве вот еще вещевой мешок. Только разведчики носят их не всегда. — Пошли. Туман чуть приподнялся. Через низкий и широкий проем — между мглистой пеленой и землею, — как через гигантскую амбразуру, просматривалось почти все нейтральное поле. Безмолвное, белое, пустынное. Оно доживало свой последний час. Пройдет совсем немного времени, и не станет этого поля. Будет другое — грохочущее и черное. Но поле останется полем. Оно бесчувственное и вынесет все. Сколько же примут на себя люди, которые пройдут по нему! Живые, остро воспринимающие боль. Но они вынесут. Все вытерпят! Потому, что они не просто люди, — солдаты. И им надо идти в атаку. Непременно надо. Их ничто не остановит. Ничто! Вот они, в траншее. Не спят не только наблюдатели. Поднялись уже все стрелки. Для них этот час тоже последний — перед боем, перед тяжким испытанием. Об ином не думается. Но он — этот час — может быть последним и в жизни. Может! Только тут не угадаешь. И не нужно растравлять душу. Не нужно! Твой отец не гадал. И братья тоже. Ну, а ты, каков ты? Задумался? Что ж, это нужно понять. Ты тоже солдат и должен делать свое дело. Буднично, просто и исправно. До самой последней минуты. Это и есть жизнь. Когда она кончается, ее называют подвигом. И тогда ты остаешься среди людей. Входишь в вечность. И неважно, если будешь безымянным. Ты тоже не знал всех, кто проложил тебе дорогу. Но ты всегда был им благодарен. И тебе тоже будут отдавать тепло сердец. Если даже не узнают имени. Безымянному и до боли родному... Возле одного из блиндажей Груздев услышал мягкий, с хрипотцой голос. Очень знакомый. В блиндаже кто-то читал: — Боевые друзья, настал великий час! Пришло время нанести врагу последний сокрушительный удар... Это были слова из обращения Военного совета фронта. В полумраке блиндажа Груздев рассмотрел белый полушубок. Узнал: читает парторг полка, капитан Михеев. Он всегда вместе с солдатами. Вечером приходил к разведчикам. Чуть дальше читали обращение в круглом пулеметном окопе. — Мы сильнее врага, так как бьемся за правое дело... Нас воспитывает... вдохновляет на подвиги наша партия... Прошли еще дальше, и Груздев из другого блиндажа услышал: — Дни гитлеровской Германии сочтены. Ключи победы в наших руках. В последний и решительный бой, славные богатыри... В последний... И тут все буднично и просто. Но для этого нужно было пройти через три суровых года. Груздев посторонился, потому что навстречу ему шли стрелки с термосами за спиной и с котелками в руках. Да, все буднично и просто. Сейчас будет завтрак, потом начнется артиллерийская подготовка и вслед за ней атака. По ходу сообщения сновали связные. Легкие на ногу, знающие очень секретное, и оттого подчеркнуто серьезные, неразговорчивые — не подступись. Они были такими же, как вчера и десять дней назад. Разве только сегодня их, кажется, больше. Когда вышли на лесную дорогу, Кирсанов спросил: — Который час? — Почти три. — Значит, уже начался новый день. Капитан Шмелев сказал: — Запомни, Кирсанов, этот день — 14 января. Он войдет в историю. — Я его помню всегда, товарищ капитан. Это день рождения моей матери. — Сколько же ей? — Тридцать семь. — А тебе? — Восемнадцать, товарищ капитан. — Счастливый. Груздев обнял его за плечи: — А ну-ка, скажи, что снилось? — Мама... В этот день я всегда что-нибудь дарил ей. То, что делал своими руками, — рамку для фотографии, шкатулку, фигурку из дерева. У нее уже целая коллекция. А сегодня... странный какой-то сон. Вижу маму и протягиваю ей гранату, Эф-один. А она взяла и даже не удивилась. И положила ее в свою коллекцию. Капитан Шмелев без улыбки сказал: — Подарок вполне солдатский. Впрочем, это не все. Можешь считать, что твоей матери будет салютовать артиллерия целого фронта. Наклонился к Кирсанову, тихо закончил: — Сотни стволов на километр.
* * *
Это происходит всегда неожиданно. Ты смотришь на часы, следишь за стрелками, говоришь себе: «Вот сейчас. Осталось три секунды... Сейчас»... И все-таки, когда оно начинается, вздрагиваешь, весь сжимаешься и чувствуешь себя беспомощным перед лавиной грохота, который обрушивается на землю. В первое мгновение кажется: произошло совсем не то, что ожидалось, и оно уже непоправимое, неподвластное разуму, подобное катаклизму. Как если бы какая-то неведомая сила остановила весь земной шар и заставила его вертеться в обратную сторону. Все гудит, скрежещет и разваливается. Потом это быстро проходит, и тогда хочется кричать — от неуемного восторга и ярости, потому что вся лавина огня обрушивается на голову врага. И люди не молчат: ведь это и есть начало жесточайшей схватки — наступления. Но их голоса тонут в плотном и широком гуле металла. Человек, который находится даже в ближнем тылу, может уловить ритм огня, различить калибры. А здесь, в первой траншее, выстрелы и разрывы сливаются и превращаются в один грохочущий и всеподавляющий рев. Черные дымы в первые же минуты слились с низким туманным небом и впереди уже ничего нельзя было различить. И люди присели на корточки и молча закурили, словно то, что происходило на земле, уже их не касалось. Машина была пущена, и ей ничто не могло помешать. Огонь бушевал и бушевал. Но он был подвластен человеку. Грохот — великий хаос. А марш огня — точный расчет. Спросите у того чубатого лейтенанта-минометчика, что сидит сейчас спиной к стереотрубе, и он вам скажет, сколько мин падает в эту минуту на каждый квадратный метр. И на карте покажет полосу, по которой ведет огонь его батарея. Заинтересуетесь, объяснит: — Пятнадцать мин в минуту. Но это наших. Соседняя батарея бьет по той же площади. Кроме того, полковые пушки кладут ежеминутно на каждый метр по снаряду. Да еще дивизионные... Это и есть стрельба не по целям, а по площадям. Бушует, бушует огонь. И все рассчитано на минуты и метры. А стрелки уже вошли в ячейки. Нетерпеливо переступают с ноги на ногу, примериваются, как лучше вспрыгнуть на бруствер. Все, что пережито накануне, передумано за ночь и особенно в последний час перед артподготовкой, теперь отступило, осело на самое дно сердца. Там, там ему место, в глубинных, в дальних закоулках, из которых многое потом совсем не возвращается. А наверху — одно нетерпение: быстрей бы... И глаза ищут красное пламя ракет. Где же этот сигнал? Многое собрано в этом неуемном нетерпении. Оно вбирает в себя и ярость бойца, и боль утрат, и огонь мщения, и обиду за то, что, может, вот сейчас придется сделать на этой земле свой последний шаг в жизни. Оно растет, клокочет у самого горла, наполняет руки и ноги тугой силой. Где же они, эти ракеты? Над головой с глухим и могучим ревом, разрывающим общий грохот артиллерийской подготовки, проносятся огненные хвостатые снаряды. Младший лейтенант, тот самый, что сидит возле стереотрубы, вскидывает руку к козырьку, вскакивает и застывает по стойке смирно. Стреляют «катюши»! Из лесу стремительно выносятся танки. Кажется, на такой скорости они еще никогда не ходили. Точно снаряды, выпущенные из гигантской мортиры. И тотчас гул артподготовки обрывается. Нет, он не умолкает — переходит на новый голос. Огонь переносится в глубину обороны.

А мутное, почти черное небо уже залито светом сигнальных ракет, и дым поглощает стрелков, ринувшихся в атаку. И сразу же из мглы вырывается светящаяся трасса пуль. Одна, другая. Они проносятся над самой землей. Вначале клокочет только пулемет. Потом ему вторят автоматы. Часто-часто. Скороговоркой. Немцев, наверное, немного. Но они стреляют и стреляют. Это те, что уцелели в смерче артиллерийского огня. Капитан Шмелев поднимается на бруствер. Он машет рукой: пошли. Делает шаг и... падает на бок. Груздев бросается к капитану. Пуля попала в бедро, на белом маскхалате проступает кровь. Капитан ругается, закусывает губу и откидывается на спину. Его можно понять: пуля шальная, случайная. И хуже всего, что в самом начале наступления. Шмелева окружают разведчики. Груздев разрывает пакет. Капитан резко поднимается, очки сваливаются в снег. Он не замечает этого, показывает глазами на запад: идите! Что-то говорит, но из-за грохота нельзя ничего разобрать. Протягивает руку к пакету, идите! Груздев ловит его взгляд. В нем что-то непривычное. Изменилось все лицо. Нет очков, и оно стало другим. Глаза — то круглые, то щелочками. Он совсем близорукий. Теперь машет рукой младшей лейтенант Семиренко: пошли! Взвод должен заниматься своим делом. Это называется разведка наблюдением. Ведь они — глаза и уши полка. И в обороне, и в наступлении. Дым все еще стелется над землей. Но в просветы теперь уже можно рассмотреть нейтральное поле и первую траншею. Всюду воронки и черные глыбы. «Колючка» разорвана и разметана. Бой быстро откатывается к виднеющемуся вдали лесу, и младший лейтенант торопит. Они ускоряют шаг, почти бегут. Неожиданно в дыму вырисовывается спираль Бруно. Уцелел огромный кусок. Не менее двадцати метров. Возле проволоки стоит стрелок. Спиной к разведчикам. Что он там делает? Груздев приближается к нему первым. Солдат держится руками за кол заграждения, свесив голову на грудь. На виске запеклась кровь. Глаза открыты и уже застекленели. В них застыло какое-то выражение. Груздев давно заметил: у убитых всегда так. И у каждого свое выражение. Глаза стрелка рассматривают колючие кольца спирали и будто говорят: «Сейчас, сейчас я через нее, проклятую, переберусь». — Убит, — говорит Алябьев. — Это Васьков. Я его знаю, из первой роты. Младший лейтенант Семиренко снова машет рукой. Они обходят «колючку», перепрыгивают через разрушенную траншею. Груздев оглядывается: стрелок все стоит. Уходят еще дальше, а он стоит. Стоит, наклонившись к проволоке, будто собирается через нее перешагнуть. Перешагнуть, догнать роту и занять свое место в цепи.
14
К вечеру две траншеи и линия дотов остались позади. Впереди, слева, виднелось польское местечко. А еще ближе по взгорку, поросшему кустарником, змеилась траншея. Атаковали с хода. Немцы встретили стрелков плотным настильным огнем, и роты залегли. К этому времени землю уже накрыла ночь. Темная, беззвездная. Из штаба полка пришел приказ: окопаться, накормить людей. Кухни подъехали к самой опушке. В морозном воздухе поплыл запах лаврового листа и свиной тушенки. От рот к лесу потянулись стрелки. Впереди старшина, за ним несколько солдат. У каждого в руках по четыре котелка. Одна такая группа проходила в двух шагах от разведчиков, и Груздев пересчитал стрелков: одиннадцать. Если учесть, что котелок на двоих... Тяжело вздохнул и почему-то вспомнил Васькова: наверное, так и стоит в ночи, один на один со всем полем. Алябьев сказал: — Ну, а мы как, святым духом? Груздев встал: — Марьин и Кирсанов, за мной. Они долго искали штабную кухню и, не найдя ее, подошли к одной из батальонных. Тут негусто толпились стрелки. Угрюмые, молчаливые, придавленные той тяжелой усталостью, которая видна и в опущенных плечах, и в вялых движениях, и во всем облике человека, ставшего вроде и ростом поменьше. В темноте кто-то в кубанке, скорей всего старшина батальона, бодро, излишне бодро, сказал: — Третья рота, подходи. Сколько? — По строевой записке сто двадцать. Голос негромкий, осипший, как бы надломленный. Это, наверное, старшина роты. — Сто двадцать было утром, а сейчас? И тут же, теперь уже тихо: — Получай, сколько унесешь. Груздев по своей привычке анализирует, считает. Сто двадцать... Значит, потеряна четвертая часть роты. В первый же день. В этом есть какая-то немыслимая закономерность. Так бывает почти всегда. В первый день наступления — самые большие потери. Завтра они будут поменьше. Потом еще меньше. Но зато стрелки, которые уцелеют, — станут почти неуязвимыми. Они будут идти до самого конца наступления. И в этом тоже своя закономерность. Кирсанов трогает Груздева за руку: — Помкомвзвода, наша кухня приехала. Вот она, возле кустов. Справа, у самой земли прошумела трескучая пулеметная очередь. Красно-зеленая трасса прочертила темноту и унеслась в глубину леса. Кто-то там вскрикнул. Потом громко позвали: — Санинструктор! Где санинструктор? Дважды повторенное слово острым толчком отозвалось в сердце Груздева. Он почти вслух сказал: «Оля». Она где-то рядом, совсем близко. Может быть, даже в этом лесу. А Кирсанов снова тронул его за руку: — Автоматчики уже получают. Пошли. И они зашагали к кухне. Когда возвращались, Кирсанов на ходу жевал хлеб, говорил: — И что это сегодня мне так есть хочется? Марьин рассудительно заметил: — С утра не евши. Потом прибавил: — А тебе сейчас надо через кажные два часа. — Почему? Оказывается, Марьин умел шутить. — Ты же нарожденный. — Как ты сказал? — Нарожденный. Ну, сказать по-другому — именинник. — А... Новорожденный. Ты перепутал. Сегодня именины у моей мамы. — А я думал, у тебя. Давеча говорили... Значит, не расслышал. И снова рассудительно: — Пока есть время, жуй хоть цельный час. Но часа у них не оказалось. Их уже ждал младший лейтенант Семиренко. — На ужин десять минут. Потом все ко мне. В штабе полка ему уже поставили задачу: определить вражеские фланги, найти стыки. Майор Барабаш так и сказал: «Сплошной обороны у немцев сейчас нет. А где у них разрывы, ты, Семиренко, доложишь мне через два часа».
* * *
Действовали двумя небольшими группами. Одну из них возглавлял Груздев. Вместе с ним были Алябьев и Кирсанов. Проваливаясь в сугробы, они быстро шли вдоль опушки леса, позади своих окопов. В сгустившейся мгле снег под ногами казался синим, а дальше, там, где находилась немецкая траншея, он сливался с темнотой ночи и был почти черным. Но вот взвивалась ракета. Она мягко вспарывала небо, озаряла поле холодным светом, и тогда было видно, что снег все-таки белый и везде одинаковый. Рассыпая искры, ракета гасла, и тотчас темноту прошивали пунктирные линии трассирующих пуль. Они вспыхивали там, на черной полосе снега, и с шумом уносились в лес. Траншею не было видно, но эти трассы и пляшущие огоньки выстрелов четко обозначали ее линию. — Тут нормально, — говорил Груздев и шел дальше. Поле было ровным, его сглаживала дымка. Но вот в одной из ракетных вспышек он заметил справа острый угол лесного мыса, подступающий, наверное, к самой немецкой траншее. Прошли еще немного и залегли. — Алябьев, узнай, какая здесь рота. Пока сержант ходил к стрелкам, Груздев ощупывал взглядом передний край, вслушивался в звуки редкой перестрелки. Теперь мысок был напротив него. Он довольно ясно вырисовывался на фоне неба. Слева вспышки выстрелов были частыми, густыми и близкими. Справа же они загорались как бы в глубине обороны. Казалось, будто оттуда стреляют через голову немцев, находящихся в первой траншее. Потом Груздев заметил трассу, которая ушла куда-то в сторону. Вправо. Еще одна. И тоже вправо. Еще... И все из разных мест. И с рассеиванием. Вернулся Алябьев: — Здесь девятая рота. Фланговая. Говорят, что справа соседа нет, сильно оторвался. Они поэтому и оттянулись немного. — По-моему, у фрицев тут тоже разрыв. Только еще правее. Видишь, куда они стреляют? Я думал, что из глубины. А у них фланг загнут. Обойдем лесок и там пощупаем. Где командир роты? Надо предупредить, что будем действовать рядом с его участком. Когда они передвинулись еще дальше, у Груздева уже не осталось сомнений: стык найден. И даже не стык, а настоящая брешь. Кирсанов шепотом спросил: — А если это у них такой поворот траншеи? Может быть, она идет вдоль леса? Алябьев повернулся на бок, так, что под ним скрипнул снег. — Тут гадать нечего. Полезем и узнаем. Груздев, не отрывая взгляда от леса, сказал: — Кирсанов говорит дело. Но это ничего не меняет. Тут фланг, и он загнут. Надо только выяснить, что у них вдоль леса — окопчики или траншея. Может быть, они тут немного отошли. А правее все-таки разрыв. И отсюда видно — ни одной вспышки. Помолчал и другим тоном закончил: — Ты, Алябьев, идешь к лесу. Я — вправо: устанавливаю ширину разрыва. Ты, Кирсанов, выдвигаешься вот к тому кусту — смотри левее — и ждешь нас. Через сорок минут, если мы не вернемся, возвращаешься во взвод и докладываешь обстановку. Вначале они шли, пригнувшись к земле, потом поползли и быстро потеряли друг друга из виду.
* * *
Ползти по снегу всегда неудобно. Если даже он твердый, утрамбованный временем, зализанный ветром. А тут, на опушке леса, снег был рассыпчатым и скрипучим. Когда ракеты гасли, Груздев становился на четвереньки — так он передвигался быстрее. Но вот снова вспыхивал свет, и приходилось ложиться. Острый угол лесного мыса медленно отступал влево. Теперь Груздеву хорошо была видна крайняя огневая точка — пулемет. Немцы то и дело прочесывали огнем поле. Секанут и молчат, будто высматривают. Потом снова очередь. Груздев усмехнулся: этим огнем немцы укрепляют свой собственный дух. Ни больше, ни меньше. Они ничего не видят и стреляют вслепую. Очереди короткие, скупые. Значит, ко всему прочему у них и патронов не так уж много. Его охватывает привычное дерзостное чувство. О противнике всегда нужно думать, что он умен и коварен. Но не следует переоценивать его. Не меняя направления, Груздев продвинулся еще дальше. Вскоре пулемет остался слева и позади. Перед ним в десяти шагах был лес. Припорошенный снегом, он молчаливо стыл в морозном воздухе. Груздев дополз до первых сосен — ни траншеи, ни окопов. Это было странным. Передвинулся еще правее и оказался на поляне. И тут он понял, в чем дело. Это была не поляна — болото. Как видно, немцы рассчитывали на то, что русские пойдут в наступление, по крайней мере, весной. Тогда, конечно, никто через болото не прошел бы. Но теперь оно замерзло и не могло служить препятствием. Впопыхах, при отступлении, они не учли этого. Сказалась немецкая педантичность: в случае отхода такой-то полк занимает оборону там-то и там-то. Вот и заняли. Но они очень быстро уяснят обстановку. Теперь дорога каждая минута. Груздев встал, пересек болото и снова вышел к соснам. Где-то далеко-далеко гремела канонада. Это, наверное, на Пулавском, а может быть, даже на Радомском плацдарме. А здесь было тихо. И вдруг совсем близко, за купой деревьев заплясали огоньки автоматной очереди. Вначале огоньки, потом послышалась густая дробь. И снова лес погрузился в белесую дымку и умолк. Груздев немного выждал, повернулся лицом на восток и, почти не отрывая ног от земли, заскользил к полю. На опушке леса лег и пополз. Теперь все было понятным. Разрыв в немецкой обороне примерно до полукилометра. В него может войти весь полк. Надо спешить. Он отполз еще дальше, приподнялся и, почти касаясь рукой снега, неслышно пошел по полю. С низкого неба быстро оседал морозный туман. Воздух на глазах наливался матовой белизной. Дальний лес уже обволокся молочной пеной и, казалось, придвинулся ближе. Груздев пригнулся еще ниже: где-то рядом должен быть куст. В тумане уже ничего нельзя было рассмотреть. У лесного мыса гулко заговорил крупнокалиберный пулемет. Ему ответил «максим». Длинно и четко. Теперь до своих было ближе, чем до немцев. Груздев решительно повернул вправо и тотчас увидел куст — сероватый шар на белом снегу. Сразу же заметил и человеческую фигуру. Подошел почти вплотную: — Кирсанов, ты? Отозвался Алябьев: — Нет Кирсанова. — Ушел? — Нет. Я осмотрел все до того места, где мы разошлись. Вот его следы. Здесь он лежал. А рядом, видишь, что? Груздев стал на колени. На снегу четко выделялись дырчатые отпечатки немецких ботинок, подбитых круглыми узорчатыми шпильками. — Три пары. Их было трое. — Пятеро... Двое прикрывали. — Откуда ты знаешь? — Я их видел. — Что?! — Я их видел. — И ты ничего... — Не кипятись, старшой. Это было там, возле леса. Я заметил их, когда они спускались в траншею. Но я не понял, в чем дело. — Так... Там ты все равно ничего бы не сделал. Но Кирсанов. Может быть, они его не взяли? — Здесь я облазил все. Его нет. Назад он тоже не уходил. Значит... — Но там, когда они спускались в траншею, ты Кирсанова не видел? — Нет. Я видел пятерых, но только немцев, — сами спрыгнули в траншею. Кирсанов не пошел бы. Его они могли нести. Но я не заметил. — По их следу не ходил? — Ходил. Он ведет к траншее. — Так... Алябьев обошел вокруг куста и снова остановился возле Груздева. — Они подобрались к нему сзади. Кирсанов лежал впереди куста и не заметил. Наверное даже не оглядывался. — Так... — Я всегда ему говорил, что на нейтралке нет тыла. — Так... — Шляпа. Всю операцию испортил. — Так... Что ты сказал? — Теперь в этот разрыв входить нельзя. — Почему? — Они будут пытать Кирсанова, и он может сказать. — А ты бы сказал? — Я — другое дело. А он мальчишка. Не выдержит. У него еще не было ни одной раны. Он не знает, что такое боль. Груздев посмотрел на Алябьева и, ничего не сказав, пошел вдоль переднего края. Не пригибаясь, в полный рост. Да, у Кирсанова не было ни одной раны. И он не знает, что боль страшна только в первое мгновение. Потом, когда ты стиснешь зубы, она начинает тупеть. Нужно только не ослаблять усилий. У тебя темнеет в глазах? Не отступай! Все равно не отступай! Если провалишься во мрак — это тоже победа. Боль сразу проходит. Потом, когда к тебе вернется свет, все начинай сначала. И ты выдержишь, все выдержишь! Они минули окопы стрелковой роты и шли уже по лесу. — А знаешь, Алябьев, я бы сейчас тебя ударил. — За что? Я же ничего не мог там... — Не за это. Там все было правильно. Но за Кирсанова... И ты, и я, и он прошли одну школу. — На фронте он без году неделю. — Эту школу мы проходили не здесь, а еще дома. Почему ты не веришь в его силы? Почему? Алябьев молчал. Потом неожиданно опередил Груздева, повернулся к нему лицом. — Бей. Груздев рукой отодвинул его в сторону: — За мной и бегом.
15
Майор Барабаш, выслушав разведчиков, спросил: — Траншея заканчивается у основания лесного мыса? — Так точно. — Через болото проходили? — Да. Замерзло хорошо. — А за болотом, в глубине, ничего не обнаружили? Только потом майор спросил о Кирсанове: — Он в последнем поиске участвовал? — Так точно. Был в группе прикрытия. — Как себя вел? Груздев ответил не сразу. Он хотел сказать так, чтобы командир полка смог представить Кирсанова и поверить ему. — Вел он себя, как все. Задачу свою выполнил. Кстати, Кирсанов просился в группу захвата. Разговор происходил в лесу, в темноте, и Груздеву не было видно лица майора. Как он воспринял его слова? — У него кто-нибудь из родных был на фронте? — Да, отец. — Погиб? — Нет, жив. На четвертом Украинском. Командир орудийного расчета. Неожиданно майор Барабаш вздохнул и как-то сгорбился, точно взвалил на свои плечи тяжесть. — Идите. Скажите командиру взвода, пусть сразу же явится ко мне. Повернулся и пошел в глубину леса. Глядя ему вслед, Груздев почувствовал: у командира полка уже сложилось твердое мнение. Какое?
* * *
В полночь третий стрелковый батальон вошел в стык. Он пересек болото и, обойдя вражеский фланг, атаковал немцев с тыла. Одновременно два других батальона нанесли удар с фронта. За полчаса до атаки комбат-три, огромный усатый казачина, собрав командиров рот, сказал: — И шоб нияка собака не проскочила. Усих задавыть в траншее. Младший лейтенант Семиренко отвел Груздева в сторону. — Возьми Алябьева и Булавина и иди со стрелками. А то чего доброго останемся без пленных. Нужен «язык». Невидимые в густом тумане роты подошли к немцам почти вплотную. Груздев, который был впереди цепи, остановился, поджидая стрелков. В белом безмолвии в нескольких шагах над бруствером вырисовывались две каски. Немцы смотрели в сторону поля. Неожиданно один из них обернулся, испуганно крикнул: — Вер ист да?[2] Грохнули гранатные разрывы. Брызги горячего снега резанули по щеке. Скатившись в траншею, Груздев уперся коленями во что-то мягкое, вздрогнувшее и сразу ставшее неподвижным. Он нащупал руками грубое шинельное сукно, дотянулся ладонью до рта, плотно прикрыл его и сдавил пальцами нос. Немец замотал головой, загнул ее чуть ли не на спину. Старый егерский номер: если ты под противником, прикинься мертвым, а потом... Но этот солдат на потом избрал нечто не предусмотренное окопной наукой. Он хотел дышать. Дышать и больше ничего. Как только Груздев отпустил его, солдат, хватая открытым ртом воздух, забормотал: — Гитлер... капут. Война не... карош. Справа и слева от Груздева слышались глухие удары, стоны, яростные возгласы. Где-то поблизости кричал Алябьев: — Ауфштейн! Вставай, турок проклятый! Из дыма, смешавшегося с туманом и снежной пылью, вынырнул Булавин: — Тут за поворотом блиндаж. Младший лейтенант уже там. Мы с Алябьевым фельдфебеля взяли. Бой был коротким. Схватка в траншее закончилась в несколько минут. Но в центре и слева немцы отошли, отстреливаясь, и скрылись в лесу.
* * *
Пленные говорили охотно, однако показали немногое: позади, кажется, никого нет. Но может быть, резервы и подошли. Во всяком случае, их ждали. Что касается Кирсанова, то о нем им известно совсем немногое: вечером разведчики взяли в плен одного русского. Его пронесли по траншее. Оглушенным. Кажется, в штаб корпуса. Да, не дивизии, а корпуса. Где штаб? Был в лесу. Недалеко от деревни. Как она называется, не знают. Славянские названия трудно запоминать. Но она тут одна, это польская деревня. Отсюда километров восемь.
* * *
К деревне, разбросавшей свои дома прямо по лесу, разведчики вышли на рассвете. Полк уже свернулся в колонну и двигался в километре позади. Деревня была маленькая — дома в один ряд. Туман поредел, и Груздеву хорошо была видна вся дорога-улица, протянувшаяся меж вековых сосен. Она была пустой. Покинутыми казались и дома — деревянные, почерневшие, невзрачные. Рядом с ними высились риги. Все-таки странные они здесь — в два — три раза больше домов. А зайдешь, — пусто. Разведчики переходили от одного двора к другому и, никого не обнаружив, вышли на западную окраину деревни. Дальше дорога сворачивала вправо и выводила на широкую поляну. Вдали опять лес. Холодный, сумрачный, в клочьях седого тумана. Неожиданно на дорогу позади разведчиков вышел человек. Точно вынырнул из сугроба. В желтом полушубке, без шапки. Голова совсем белая — не то седая, не то схваченная инеем. Он поднял руки вверх и махал ими, будто просил: «Не стреляйте, я свой». Младший лейтенант Семиренко остановился: — Местный, наверное? Когда он подошел ближе, оказалось, что это древний старик. От холода у него слезились глаза, ноги ступали неуверенно. Он пытался что-то сказать, но губы дрожали и слова не получались. Наконец старик выдавил: — Зимно. Подышал на ладони, вытянул руку в сторону леса, оставшегося позади: — То там германьска гармата... — Пушка? — спросил Семиренко. — Гармата. — А солдаты есть? Старик не понял. — Жовнежи есть? — Нима. Вшиско... Махнул рукой на запад и стал переступать ногами, показывая, что немцы ушли. Он хотел сказать еще что-то и, наверное, не знал, как это сделать. Смотрел на младшего лейтенанта, поворачивался к лесу и беззвучно шевелил губами. — Пан еще что-то знает? Розумеешь, пан? Старик смахнул с глаз слезы, снова пожевал губами. — То тамжовнеж... И опять показал на лес. Потом раскинул руки, посмотрел на сугроб за своей спиной, откинул голову, как бы ложась, и закрыл глаза. — Убитый? — вполголоса спросил Семиренко, глядя на Груздева. Старик, наверное, что-то понял: — Жовнеж. Прикоснулся к белому маскхалату младшего лейтенанта. — То такой, такой... Показал на Груздева, на Алябьева. И снова прикоснулся к маскхалату. Тут же заговорил быстро и непонятно, и, что-то объясняя, тыкал себя негнущимися пальцами в грудь. Неожиданно умолк и, поглядев на запад, куда ушли немцы, отчетливо выговорил: — Пся крев... германьска холера.

Повернулся к лесу: — То там ваш... жовнеж. — Это он, — сказал Груздев. — Кто? — Он, — повторил Груздев, и Семиренко понял и кивнул головой. Глянул на лес, потом на дорогу. — Пойди посмотри. Булавин, Марьин и Алябьев — с Груздевым. Остальные за мной! И зашагал по дороге к дальнему лесу.
* * *
Вначале они увидели миномет. Рядом в раскрытых лотках лежали выкрашенные в красный цвет мины. Огневой позицией служила небольшая поляна. Окопа не было. Как видно, немцы оказались здесь уже в ходе отступления. Все носило следы поспешного бегства: тут и там валялись цилиндрические противогазные коробки, два — три покрытых телячьей шкурой ранца, каски. Идя вслед за стариком, разведчики углубились в лес и обнаружили блиндажи. Старик остановился, и они осмотрели их. Обшитые тесом, с большим накатом блиндажи были пустыми, словно в них никогда никто не жил. На столах, на полу ни единого клочка бумаги. Но это и были следы вышколенных и расчетливых штабистов. Ушли заблаговременно. — Где? — спросил Груздев. Старик указал рукой и сошел с протоптанной в снегу тропинки. В десяти шагах от крайнего блиндажа, на просеке, лежал... Это был он. Груздев остановился, не веря в то, что видел. Да, это был Кирсанов. Белый маскхалат, обтягивающий худенькие плечи, мальчишеское лицо с закрытыми глазами, широко раскинутые руки. Это был он. Груздев видел многое, очень многое видел Груздев на дорогах войны. Но такое... Из груди Кирсанова торчал кол. Толстый, грубо обтесанный кол! Верхний конец его смят, по нем били чем-то тяжелым... Груздев стал на колени, пытаясь поднять Кирсанова, и только тут заметил, что и ладони прибиты к земле клиньями. — Надо вытащить. Кажется, это сказал Булавин. Алябьев протянул руку, но тут же отдернул ее, не решаясь прикоснуться к колу, точно Кирсанов был еще живым и ему могло быть больно. На просеку вышли стрелки. Послышался голос майора Барабаша, он шел с головной ротой: — А разведчики что тут делают? Умолк. Вздохнул, точно так же, как там, в лесу. — Кирсанов? Груздев кивнул. Кто-то из связных горячо шептал: — Разве это люди? Человек такое сделает? Ему никто не отвечал, а он все тем же горячим шепотом спрашивал: — Разве это люди? Груздев поднял голову. Связной, маленький, худенький, такой же, как Кирсанов. Может быть, они пришли на фронт в одной маршевой роте. — Фашизм. Это и есть фашизм. Запомни. Навсегда запомни. Когда услышишь слово фашизм — вспоминай вот это. Майор Барабаш вздохнул еще раз и резко бросил связным: — Передать командирам батальонов: построиться на просеке. Командира комендантского взвода ко мне. ... Ротными колоннами проходили стрелки по лесной просеке, отбивая шаг и держа равнение налево — на маленького солдата, распятого на мерзлой земле. Девять рот — три батальона. Молчаливые, грозные в своей немоте. Они вытягивались на дорогу и уходили все дальше на запад. А он лежал с закрытыми глазами, без кровинки в лице. Белый маскхалат, белые щеки... Маленький, холодный и твердый. Как будто из мрамора.
* * *
За лесом снова была траншея. И опять полк развернулся и с хода пошел на сближение с врагом. Стрелки перебегали и падали, перебегали и падали. И так до рубежа атаки. Где-то справа натужно урчали танки. А здесь, на участке полка, стрелков поддерживала только артиллерия. Снаряды кромсали «колючку» и траншею, взметали облака снега и дыма. Но теперь они ложились не так густо, как там, на исходном рубеже наступления. Впрочем, и оборона была уже не та. И все-таки траншея есть траншея. И взять ее не просто. В цепи слышится команда: — Прижимайся к разрывам! И стрелки передвигаются вперед, сбивая о мерзлые кочки колени, царапая о снег лица. Ближе, как можно ближе к полосе, на которой гудят и клокочут металл и огонь. И неважно, что иные осколки фуркают уже над самой головой, шмякаются о землю совсем рядом. Это — дальние. Уже слабые. Опять же они свои. И потом: артиллерия перенесет сейчас огонь дальше. Ближе, ближе к разрывам! Чтоб встал — и вот она, траншея. А по цепи уже катится новая команда — самая главная: — Встать! В атаку, вперед! ... Позиции и траншеи, минные поля и проволочные заграждения. Можно подумать, что им нет конца. Постепенно начинает казаться, что они покрыли собою всю землю, всю планету. Это как-то само собой входит в сознание и не вызывает размышлений. Так всегда бывает в начале наступления. В те дни, когда идет прорыв долговременной обороны. Человек живет на предельном внутреннем напряжении. Многие привычные понятия приобретают новое значение. Ночь смешивается с днем, прошлое, даже то, что было час назад, сразу же гаснет. Все сосредоточивается на простых движениях и действиях, которые нужно произвести вот сейчас, сию минуту. И кажется тогда, что весь мир живет точно так же: и на этом поле, и на соседнем, и в краях ближних и дальних люди ползают меж воронок, перебегают и падают, ходят в атаки, стреляют и умирают, сбитые с ног горячими кусками металла. Но вот взята еще одна траншея. Роты врываются в лес, проходят его насквозь, и перед ними открывается чистое поле. Они вступают на него, идя в боевых порядках цепью. Стрелки впереди. В ста шагах за ними катят свои станкачи пулеметчики. Из лесу вышли уже и минометчики: за спинами тяжелые лотки и опорные плиты, на плечах двуногие лафеты, стволы... А противника нет. И сколько ни смотри — на поле ни траншей, ни простейших окопов. Полк сворачивается в колонну, вперед уходит взвод пешей разведки. Так начинается марш и вместе с ним новая жизнь. Час идет за часом, а в воздухе парит, широко расправив крылья, покойная тишина. И люди начинают замечать, что мир — он такой же. И они начинают говорить о самых разобычных вещах, словно нарочно обходя молчанием недавний бой. О нем потом. А сейчас... Сейчас надо, чтобы сердце отошло. — Небо тут, гляди, почти как наше. — Не скажи, серости в нем много. — Земля никудышняя, один суглинок. А снегов в этих местах слава богу. — Вроде сдает мороз. К метели, наверно. Вишь, теплом потянуло. Новая жизнь... Почему же новая? Просто жизнь. Кончился бой, и она — извечная, неистребимая, берет, обязательно берет свое.
16
Утром, на третий день наступления, полк вышел на прямую, как стрела, бетонную дорогу. По ней уже прошли танки, следы траков, еще совсем свежие, отчетливо выделялись на твердой снежной наледи. Гул моторов уплыл за горизонт и как бы унес с собой все шумы боя. — Мы можем выдвинуться дальше, — сказал младший лейтенант Семиренко. Груздев оглянулся. Полк шел позади, километрах в двух; да, нужно оторваться, по крайней мере, еще на километр. Вокруг расстилалась степь, и видимость была отличной. Они пошли быстрее. Проглянуло солнце — в первый раз за много дней. Снег искрился и резал глаза. Хотелось их закрыть. Дремотная тишина, заполнившая собой всю степь, постепенно подчиняла себе и людей. Казалось, что сверкающая дорога покачивается, ходит под ногами невысокими мягкими волнами. — Хоть распорки ставь между век, — сказал Алябьев — Ты как, Марьин, идешь и сны, наверное, видишь. — Не усмотрено. — Чего такое? — Не усмотрено сны видеть. Алябьев обнял Марьина за плечи: — И где ты, Марьюша, научился так говорить? Ну что тебе стоит сказать: не предусмотрено. И, наверное, опасаясь того, что Марыш обидится, мягко спросил: — А спать хочется? — Нет. Удивительно вынослив этот Марьин; трое суток почти на ногах. И поди ты: нет. — А я хочу. И это Алябьев сказал только для Марьина. На самом деле он ничуть не слабее ефрейтора. Напротив, сильнее его. И это все знают. Зачем же он тогда? Прежде Алябьев, даже если с ног валился от усталости, никогда в этом не признавался. — Ты молодец, Марьин. Вы с Кирсановым, кажется, земляки? Вот оно. Алябьев не может забыть своих слов. Тех, что сказал в ту ночь. Нужно, Алябьев, думать о людях как можно лучше. И ты редко ошибешься. На горизонте в белом морозном мареве проступил лес. Младший лейтенант Семиренко поднял бинокль: — Надо выбросить дозоры. Над деревьями какой-то дымок. За лесом оказалась деревушка. На карте ее не было. Всего четыре дома. Три уже сгорели дотла и чуть дымились. Четвертый еще горел. Здесь полк и сделал привал. За деревней выставили пулеметы. Подъехали кухни. Но люди ели нехотя. Сказывались две бессонные ночи. В ротах объявили: — Отдых на два часа. На целых два часа. Ложились поближе к огню. Остов дома уже превратился в жаркие уголья. Они полыхали синеватым пламенем Даже в десяти шагах на снегу было тепло. Вокруг гигантского костра разместились чуть ли не все роты. Булавин сказал: — Не было бы счастья, да несчастье помогло. Повезло!
* * *
Целых два часа... Так много и так мало. Груздев открыл глаза и посмотрел на часы. Рука отекла — он подложил ее под голову, — была тяжелой, непослушной. Прошел час и пятьдесят минут. Это был рефлекс. Точный, как механизм. Засыпая, он говорил себе: я должен проснуться через столько-то. И верный страж, живущий в нем и воспитанный им, никогда не подводил. Встал, двинул плечами вперед-назад, топнул правой, потом левой ногой, подтянул пояс. Огонь уже погас. Лишь кое-где курились почерневшие уголья. Булавин лежал на боку, поджав под себя ноги, уткнув лицо в снег. Вокруг рта протаяло до самой земли, и казалось, будто ефрейтор из-под прищуренных век рассматривает: что оно там, в глубине, на этом польском суглинке? Марьин во сне шевелил губами, словно хотел произнести какое-то новое для себя слово и все никак не мог его выговорить. Наверное, они не чувствовали холода. Впрочем, холод — дело относительное. Его нельзя не чувствовать, но к нему можно притерпеться. Если ты что-то под себя подстелил, то бок, на котором лежишь, мерзнет меньше и создается иллюзия тепла. Нужно только переворачиваться. В среднем через каждые полчаса. Со временем человек привыкает это делать не просыпаясь. А ноги... Ноги, конечно, мерзнут всегда. Они постепенно немеют и как бы срастаются с нечувствительными твердыми ботинками. И тут важно не перейти грань, за которой начинается обмораживание. На помощь в таких случаях приходит недремлющий страж, который живет в каждом окопном солдате. Наверное, это инстинкт. Он без слов говорит: больше нельзя. И тогда, если можно встать, — поднимись и попрыгай. А нельзя — лежи и стучи ногами друг о друга или об землю. И тепло придет. Непременно придет. Потом можешь снова спать. Если, конечно, есть время. И так пока не кончится зима. День за днем. Жить можно. Проверено. — Старшой, ну и новости... Позади Груздева на пне сидел Алябьев и держал в руках газету. Голос бодрый, щеки розовые, только вокруг глаз желтые круги. — Ты когда проснулся? — А я и не спал. Но ты послушай, что пишут: «После двухдневных упорных боев войска первого Белорусского фронта прорвали оборону противника на широком участке от Сандомира до Варшавы...» Значит, это везде. Представляешь... Он подошел вплотную, протянул газету: — До самой Варшавы! Посмотрел на лес, на спящих стрелков и не то с горечью, не то со злостью прибавил: — А союзники отступили. Мы вперед, они назад. В Вогезах немцы продвинулись на тридцать километров. Газета была маленькая, дивизионная. Наверное, ее напечатали совсем недавно — в морозном воздухе слышался запах краски. Но где Алябьев ее раздобыл? Как он это успевает? — Почта была? — Принесли только дивизионку. Ни писем, ни центральных газет нет. Не скоро догонят. Но ты скажи, теперь что-нибудь изменится? — Что именно? — Должно измениться. Я имею в виду второй фронт. Если немцы с запада не оттянут сюда силы, им можно уже сейчас петь лазаря. Он откинул за плечи капюшон маскхалата, засмеялся хитро и весело. — Черт возьми, а что? Дорога на Германию открыта. Пусть теперь утешают себя пошлой поговоркой: не мы первые, не мы последние... И вдруг стал серьезным, точно вспомнил что-то. Свернул газету, засунул ее за пазуху, туда, где лежал у него трофейный вальтер. — А знаешь, они, конечно, не дураки. Все что можно перетянут с Запада на Восток. Из леса, где расположился штаб полка, по снежной целине шел младший лейтенант Семиренко. Как и у Алябьева, под глазами у него желтизна, а щеки розовые. Но это не от мороза. Щеки у Семиренко всегда такие. — Груздев, поднимай взвод.
Разведчики уже шагали по дороге, когда возле сгоревшего дома, там, где вповалку лежали стрелки, послышалась команда: — Подъем! Выходи строиться! За селом младший лейтенант остановил взвод: — Оборона противника прорвана на всю глубину. Немцы отходят в беспорядке. Но мы можем встретить не только подразделения, а и целые части. Справа и и слева по параллельным дорогам идут полки нашей дивизии. Танки ушли вперед на десятки километров. Совершенно ясно, что немцы остановить их сейчас не могут и пропускают. Задача нашего полка: уничтожая заслоны, двигаться форсированным маршем. Взвод выдвигается вперед на два — три километра и ведет разведку наблюдением.
Первый километр после привала самый трудный. Ноги тяжелые, а спина почему-то не разгибается. Кажется, что ты идешь выпрямившись. Но на самом деле тело в пояснице согнуто. Там все время чувствуется какая-то тяжесть. Потом — когда именно, этого не замечаешь, — ты действительно выпрямляешься и уже нет на тебе никакого груза. Приходят легкость и одеревенелость. Но ноги идут, идут без напряжения, руки размахивают в такт шагу, как бы независимо от тебя, и ты движешься. И можешь передвигаться очень долго. Потом поясница опять наливается тяжестью и ломят лодыжки. Но ты все-таки идешь. Идешь, пока не услышишь команду: «Привал направо!» Почему-то всегда направо. Сразу же опускаешься в кювет, если он есть, и стараешься лечь так, чтобы ноги были выше головы. Хорошо, когда дорога грейдерная. Нет канавы — подкладывай под ноги вещевой мешок, каску и в крайнем случае автомат, только не насыпь на затвор земли. Взвод шел, выбросив головной и боковые дозоры. — Старшой, она очень красивая? — Кто? — Оля. Они шли в головном дозоре — Груздев и Булавин. Обычно помкомвзвода идет в ядре. Но это потом, когда наступление входит в привычную колею. А в первые дни... В первые дни все кажется слишком значительным, необыкновенным. Когда назначали дозоры, Груздев сказал: «Я пойду в головном»... И Семиренко кивнул, словно по-другому и не могло быть. Груздев смотрит на дорогу, ощупывает взглядом горизонт. Булавин переспрашивает: — Она очень красивая? — Я над этим никогда не задумывался. — Но ты любишь... — Ну и что? — Значит, красивая. Какие у нее глаза? — Ты опять о лице. Как объяснить ему? — Понимаешь, она... стала частью меня самого. Я и она — это одно и то же. Мы живем друг в друге. А когда это началось, то лица я уже не замечал. — Но ты давно ее не видел, и может быть... — Не надо... Что-то осталось недосказанным. Но Груздев никогда не останавливался на полпути. — Время и встречи тут уже не имеют значения. Любовь дается человеку один раз. И она живет в нем до конца. И время тут ничего не сделает. — Но, может быть, это не у всех? — У всех. И повторил: — Я в этом уверен. Еще раз осмотрел горизонт — далекий, ясный, холодный. — Да, уверен. Нужно только ждать. Ко мне это пришло сразу. Но бывает, наверное, и по-другому. Тогда надо уметь ждать. И вот тут, наверное, некоторые делают ошибки. И еще, знаешь: надо верить друг другу. — Верить. Это уже когда любишь ты и любят тебя. Ну, а если этого еще нет? — Оно будет. У каждого человека бывает. Нужно только дождаться. Булавин подобрал на обочине дороги прутик и шел, похлопывая им себя по ноге. О чем ты думаешь, Бухгалтер? Ты убежден, что некрасив. И страдаешь от этого. Я знаю. Но тебя будут любить, обязательно... Может быть, уже любили и любят сейчас. Только ты не знаешь. Тебе не сказали. Может быть, и ты носишь кого-то в сердце. И, наверное, никому не признавался. Но почему же люди не говорят об этом прямо? Сразу и прямо? Булавин смотрел на дорогу, по сторонам, — делал то, что должен делать дозорный. Но в его глазах все время был какой-то вопрос. Ну, спрашивай же, спрашивай, Бухгалтер. Молчит, не спрашивает. Идет, помахивает прутиком, будто и не было никакого разговора. Это случалось с ним. Он как-то враз мог уходить в свою привычную оболочку. Укрывался за нею, как за броней. Особенность характера? Бухгалтер лукавит. Он старательно прячет свои чувства. Думает, что не поймут. Наверное, он все эти дни сожалел о своем признании: «Меня никто не любил». Дорога сворачивает вправо. Степь ровная, голая. Белый снег, белесое небо. Булавин приостанавливается, сбивает с каблуков намерзший снег. И совсем неожиданно: — Скажи, старшой, а откуда ты все это знаешь? — Что именно? — Ну вот то, о чем говорил. — Это пришло само собой. Я об этом много думал. Почти три года. — Ты счастливей меня. Я ничего этого не знаю. Теперь Булавин был опять таким же, как в начале разговора. В сущности это очень странно. Война обнажает человека. Окопные солдаты всегда на виду друг у друга. И каждый предстает таким, какой он есть на самом деле. И духовно, и физически. Меру духовных сил открывают первые же бои. И здесь не убавить, не прибавить. А тело... Тут еще проще. Почти как в детстве. Во взводе любой солдат может сказать, какие у кого шрамы. В нелегкой жизни у них много общего, и это делает их братьями. Они делятся табаком, хлебом, вестями из дому, мыслями. Но есть, есть уголок, который до поры до времени остается сокровенным. Может быть, потому, что они молоды. Ведь молодость всегда стыдлива. В тот день, когда им выдали шинели, какая-то часть жизни в них приостановилась. По дорогам войны шел солдат. Шел, закалялся, мужал. Но это солдат. А юность по-прежнему жила в сердце, в дальнем его уголке. Жила и ждала своего времени. Булавин спросил: — Наверное, тут каждый делает свои открытия. — По-моему, для всех есть что-то общее. — А почему ты сказал — помнишь, еще на плацдарме? — ты сказал тогда о душе. Руки можно отмыть, а душу... — Я сказал не очень ясно. Насчет рук все правильно. А о душе... Тут я имел в виду другое. Не грязь, нет. Грязь на душе только у подлецов. К нам это не имеет отношения. Руки отмоешь, и они такие, какими были раньше. Но попробуй избавиться от того, что давит тебя там, внутри! Когда мы в последний раз виделись с Олей, мы были другими. Я не о наших отношениях, а как раз о душе. — А ты давно встречался с Олей? Булавин скосил на него глаза. Наверное, он хочет знать больше. Если говорить об этом, нужно рассказать все. Этого Груздев никогда не делал. Никогда. И, пожалуй, не нужно. — Давно. Сказал отрывисто и, словно давая понять, что разговор об этом не будет продолжать, остановился, сбил перчаткой с белых смятых брюк ледышки, спросил: — Ты на привале переобувался? — Да. Портянки не сушил, но подложил бумагу. На обе ноги навернул. Алябьев дал старую газету. И будто не было прежнего разговора: — А у тебя что, мерзнут? На ходу не должно бы... — Нет. Я просто так. Вот именно, просто так. Идет Булавин, похлопывает по заледеневшим брюкам прутиком, ни о чем не спрашивает. И теперь не спросит. От вопросов можно избавиться. Но как освободиться от того, что живет в памяти, в глубинах сердца?
17
Оля в колхоз не приехала — Юрий Петрович не вставал с постели. А Анатолий не бывал в станице почти полтора месяца. Колхоз был дальний, жили на полевом стане. Но писем никто не писал — ведь почти дома. Через знакомых Симочка передавала приветы и короткие сообщения: от Федора никаких вестей, Михаил прислал письмо из-под Белой Церкви. Ольга кланяется тебе. Вот и все, что он знал. В станицу Анатолий вернулся августовским вечером. Зашел во двор, и его встретила удивительная тишина. Она была всюду, эта непривычная тишина, — на улице, во дворе, в доме. Бабушка сидела у керосиновой лампы и проворно вязала. Подняла на него глаза — она не носила очков — отложила спицы. — Натолий? Ай же ты мой труженичек... И захлопотала и, как когда-то отцу, потом Федору и еще позже Михаилу, подала ему полотенце: — Сидай снидать. Симочка работала официанткой в чайной и еще не вернулась. Анатолий ел и все прислушивался: не скрипнет ли дверь? Должна, должна же она прийти. Не Симочка, нет, — Оля. А бабушка снова вязала. — Це тоби, Натолий. Хлопцам уже зробыла. И носки и варежки. Зима, вона спытае... Варежки бабушка вязала с пальцами — большим и указательным — солдатские. — От Федора письма есть? — Ничого. — От Михаила? — Цей часто присылае. — Как Симочка? — Плаче. Одно слово — солдатка. Потом он читал вслух письма Михаила. Тот уже знал, что Федор не пишет, успокаивал: горевать рано, многие попали в окружение и сейчас выходят к своим. А Ольгу в тот вечер так и не увидел. Днем она уехала в ближний город искать для Юрия Петровича какое-то лекарство. Не увидел и утром. А на следующий день под вечер ему принесли из сельсовета повестку: он призывался в трудовую армию. Утренний поезд приходил из города в девять. Анатолий уезжал в восемь. Длинный конный обоз долго вытягивался из станицы. И пока за бугром не скрылись хаты, Анатолий все надеялся. Но чуда не произошло. Шурка, сидевший рядом, говорил: — И чего ты оглядываешься. Теперь только вперед и вперед, поближе к войне. Но они ехали вовсе не к фронту. Через два дня остановились в хуторе неподалеку от станицы Павловской и начали строить оборонительный рубеж. Рубеж... Это было довольно условное название. Просто-напросто им пришлось рыть глубокий извилистый ров. Но в этих словах — оборонительный рубеж, противотанковый ров — для них звучала война. Впрочем, она во всю грохотала уже совсем рядом: немцы захватили Таганрог, вышли к Миусу. В октябре Анатолий получил письмо от Симочки. Федор отозвался: он в госпитале. Ранен не тяжело. Но теперь не пишет Михаил. Потом пришло письмо от Ольги. Как она умела писать! Каждая строчка дышала ею. «Тебя, Толя, нет рядом, но я часто советуюсь с тобой... Я знаю, когда ты думаешь обо мне, чувствую это. И мне тогда становится хорошо... Вчера нас бомбили, прилетели ночью. На станции загорелись цистерны с бензином, и я бегала тушить. А папе все хуже. Может быть, мы не скоро встретимся: знай же, я всегда с тобой».
Но они встретились вскоре. В станицу он попал под самые ноябрьские праздники. Зима в тот год была ранней, и уже выпал снег. Анатолий и Шурка шли с вокзала, поеживаясь от холода в тонких ватных куртках. Собственно, «с окопов» их и отпустили только для того, чтобы они взяли дома теплые вещи. Шурка простудил горло и говорил хриплым голосом. Анатолий советовал: — Дыши через нос. Не хватай открытым ртом холодный воздух. Шурка удивлялся: — При чем тут воздух? Просто у меня прорезался мужской голос. Пора уже! Шел он не спеша, громко здоровался со знакомыми, как бы говоря: вот он я какой стал! А Анатолий торопил его и ускорял шаг. Прямо с вокзала он зашел к Краевым. Во дворе на свежем иссиня-белом снегу увидел следы маленьких ног. Они могли быть только Олиными. Остановился и долго смотрел на эти следы. Совсем маленькие и четкие. Дверь у них никогда не запиралась, и Анатолий постучал уже из коридора. — Да. Она сказала так, будто ждала этого стука. И он рванул на себя дверь и как-то сразу оказался посреди комнаты. Слева от себя увидел Ольгу. Неуловимо изменившуюся и в то же время прежнюю, со светлой прядкой, упавшей на лоб, с понятной и непонятной улыбкой, искрящейся в зеленых глазах. Светились глаза, лицо, белая кофточка. — Пришел? И это она сказала так, как если бы знала, что Анатолий придет сегодня и именно сейчас. И подошла к нему, и взяла его за руку, и снизу вверх посмотрела на него. И в глазах появилось все прежнее. Но это ему показалось только в первое мгновение, потому что теперь они сразу сказали ему большее, неизмеримо большее: «Да, я знаю что-то такое, чего другие не знают. Знаем только мы: ты и я...» — Пришел? И отступила от него, чтобы увидеть его лучше. Он смущенно переступил с ноги на ногу, посмотрел на свои стоптанные ботинки, на брюки с черной заплатой на колене, пришитой белыми нитками. — Я только что с вокзала... Она вначале не поняла: — Дома еще не был? — Нет. — Какой же ты... Теперь он не понял ее. А она подтолкнула его к двери, заторопила: — Иди. Тебя ждут — не дождутся, а ты... — Но ведь и ты... — Я? Я потом. И провела рукой по его щеке. — Я почему-то думала, что у тебя растет борода... Но ты иди. А мы потом. И громко: — Папа, вернулся Толя. Но он придет позже. Он еще дома не был. Потом они встретились вечером и долго ходили по тихой зимней улице. Дошли до рыночной площади, свернули влево и оказались на пустыре. Он лежал в низине и был покрыт льдом. Таких пустырей в станице несколько. Они называются непонятным словом: сага. Здесь гулял ветер. Он дул с запада и по временам доносил отдаленный гул. — Что это? — спросил Анатолий. — Война. Пушки стреляют. Говорят, что бои идут за Ростовом. Анатолий остановился, вслушался. — Иногда бывают видны даже отблески, как в грозу. Иногда бывает... Но скажи, Толя, почему все это? — Что? — Почему все это? — Что? — Почему они идут и идут? На этот вопрос не было ответа. Он сказал то, что говорили все: — Это временно. Но это не было ответом. — А почему? Разве они сильнее? Он молчал. Этот простой вопрос никогда не приходил ему в голову. Может быть, он слышал прежде что-то в этом роде. Но столь обнаженный вопрос... Нет, он никогда не задумывался над этим. Сильнее мы. Тут не могло быть никаких сомнений. Так было всегда. Ну, а теперь, когда враг у ворот Кавказа и под Москвой, разве теперь что-то изменилось? — Это временно. А сильнее все-таки мы. У них больше танков, самолетов, оружия. Но это она знала и без него. — А раз больше, то значит... — Но они все-таки не сильнее. Ведь... Он искал слова и смотрел на далекие зарницы артиллерийских выстрелов. Он чувствовал, знал, что надо было сказать. Но тут следовало говорить очень точно. — Побеждает в конце концов человеческий дух. То, чем мы живем. И оно у нас сильнее. Человек побеждает оружие. Наверное, это было не совсем точно. Но это было главным. И Оля поняла его. — Папа говорит, что это война двух строев. Ты сказал лучше. Но я... Я не могу больше так. — Как? Оля взяла его за руку и сошла на лед. — Пойдем. Я не могу больше так. Ты... Вы все там. Вы что-то делаете. А я? Я в стороне. Как будто и нет войны. — Ты с отцом. — Оставить его я не могу. И в то же время... Мне больно от того, что... Помнишь, что сказал Шура? — Когда идет война, личное приносится в жертву. — Вот именно. Я хочу быть с вами. Взошла луна, и лед заискрился. Справа и слева лежали темные тени, а посередине, там, где они шли, пролегла неширокая сверкающая дорога. Совсем неширокая. И очень светлая. Вся искрящаяся. Это был трудный разговор. — Когда идет война... А знаешь, Оля, во всем этом есть свои законы. Только я не могу объяснить. — Но ты попробуй. — Когда человек остается один на один с врагом, там только единственный путь. Там человек все решает сам. И личное всегда приносится в жертву. А здесь... Здесь решает общество. Тебе разрешили остаться с отцом — значит, так правильно. Он долго смотрел на лунную дорогу, точно хотел увидеть, куда она приведет их. Справа и слева чернота. А прямо перед ними эта неширокая дорога. Оля сказала: — Ты обогнал меня. Он приостановился. Оля вышла чуть вперед: — Нет, я не об этом. Ты стал старше меня. — Но мы одногодки. — Ты уже старше меня. Так всегда бывает. Вначале старше женщина, потом мужчина. Но я не думала, что это произойдет так быстро. — Но мы все-таки одногодки. — Нет, ты старше. Ты увидел и узнал больше. Ты теперь старше. Когда тебе нужно уезжать? — Через два дня. Завтра и послезавтра мы еще будем дома. А потом опять туда.
* * *
Но он не уехал туда. Утром прибежал Шурка. — Собирайся. Пойдем в райком комсомола. Собирайся. Расскажу по дороге. Собирайся! В истребители танков Шурку не взяли. Его забраковала медицинская комиссия. У него была высокая температура. Почти тридцать девять. Шурка пытался доказать, что это для него нормально, что у него такой организм. В тот день, когда Анатолий уезжал, Шурка лежал в постели без сознания — крупозное воспаление легких. А Оля... Она проводила его до самого поезда. Смеялась, дула на прядку волос, падавшую ей на лоб, и говорила, говорила, словно хотела отвлечь его от каких-то мыслей. Но в последнюю минуту, когда он на ходу вскочил в вагон и повернулся к ней, губы Оли дрогнули. Она не сказала, а выдохнула: — Мне страшно, Толя. Страшно. Это было неожиданным. И слова и выражение лица. Глаза еще смеялись, а губы кривились, как от боли.
Письма он получал от нее часто. Очень часто. И они всегда дышали ею. Она умела вкладывать в слова тепло своего сердца. О том, что сказала на вокзале, не вспоминала. Но он забыть этого не мог. Потом... Потом он не получал писем целых двенадцать дней. Он считал. День за днем. Потом пришло письмо от Симочки. Короткое и... Бомбардировщики, как и тогда, в первый раз, прилетели ночью. Сколько было самолетов, Симочка не знала. Гудело все небо. Начали рваться бомбы, где-то возле вокзала И тут же совсем близко. Они с бабушкой лежали под кроватями, когда пол заходил ходуном. Но хата устояла, даже стекла не разбились. А рядом... Бомба разорвалась в доме Краевых. Пробила крышу и потолок. Юрий Петрович убит в постели. Оля ранена. Дом сразу же загорелся, но ее успели вытащить. Когда Олю увозили, она была без сознания. В следующем письме Симочка сообщила: из больницы Олю увезли в военный госпиталь, а оттуда отправили куда-то на Кавказ... И это все. Это было все, что Анатолий узнал об Оле. Потом... Как звали того немца? Но это, самое страшное, было потом. А тогда началось отступление. Немцы прорвали фронт в районе Матвеева Кургана и устремились к Ростову, отрезая все войска, стоявшие в обороне под Таганрогом. Полк Анатолия отходил стремительно. Это было похоже на бегство. В жаркий июльский полдень они по мосту перешли Дон, а еще через два дня были уже на кубанской земле.
* * *
— Старшой, как называется это местечко? — Что? Местечко. В сущности странное, совсем странное слово. Но он уже привык к нему. Удивительно быстро привыкаешь ко всему — даже на этой чужой земле. — Добжее. Сумерки ползут над землей. В темноте смутно проступают очертания строений. Позади слышится частый топот. Семиренко подтягивает взвод к головному дозору. Алябьев догоняет их первым: — Может, пощупать из автомата? — Не надо. Если там немцы, давно уже светили бы. Широкие бетонные плиты сменяются брусчаткой. По пустынной улице они прошли на западную окраину местечка. Ни жителей, ни немцев. Впереди опять стелилась степь. Заснеженная, ровная, она уходила вдаль, облитая желтым лунным светом. Бесконечная, холодная и чужая. Луна была похожа на большую, застрявшую в небе и негаснущую ракету. Командир пулеметной роты, выделенной для заставы, плохо говорил по-русски: — Мал-мала спать надо. Ходи назад Семиренко. Бувай наеденный и спатый.
18
Они вернулись на восточную окраину, где остановился штаб полка, и начали размещаться на ночлег. Тут было тесно: штабные, комендантский взвод, рота автоматчиков. Незанятый дом нашли на самой крайней улице. За каменной изгородью в лунном свете белела дорога, по которой они входили в этот городок. Невесть откуда появились жители. Они собирались группами у ворот, заговаривали с солдатами и вели себя так, как если бы русские войска каждый день приходили в их местечко. — Привет братьям-полякам! — сказал Алябьев, входя в дом. В этом доме действительно были братья. Ни одной женщины. Только два брата. Старые холостяки. Оба сухопарые и нескладные, как две капли воды похожие друг на друга. Они говорили оживленно, размахивали руками и старались что-то объяснить Алябьеву, которого приняли за старшего. Сержант на лету подхватывал польские слова, произносил их на украинский манер, хлопал братьев по плечам, но все никак не мог им растолковать, что жовнежи очень хотят спать. И тогда он сказал по-немецки: — Шляфен. Поляки засуетились еще больше, принесли в комнату рядна и несколько пуховиков. Часть перин они положили на пол, другие свернули валиком у ног. — Зачем? — спросил Алябьев. — Пан не розумеет? Один из братьев начал объяснять. Речь его была почти понятна, но к ней следовало привыкнуть. На одну перину надо ложиться, а другой укрываться. Алябьеву они предложили кровать. Сержант показал рукой на младшего лейтенанта Семиренко. — Пан офицер. Он будет шляфен на кровати. Но когда начали укладываться, обнаружилось, что в комнатах всем не уместиться. Алябьев предложил Груздеву: — Давай в коридоре. Тут все равно жарко. — Жарко? — переспросил поляк. — По-нашему есть горунцо? Но там зимно. — А мы люди привычные. Они легли рядом, у стены. Потом к ним перешел и Булавин. — Душно. И как после войны мы будем привыкать к комнатам? — А ты на всякий случай блиндажик во дворе сделай. — Был бы двор. — сказал Груздев. Он и сам не знал, зачем это сказал. Двор... Он будет, а вот...
* * *
Алябьев и Булавин уже спали, а Груздев все никак не мог избавиться от этой мысли: двор будет, а... Что сейчас делает Оля? Потом он лежал уже без мыслей, но все не мог уснуть. Это было новым. Раньше у него такое никогда не случалось. Тело спало — он его даже не чувствовал, — а там, внутри, в глубинах сознания, что-то жило и бодрствовало. Было уже за полночь, когда за стеной скрипнул снег. Кто-то шел к двери. Один. Нет, двое. Почему их никто не окликает? Ах, да, они не выставили часового, рядом — автоматчики. Те, за дверью, остановились. Один что-то сказал, как бы спрашивая. Тихо и невнятно. Другой хрипло, но отчетливо произнес: — Geh zum Teufel! Klopfe an![3] Груздев толкнул Алябьева и Булавина: — Немцы! Они за дверью. Послышался стук. Алябьев поднял автомат. Тонко звякнул затвор. Но, кажется, немцы не услышали. — Diese Schweine haben immer festen Schlaf[4]. — Положи автомат. Живьем. Их двое. Снова стук. Из комнаты вышли оба пана. Наверное, они все делали вместе. За дверью хриплый голос: — Klopfe an![5] Поляки попятились, громко заговорили, наступая разведчикам на ноги. Груздев подтолкнул их к двери, потянул Алябьева и Булавина вбок. Скрипнул засов. Немец еще раз сказал: «Schweine»[6] и, тяжело топая, вошел в коридор. В мягком белом свете, хлынувшем со двора, Груздев успел заметить: на нем фуражка с высокой тульей — офицер. Другой немец в треугольной плащ-палатке — солдат. Груздев бесшумно выступил из темноты, положил офицеру на плечо руку, резко рванул его к себе. Все было кончено в полминуты. Больше всех ликовали поляки. Немцев уже втянули в комнату, а один из братьев все топтал ногами офицерскую фуражку и приговаривал: — Швайне... Швайне! Другой старательно объяснял Алябьеву, что этот офицер и есть настоящий тевтонский боров, но самая грязная свинья все-таки Гитлер, и ему тоже надо сделать вот так же. И пусть пан сержант не сомневается: поляки помогут.
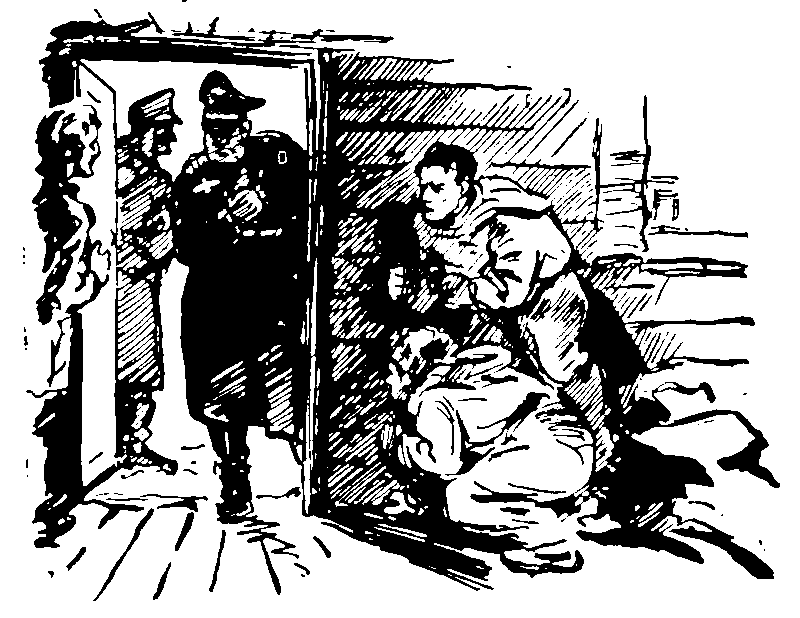
Офицер и в самом деле был толст, с обрюзгшим лицом. Жирные щеки его дрожали. Он долго не отвечал на вопросы, бурно дышал и все повторял: — Ein Moment... Ein Moment...[7]. Потом посмотрел на желтое пламя лампы и неожиданно спросил по-русски: — Ви парашютист? У него совсем обвисли щеки, когда он узнал, что в этом польском местечке самая обычная стрелковая часть, которая пришла сюда из-под Магнушева. И так же вдруг сказал: — Германия капут. И уже совсем неожиданно потянулся короткими толстыми руками к своим витым майорским погонам, сорвал их с шинели и бросил на пол. Дальше на вопросы отвечал охотно и обстоятельно, словно, сняв воинские знаки, он обрел право свободно говорить обо всем. Служил в интендантстве пехотной дивизии, которая стояла в резерве. Вчера ночью выехал на автомашине в армейские тылы. На лесной дороге отказал мотор. До полудня они ждали, что кто-нибудь будет проезжать мимо. Но никого не дождались. Решили добраться пешком до государственной дороги. Но и на ней никого не встретили. Вошли в город и вот... Что ему известно о своей дивизии? Он уверен, что она еще позади. Шум боя стих, и ему казалось, что прорыв ликвидирован. — А ви знайт, где майен дивизия? Младший лейтенант Семиренко усмехнулся: — Она позади. Частью уничтожена, частью попала в плен. Ваша дивизия больше не существует. Немец посмотрел на потолок. — Mein Gott![8] И снова по-русски: — Германия капут. Это говориль я, Вилли Мюллер. Груздев вздрогнул. Вилли Мюллер... Сдавил ладонью рукоятку ножа. Вилли Мюллер. Того звали точно так же. Он был лейтенантом. Но с тех пор прошло много времени. Что-то жгучее опаляет сердце, острыми брызгами обдает затылок. Груздев придвигается к столу, возле которого сидит немец, смотрит в жирное лицо: — Ты был на Кубани? Спрашивает сквозь стиснутые зубы и не может их разжать. — Это ты, Вилли Мюллер? У немца круглеют глаза, он испуганно переводит взгляд на младшего лейтенанта. Плотная тишина давит в уши. Скулы сводит каменная боль. В руке огонь. Откуда-то издали младший лейтенант негромко спрашивает: — Ты что, Груздев? Стол качнулся и отодвинулся. Нет, это не стол. Он, Груздев, отступил на шаг. Еще одно усилие и разжал зубы. И сплюнул кровь — прикусил щеку. И еще шаг назад. — Сейчас объясню... Голос почти ровный. Не дрожит. И это главное. Дрожит что-то внутри. — Вилли Мюллер... Так звали офицера, который был в моей станице. И он... Смотрит на Мюллера, пытается вызвать из памяти то, что произошло в станице, но оно не приходит. Чего-то не хватает. Тишина снова давит в уши. Но это уже другая тишина. В ней слышно хриплое дыхание немца. — Что есть Купан? Я не снай Купан. Теперь Груздев видит его в профиль. Широкая, дряблая щека, у виска провал. Стар, очень стар немец. Это не тот Мюллер. Не тот. Младший лейтенант что-то уже понял: — Тебе известна только фамилия? — Да. — Но у них Мюллеров столько же, сколько у нас Ивановых. Теперь Груздев не сомневается: это другой Мюллер. Тот был молодым. — Я, кажется, ошибся. Алябьев и Булавин внимательно разглядывают немца, словно могут увидеть то, чего не заметил Груздев. — Да, я ошибся. А внутри все еще дрожит. И там же тоскующее чувство сожаления. Не от того, что это другой Мюллер. От чего-то другого. С удивлением смотрит на свою правую ладонь — на рубчатые следы рукоятки ножа. Взглядывает на младшего лейтенанта. Семиренко приподнимается и снова садится, листает офицерскую книжку майора.
19
Утром, когда они уже вышли на дорогу, Семиренко спросил: — Это было в сорок втором? — Да, летом. — Мюллер все время служил в одной и той же дивизии — в Италии. На Восточный фронт ее перевели только в сорок третьем. — Нет, это действительно не он. Булавин заглядывает ему в лицо: — А тот, другой Мюллер, он... был в твоей станице? Груздев ждал этого вопроса, он готовился к нему. — Когда-нибудь расскажу. Булавин придвигается ближе: — А ты что... Бухгалтер всегда был чутким. Неужели не понял? — А ты что... вчера не спал? Груздев берет его за локоть. У Бухгалтера совсем тонкая рука. — Не спал. Не мог заставить себя. Если бы верил в предчувствие, сказал бы, что это было именно оно. Булавин подхватывает: — Есть вещи, которых мы еще не понимаем. Вот ты говоришь — предчувствие. Это вроде какого-то суеверия? Ну, а если посмотреть с другой стороны. Тогда... — С какой же все-таки стороны? — Как тебе сказать... Ну, в общем, чтоб разобраться. — С научной, с исследовательской. — Вроде того. И тогда это предчувствие может оказаться совсем иным делом. Вот скажем, командир нашей дивизии... Сидит он над картой и думает: если я нанесу главный удар здесь, то немец — тоже генерал — ответит на это так. Ведь можно же почти точно угадать, что сделает противник? — Можно. — Другой пример. Майор Барабаш, исходя из своего опыта, решил, что у немцев нет сплошной обороны. Где-то обязательно разрыв или, во всяком случае, неплотный стык. Так и вышло. Мы нашли это место. И, пожалуйста: обошли немцев и смяли их в два счета. — Ну и что? — А то, что человек силой своего ума может угадать наперед очень многое. А когда он на войне, то думает все время в одном направлении: вот — я, вот — немец. Как нужно вести себя, чтобы он не застал врасплох, чтобы я всегда был сильнее его? Человек вроде уже и спит, а мозг работает и сигнализирует. — Ну и выдумщик ты, — вступил в разговор Алябьев. — У тебя все получается, как в бухгалтерской книге: дебет — кредит, сальдо — бульдо. — Это какое же бульдо? Что-то я такого не слышал. — И не услышишь, — сказал Груздев. — Алябьев сам выдумал. Дорога сверкала в лучах солнца. Вдали, у горизонта, она прямо-таки сияла, точно там начиналось море горячего огня. Подобно пылающим кораблям, в самом его центре грудились красные строения. Дома из обычного кирпича. Алябьев, шедший впереди, приостановился: — Слышь, Бухгалтер, а ты должен стать ученым. — Ну и хватил же ты! Да у меня и десяти классов нету. А чтобы стать ученым, знаешь, сколько нужно школ и институтов пройти? — Товарищ младший лейтенант, по-моему, возле дороги траншейка. Смотрите вправо. У самых домов. Они развернулись в цепь, выдвинули головной дозор. Вперед ушли Алябьев и Булавин. Самым крайним справа по глубокому снегу — чуть ли не в пояс — шел ефрейтор Марьин. Это было его привычное место. Не глядя под ноги, он разваливал сугробы своим приземистым и широким телом, прокладывая за собой прямую, как по линейке, борозду. Маленький городок, вставший на пути, уже просматривался насквозь. Улицы казались пустынными, ни одного жителя — и это было верным признаком того, что впереди немцы. Не ложась, Булавин и Алябьев короткими очередями обстреляли траншейку — теперь ее видно было очень хорошо. Она могла быть пустой. Но ход, сделанный головным дозором, являлся в такой обстановке самым верным. Это была тактика, выработанная в последние два дня: улицы пусты, их надо обстрелять: если там немцы, они непременно ответят. На этот раз клюнуло сразу же: звонко и часто заверещал пулемет. Но он был не втраншейке, а возле дома, слева от дороги. Сыпанули автоматы. Лежа на снегу, Груздев считал. Немцев примерно около роты. Младший лейтенант Семиренко негромко сказал: — Давай сигнал. Груздев полез за пазуху. Небо прочертили две зеленые ракеты: заслон. Пока подходил полк и вперед выдвигались стрелки, разведчики вели перестрелку. Подтянулись к головному дозору, собрались в кювете. И тут Груздев заметил, что Марьина среди них нет. Его нашли в снежном сугробе, тихого, будто в чем-го провинившегося. Он лежал на спине, закрыв ладонью правую сторону живота. Кровь просочилась сквозь маскхалат и уже превратилась в красную ледяную корку. — Не суспел лечь, — сказал Марьин. И пока Алябьев, отодвинув его руку, расстегивал ему пояс и спускал маскировочные штаны и зеленые шаровары, ефрейтор еще раз сказал: — Не суспел. Пуля вошла в тело и осталась в нем. Ниже раны Груздев, уже развернувший перевязочный пакет, увидел округлый бугорок. — Да она у тебя тут же. — Кто? — Пуля. Марьин посмотрел на свой живот, а Груздев легонько прикоснулся к бугорку — мягкому и удивительно круглому. — Нет. То не пуля. Марьин быстро-быстро заморгал глазами и больше ничего не сказал. — А что же это? — Не пуля. — А что? Марьин, точно застыдившись, закрыл глаза: — Грызь. И, превозмогая боль, сквозь зубы прошептал: — Она у меня давно, еще с дому. Выпала... вот. Груздев и Алябьев переглянулись. Когда наложили повязку, Булавин спросил: — Как же ты с грыжей комиссию проходил? Марьин ослабел и говорил совсем тихо: — А я без комиссии. Упросился в часть — взяли. Он потерял много крови, и сознание у него быстро угасало. Когда его вынесли к дороге, Марьин, наверное, уже не узнавал их. Всегда немногословный, он вдруг заговорил, заговорил... — Маманя, ты... не надо, не горевай. Папаню не вернешь. Ты... не надо, не горевай... Лечь бы... Не суспел. А грызь, она не болесть. Ранють — в госпитале доразу ушьют. И грызь, и... Маг‑ну... Магнушев какой-то...
* * *
В этот день они встретили два заслона. На сорок с лишним километров только два. К пункту назначения подходили уже ночью. Небо было ясным, и Алябьев, посматривавший часто на звезды, сказал: — Идем не на запад, а на север. Я не ошибся, товарищ младший лейтенант? — На север. Завтра мы должны выйти на автостраду Варшава — Берлин. — Значит, Варшава... — Мы обошли ее. — Но... — Наверное, уже взяли. Сегодня. Слева за лесом в ночи неожиданно вспыхнул огонь. Пламя быстро разлилось вширь, потом поднялось к небу, так, что на фоне зарева четко вырисовались верхушки сосен. — Что бы это могло быть? Населенного пункта там нет. Младший лейтенант Семиренко раздумывал, глядя на огромный полыхающий костер. Повернулся к Груздеву. — Осмотри. Сигналы обычные. Если все в порядке, выходи на дорогу и иди за полком. Ночуем в этом городишке, тут километра два. Возьми с собой Булавина.
* * *
Горело не так уж близко. Они пересекли лес. За ним была поляна. Потом снова лес. И только когда вошли в него, услышали гул пламени. Укрывшись в тени заснеженной ели, коротко посовещались. Груздев сказал: — Судя по запаху, горит бензин. — Надо сделать крюк и выйти к огню с запада. Если есть немцы, они оттуда нас не ожидают. — А если пойдут к дороге? Как раз ударят в хвост нашей колонне. Решать должен был Груздев. — Иди в обход. Я — напрямик. В лесу ночь всегда темнее, чем в степи. Теперь же в свете пляшущего пламени деревья отбрасывали самые немыслимые тени. Черные, накладывавшиеся одно на другое, пятна все время изменялись и, казалось, были подвижными. В этом хаотическом нагромождении трудно различить человека. Но его можно услышать. Груздев переходил от дерева к дереву, всматривался, напрягал слух. Воздух уже дышал жаром пышущего огня и запахом гари. Лес поредел, и за дальними стволами потемневших сосен Груздев увидел весь очаг пожара. Но он никак не мог понять, что горит. Можно было подумать, что огонь выбивается прямо из-под земли — неширокой и длинной полосой. Лишь подойдя ближе, он рассмотрел в центре бушующего пламени остовы двух бензовозов. Наверное, перед тем как поджечь, бензин слили прямо в снег, на дорогу. Прячась за деревьями, он сделал почти полный круг и встретился с Булавиным: немцев не было. Скорей всего, они сразу же ушли на запад. Булавин сказал, что видел в снегу на дороге следы. — Тут было четыре — пять человек. Попали в окружение и... — Ты уверен, что не больше? — Следы очень отчетливые. Как видно, машины засели. И вообще им отсюда уже нельзя было выбраться. Лесная дорога поворачивает к магистрали. — Значит, немцы все-таки у нас в тылу. — В общем, да. Но, наверное, они уже далеко. Если хорошо знают местность, то теперь обходят городок. Сделать они ничего не могут. Шофера. Таких мелких групп в лесах, наверное, немало. — А если не мелких? — Откуда они возьмутся? — Пойдем по лесной дороге. Они прошли до самой магистрали и никого не встретили. Вдали слышался перестук колес. Кто-то крикнул: — Кухня, вперед! Невидимый в белесой ночной мгле, полк уже втягивался в польский городок. — Ну и крикливый народ эти обозники, — сказал Булавин, — за километр слышно, о чем говорят. Они что, всегда так? За всю войну в первый раз иду в хвосте полка. — Тише. Груздев тронул Булавина за плечо. Кто-то шел по лесу. Вначале тихо, чуть слышно, потом с треском, будто продирался сквозь заросли, напрямик. Они опустились в кювет, легли. Ночью снизу видно всегда лучше. Булавин шепнул: — Их двое. Шум исходил действительно из двух мест. — Будем брать или... Он приподнял автомат. Груздев встал и громко сказал: — Брать, Булавин. И, ничего не объясняя ефрейтору, пошел в чащу и тихо засвистел — призывно, как делают ездовые, когда поят лошадей. В нескольких шагах от него остановились два куцехвостых першерона. Булавин подошел к Груздеву, удивленно сказал: — Даже в уздечках. Седел только нет. — Обозные. Лошади послушно дались им в руки. Булавин сказал: — Тоже окруженцы, а сдаются без боя. — Чего нельзя пока сказать о фрицах. — А они тоже будут сдаваться. — Ты забываешь, что мы подходим к Германии. — Тем более. Неужели им не ясно, что война проиграна? — До некоторых это дошло уже давно. А все-таки воюют. Трудно понять... Я не хочу об этом думать. Плевать мне на то, о чем сейчас размышляет немец. До тех пор, пока он в меня стреляет, я буду укладывать его в землю. И буду думать только о том, как сделать это получше. Вот и все. Груздев вывел першерона на дорогу, вспрыгнул на его широкою спину. И еще раз повторил: — Вот и все!
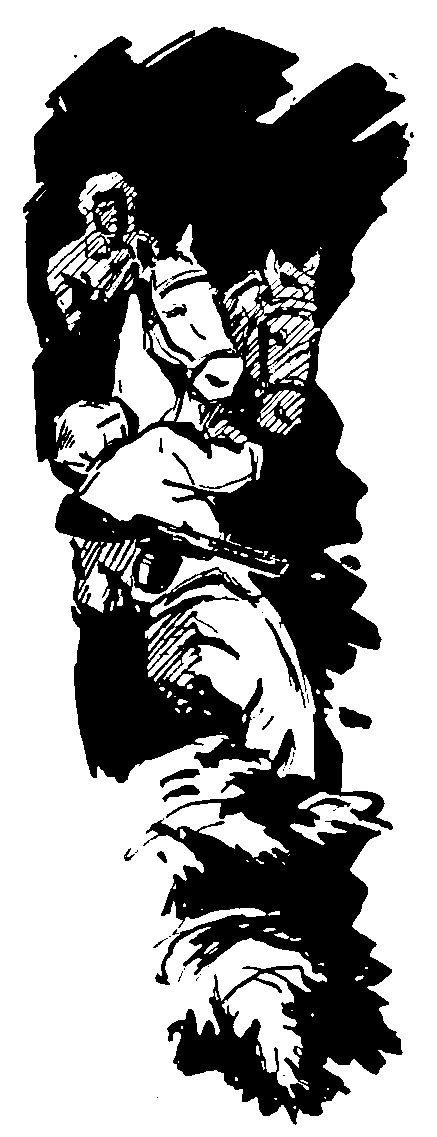
До городка оставалось не более полукилометра, когда лес расступился и перед ними открылось мглистое поле. Пошел снег. Крупные хлопья мягко ложились на дорогу. Лошади сразу стали белыми. — Там тоже дорога? Булавин показывал рукой влево. Наискось к магистрали двигалась длинная колонна. Не меньше батальона. — Соседи? — Похоже. Облепленные снегом, преодолевшие немалый путь, стрелки шагали все-таки довольно быстро. Вот первые ряды уже ступили на бетонное полотно магистрали. И тут случилось неожиданное: они пересекли дорогу и пошли напрямик через поле, оставляя городок слева от себя. Еще ничего не понимая, Груздев почувствовал что-то неладное и ударил першерона каблуками сапог. Лошадь пошла быстрее, но она никак не могла перейти на рысь. Голова колонны уже растаяла за снежной сеткой, когда они подъехали вплотную. Перед ними были последние ряды. — Хлопцы, из какого полка? Один из стрелков, в длинной шинели, весь белый от снега, взял лошадь Груздева под уздцы. — Цо?[9] — Из какого полка? Груздев повторил вопрос машинально и резким движением передвинул автомат из-за спины на грудь. Стрелок махнул вдоль дороги рукой, показывая в сторону городка: — Там. И метнулся в степь, догоняя колонну. Не снимая автомата с шеи, Груздев сыпанул ему вслед длинную очередь. Прыгая на землю, он услышал испуганный крик Булавина: — Ты что? По своим?! — Огонь! Немцы! Он веером рассыпал очереди, пока не закончился диск. Выхватил из-за пазухи ракетницу. — Стреляй, стреляй, Бухгалтер! Но Булавин уже и сам понял, что перед ними немцы: над дорогой с шумом пронеслись трассирующие пули. Небо прочертили три зеленые ракеты. Это был один из условных сигналов: вижу противника, силами до батальона. Груздев сменил диск и выпустил еще одну ракету, обозначая направление. Тут же вскочил и, сделав длинную перебежку, снова лег. Теперь он стрелял короткими очередями. — Булавин, не отставай. Надо навязать бой. Уйдут. Он сделал еще одну перебежку и упал: рядом грохнул взрыв. Граната ударилась об землю в каких-нибудь двух шагах. Но он не почувствовал боли, только чуть-чуть зацепило левую ладонь. Точно он ободрал ее обо что-то. — Булавин, не отставай! И только когда на окраине городка послышалась автоматная трескотня — густая, почти слитная, — он остановился. — Все. Наши вышли им наперерез. Отдышался: — Вот тебе и мелкие группы. Ну, теперь ты понял, о чем они думают? — А я всегда это знал. — То-то. А руку мне все-таки поцарапало. По-моему, это было яйцо.[10] Вот и кусочек жести застрял в коже. — Давай перевяжу. — Не стоит. Пустяк. Он выдернул зубами металлическую занозу, вытер ладонь о маскхалат. — Пойдем искать свою «кавалерию». Немцы не вернутся. Они будут прорываться на запад. Лошадей они нашли возле дороги. Першероны лежали друг подле друга, вытянувшись во всю длину своих могучих тел. Наверное, они были срезаны одной очередью. Метель уже накрыла их толстым слоем снега, превратив в два невысоких холма. Вдали полоскалась автоматная трескотня. Груздев сказал: — Все-таки часть из них прорвалась. Прошляпили мы с тобой. — При чем же тут мы? — При том, что надо было открывать огонь раньше. — Но колонна могла быть своей. Как ты узнал, что это немцы? Они шли уже по улице. Булавин был весь облеплен снегом, на голове, поверх капюшона, у него образовалось нечто наподобие островерхого колпака. Это показалось Груздеву смешным. Сдерживая улыбку, он стал объяснять: — Во-первых, направление, по которому они шли, во-вторых, темп марша, в‑третьих, длинные шинели, в‑четвертых, вопрос: «Цо?», в‑пятых, металлические автоматы в руках, в‑шестых... Но дай я сниму у тебя с головы снег, а то еще перепугаешь какую-нибудь пани...
20
Говорят, что каждый город имеет свое лицо. Как человек. Но тогда у каждого из них может быть и свое выражение. Эти польские города были похожи друг на друга. Узкие улицы, кирпичные дома под черепичными крышами, островерхие костелы, башни, башенки и флаги... Над каждым балконом огромное полотнище: белое с красным. Это — черты лица. А выражение... В нем что-то от неуверенной улыбки, которая может и погаснуть и превратиться в широкую и радостную. Долго, слишком долго стучали по каменным мостовым кованые ботинки немецких солдат. Долго, слишком долго грохотали, подминая под себя улицы, нескончаемые колонны бронированных чудовищ с крестами на боках. И много, очень много раз были обмануты надежды. И теперь, наверное, трудно было поверить, что этому пришел конец. Навсегда. У каждого города было, разумеется, и нечто свое. А эта неуверенная улыбка оставалась общей.
Город за городом, местечко за местечком. И снова дорога, твердое полотно автострады. А по сторонам то звонкий, насквозь промерзший лес, то голая степь. Солнце туманное, в морозной дымке. Несколько часов разведчики шли, не встречая врага. В полдень услышали отдаленный грохот артиллерийской канонады. Младший лейтенант на ходу подтянул планшетку, глянул на карту. — Это в Познани. Артиллерийская пальба была глухой, но частой. Они шли все дальше, но она не приближалась, а как бы передвигалась в сторону. Груздев спросил: — Обходим? — Мы должны пройти правее. Ефрейтор Лукашов, замыкавший ядро взвода, крикнул: — Из полка сигналят: привал на обед. Они сошли в кювет, сели на сугроб, закурили. Полковая колонна была хорошо видна на белом снегу, и Груздев подумал: хорошо, что нет самолетов. Их они не видели вот уже два дня. Не появлялись даже воздушные разведчики. Неужели это все? В последние сутки полк прошел почти шестьдесят километров. Сегодня будет еще столько же. Опыт подсказывал ему: нет, это еще не все. Такое уже случалось. Но то было на своей земле. А здесь... Германия совсем рядом, а немцы ничего не могут сделать. Тугая волна подпирала сердце. Опыт снова предостерегал: до Германии не так уж близко, а это только начало наступления. — Как рука? — спросил Семиренко. Третий день Груздев нес ее на повязке. Рана, полученная в том ночном бою, оказалась не такой уж пустячной. Хуже всего, что на ней образовался нарыв. Ладонь дергало. — Пока ничего. — Остановимся на ночевку — сходишь в санчасть.
Как странно приходят воспоминания. Иногда достаточно одного слова, и они тут как тут. Санчасть... Наверное, Оля совсем близко. Когда они встретятся, обязательно заговорят о доме... И он должен найти такие выражения, чтобы... Главное, не растревожить боль. Она у них общая и у каждого своя. А вдруг Оля знает не все. Вдруг... И вот оно, прошлое... Вначале дорога. Та самая, по которой они тогда часто ездили с Олей на велосипедах. И тот же бугор. Когда рота, в которой служил Груздев, вышла на гребень степного переката, он глянул вниз и не увидел улиц. Все заволок дым. Позже узнал: немцы три дня бомбили станицу. Дым и серые развалины. Ему казалось, что и деревьев нет. До этого он видел такое в других местах и оно уже как-то не замечалось. А здесь... кричать хотелось. На мосту подошел к командиру роты: — Разрешите отлучиться. Домой заглянуть. Тут недалеко. Командир роты посмотрел на него из-под мохнатых от пыли бровей: — А может, отпустить тебя насовсем? Без улыбки и без злости. Спросил ровно, буднично. Но в голосе было что-то такое, от чего сердце Груздева сжалось, точно по нему — голому и чувствительному — стеганули плетью. Накануне, когда проходили через село Алексеевское, один солдат зашел домой и не вернулся. Скрипнул зубами: — Разрешите стать в строй. И тогда командир роты неожиданно сказал: — Не разрешаю. Глянул на часы: — Даю тебе два часа. Догонишь в 14.00. Отходим в сторону станицы Шкуринской. Не шел, а бежал он по улицам. Винтовку то закладывал за спину, то нес в руках. Пересек полстаницы и никого не встретил. Где-то гудели самолеты, слышались отдаленные взрывы. Не было только человеческих голосов. Он бежал и чувствовал, как пустота и мертвое молчание разрушают что-то в нем, куда-то уносят по частям и делают как бы несуществующим. Еще издали увидел развалины Олиного дома. Остановился. Перед глазами плыли круги. Но это, наверное, оттого, что долго бежал. Пошатываясь, дошел до своей калитки. Дом был на замке. Покинутый, пустой и как будто уже не принадлежащий ему. Он сел на крыльцо и долго сидел, глядя в землю и ничего не понимая. В небе послышался тяжелый гул самолетов. Бомбы падали неподалеку. Они обрушивались на землю с тяжелым всеподавляющим грохотом. Но он так и сидел, бездумно глядя на утоптанную дорожку. Разрывы бомб утратили для него свой устрашающий смысл: здесь, у порога родного дома, он почувствовал всем своим существом, что рушилось и катилось в бездну самое большое. Вся жизнь, весь мир. И оттого, что это было непоправимым, остальное уже не имело значения. Но в нем уже жил солдат. Откуда-то из подсознания прозвучал голос командира роты: «Догонишь в 14.00». И он встал, взял винтовку на ремень и вышел на улицу. И тотчас увидел старушку Тимофеевну, живущую напротив. — Где наши? Живы? — И-и... Хведор, шо ж воно робыця? Она приняла его почему-то за Федора. — Где бабушка и Симочка, живы? — Живы воны. За станицей ховаются. Уси там. В бугелах. Бугелы — овраги у реки. Но до них далеко. Он метнулся к переулку, но его остановила Тимофеевна: — А Краевым бумага пришла. Вбыто... — Кто убит? — Маты. А дочки тут нема и ны чуть, де вона. Он снова бросился к переулку и уже издали крикнул: — Бабушка, я не Федор, а Анатолий. Если не найду своих, так вы им передайте, что заходил. Скажите, Анатолий заходил, Анатолий... А ночью, врубываясь в землю лопатой, в кровь разбивая ладони, звал пересохшими губами: «Оля, где ты? Оля, ты слышишь? Что же это? Что?» Он спрашивал у ночи. Она была многоголосой, но у нее не нашлось для него ни одного слова. Ни одного. И он затих. Вытянулся в окопе во весь рост и до утра смотрел в пустую темень. Где-то там, в ночи, вступал в станицу Вилли Мюллер. Тысячи Мюллеров. Но Груздев не видел никого. И ничего. Перед ним была пустота. На рассвете немцы вошли в соприкосновение с ротой. Густой цепью выткнулись они из балки, веером рассыпая автоматные очереди и горланя во всю глотку. Груздев не стрелял. Примкнул к винтовке штык и ждал. И когда послышалась команда: «Встать! В контратаку, вперед!» — оттолкнулся руками от бруствера и ринулся вниз. Он сразу же увидел этого немца. Может быть, даже наметил его, когда был еще в окопе. У него широкая грудь и автомат, пляшущий на животе. Огненная струя опалила щеку. Груздев рывком ушел в сторону, сделал скачок вперед и сразу оказался от немца в двух шагах, точно перенесся по воздуху. Он хотел колоть в грудь, но в самое последнее мгновение левая рука сама собою потянула винтовку вниз — в ребрах штык может застрять. Об этом ему говорил кто-то. Немец выпустил автомат, заслоняя ладонями живот. Штык вошел в тело с мягким хрустом. И еще Груздев заметил: глаза у немца выпученные. Это произошло в четырех километрах от станицы. Тот немец был первым, которого он увидел вот так близко и убил. И потом, чтобы освободить штык, оттолкнул ногой.
— У меня кончился табак. Булавин протянул кисет. — Бумага внутри. Но может быть, не стоит. Поешь, а потом закуришь. Булавин подвинул к нему котелок.
21
Ночью полк обошел Познань. В городе гремел бой. Частые вспышки ракет, зарницы артиллерийских выстрелов полыхали в полнеба. Полк уходил все дальше, на запад; пляшущее зарево отодвигалось, но не гасло. Позади оставался крупный гарнизон противника. Зато впереди ни огоньков, ни выстрелов. И это было непривычным. Алябьев сказал: — Вот уж действительно: ни фронта, ни тыла. А немцы где-то тут. Тут! Дважды делали привал. Потом снова отсчитывали километр за километром, а противника все не было. Но он находился поблизости. И это чувствовал не только Алябьев. Такое трудно объяснить. По каким-то неприметным признакам складывается убеждение: враг рядом. Может быть, это один из тех инстинктов, которые приглушенными живут в человеке от самого рождения и обостряются, вступают в активное действие только на войне. Может быть, это — сложнейшая и еще необъясненная работа мозга. Что бы это ни было, оно не обманывало. Враг рядом! Груздев оглянулся. Грохот боя доносился теперь с востока; город светился узкой полоской, придавленной к земле. Небо налилось темнотой и, отяжелевшее, опустилось к самым верхушкам сосен. Наклонился к младшему лейтенанту: — Может, выдвинем еще один головной дозор. Дорога все время в тени, ни черта не видно. В первый раз они попробовали это прошлой ночью. Дозоры шли друг за другом. За ними — ядро взвода. — Давай. Дистанция сто пятьдесят метров. Не больше. И снова шли молча. Семиренко кивнул на руку: — Все еще дергает? — Прорвется! Шире шаг, славяне! Семиренко посмотрел на Груздева, потом на дорогу и ничего не сказал. Серые бескрайние леса теснили автостраду справа и слева, а где-то впереди, во мгле, втягивали ее в себя и, может быть, растворяли в своем чреве. Мгла и тишина — чужая и враждебная — настораживали и, казалось, пропитывали воздух тревожным напряжением. Но ни смутное беспокойство, ни боль в руке не могли заглушить в Груздеве того нового чувства, которое поселилось в нем в эти последние дни. Оно жило рядом со всегдашними заботами, жило само по себе и охватывало его все сильнее. Тревожное, ожесточенное и радостное. Где же эта долгожданная черта, за которой начнется распроклятая земля? Он должен дойти до нее. Он должен дойти до этой окаянной земли. — Как вы думаете, где сейчас Гитлер? Младший лейтенант не успел ответить. В темноте, совсем близко, с треском вспыхнула двухцветная ракета и тотчас протарахтела автоматная очередь. Короткая, словно недоговоренная. Пули просвистели в стороне: стреляли не с дороги, а из леса. Ракета погасла и в наступившей темноте разведчики быстро развернулись вправо и влево. Укрываясь за деревьями, они бесшумно двинулись вдоль дороги. Груздев шел по кювету. Лес редел. Впереди была поляна. Чья-то тень мелькнула на полотне автострады. Наверное, кто-то из дозорных. Они скорее всего уже соединились. Но зачем же маячить? К дозорным он подошел почти одновременно с командиром взвода. Ефрейтор Лукашов доложил: — Тут прогалина и на той стороне окопы. Он говорил шепотом, и Груздев придвинулся к нему вплотную. — Ракету пустили прямо с дороги, и я заметил бугорки. Окопчики. Точно! И тянутся через всю поляну. А стреляли слева. Голос еще слышал. Наверное, на автоматчика на того кто-то прикрикнул: мол, чего торопишься! — Сколько до них? — Метров сто пятьдесят. Груздев ждал, что скажет младший лейтенант Семиренко. Прежде всего, конечно, надо просигналить полку и отойти. Обычный заслон. Ну, а если... — Надо выявить фланги. Младший лейтенант повернул лицо к Груздеву: — Пойдешь вправо, через лес. Я действую слева. А ты, Лукашов, иди навстречу полку. Доложи, что фланги мы обозначим ракетами: красная и зеленая. И снова Груздеву: — Как рука? Может, Алябьев поведет? Груздев молча поднял руку, он и сам не заметил, когда выпростал ее из косынки. И удивительно: боли не было. Так, какая-то тяжесть на ладони. — Ну, давай. Просигналишь вслед за мной. Они отползли назад и разошлись в разные стороны.
* * *
Задача эта была не так уж проста. Определить фланг, когда противник ведет огонь и этим невольно показывает линию своей обороны, — это одно. И совсем другое сделать то же самое, когда враг молчит, затаившись в темноте ночи. Еще хуже, если времени в обрез. И все-таки задачу надо решить. На то ты и разведчик, чтобы в любой обстановке знать абсолютно достоверно: где противник и что он делает. Каждый боевой приказ, который отдается стрелкам, имеет пункты, строго регламентированные уставом. А начинается он с ответа именно на этот короткий вопрос: где противник и что он делает? И такой ответ должен приготовить разведчик. В сущности, он первым начинает и маленькие бои и большие сражения. Груздев остановился в тени широкой ели. В нескольких шагах от него в белой мгле лежала поляна. Дальше темнел лес. Алябьев спросил: — Обстреляем? Это было самое простое решение. Но тогда полк утратит такое преимущество, как внезапность. На дороге немцы могли и не заметить дозорных. Так, что-то показалось — и все. Ну, а если даже и обнаружили их, им еще ничего не ясно. Два человека. Кто они? Жители, дезертиры или отбившиеся от части солдаты? — Огня не открывать. За мной! Он повернул вправо и пошел вдоль кромки леса. В поисках решения Груздев всегда ставил себя на место врага: предусмотрительного, видавшего виды, хладнокровного. Вначале он обдумывал задачу за немца, потом за себя. Это была привычка, и она вступала в действие сама собой. Еще там, на дороге, он понял, что немцы прикрывают только автостраду. Именно поэтому они выбрали для обороны такое место: поляна хорошо просматривается и насквозь простреливается. И совершенно ясно, что в этом случае надо, не очень удаляясь от дороги, протянуть окопы по западному краю поляны, а фланги загнуть назад — русские могут обойти. Можно, конечно, поставить в лесу минные поля. Но времени на это наверняка не хватило. Мысли текли ровно и быстро. Во всем теле Груздев чувствовал ту легкость, которая всегда приходила к нему вместе с ясностью и осмысленностью действий — единственно правильных, абсолютно безошибочных. Он подвинулся к Алябьеву. — Ищи на снегу следы. Скажи Булавину. В последний раз метель была три дня назад. Если следов нет, значит, немцы сюда не выходили. Когда поляна осталась слева, он лег и подполз к самой опушке. Во мгле смутно вырисовывался бугорок бруствера. Это и был крайний окоп. Груздев снова углубился в лес, вытащил из-за пояса ракетницу. Надо продвинуться еще дальше, заглянуть в глубину обороны. Мертвая тишина сковывала лес. Но теперь она была понятной и уже не казалась враждебной. Они бесшумно скользили в ней, чувствуя ее всем своим телом. За ельником открылась еще одна поляна — совсем маленькая. В центре ее что-то чернело. Кажется, огневая позиция. Минометный окоп. Конечно, минометный... Но Груздев не успел рассмотреть: за дорогой ночную мглу рассекла ракета. Красная. Сразу же, по ее следу взвилась зеленая. Груздев вскинул руку. В яркой вспышке он увидел, как Алябьев и Булавин метнулись на поляну, но он не мог проследить за ними взглядом, потому что в ракетницу надо было заложить еще один патрон. Дважды грохнуло. Он выстрелил еще раз и услышал голос Алябьева: — Старшой, сюда! В зеленом свете ракеты Груздев заметил круглую огневую, миномет и возле него Алябьева и Булавина. Он скатился в окоп и упал на что-то мягкое и неподвижное. Алябьев смеялся: — Накрыли весь расчет. Весь! И он начал считать. — Раз-два... Тут еще двое. Злое веселье Алябьева подхватило и Булавина: — Весь. Двумя гранатами. А миномет целый. Возле дороги густо трещали автоматы, в небе полыхали ракеты. — Немцы! Это крикнул Булавин. Но Груздев увидел их не сразу. Он смотрел в сторону дороги, а они показались сзади. — Огонь! Стреляли короткими очередями. Немцы залегли. И тут же, обходя окоп, стали уползать влево и вправо. Груздев крикнул : — Булавин, к миномету! Ефрейтор передвинул двуногу-лафет. — Это мы сейчас. Мин тут хватит. Но в нем все-таки жил бухгалтер. — Старшой, на такое расстояние... Считай, не больше пятидесяти. — А ты без счета. — Как? Груздев почувствовал, как его охватывает нетерпение. — А так, Бухгалтер! И подхваченный той силой — озорной и злой, — которую он всегда ощущал, когда попадал вот в такое крутое положение, может быть, самое последнее в жизни, придвинулся к миномету, крутнул ручку подъемного механизма. — А так! И нараспев: — По гитлеровой хате... Это уже когда-то было. Было! Под Мелитополем. Они вот так же оказались в тылу у немцев и захватили приземистую противотанковую пушку. Только тогда подавал команду сержант Седых: «По Микишкиной хате через Сонькины...» Дальше шло что-то очень похабное, и Груздев не помнил. Теперь ствол миномета стоял почти вертикально. В сущности это огонь на себя. — По гитлеровой хате... Грохнуло прямо за бруствером. Алябьев подхватил: — Правее пол-лаптя! Голос веселый, хмельной. А Булавин, словно подчиняясь команде, припал к прорези угломера. Груздев опустил мину в ствол, и она с шумом ушла в небо: — Выстрел! — Старшой, фрицы с тыла! Справа тоже... Теперь Груздев и Алябьев стреляли из автоматов, а Булавин крутил винт поворотного механизма, расширяя линию огня, и сам себе командовал: — По гитлеровой хате... Разрывы ложились совсем близко, осколки метались над головой, а они все стреляли и стреляли. И только когда в ельнике послышался размеренный треск пепеша, Груздев крикнул: — Отбой! Огонь быстро стихал. Слева за дорогой уже все смолкло. Груздев хотел вскочить на бруствер, оперся левой рукой о землю и вскрикнул то боли. Ладонь налилась чугунной тяжестью и горела огнем. Повязка с нее давно сползла и где-то потерялась. Позже, когда они вышли на дорогу, он попросил у Алябьева пакет. Сержант включил фонарик. Нарыв захватил уже всю ладонь и в середине покрылся синеватым налетом. Семиренко сказал: — Останешься здесь и дождешься обоза. Утром — в санчасть или в медсанбат.
22
Груздев должен был считать себя счастливым. Медсанбат — это встреча с Олей. Но радости не было... Повозки санроты покидали город последними. Они уже скрылись в мглистой дымке зимнего утра, а Груздев все стоял на дороге, по которой прошел его полк. Как трудно перейти сразу к этому новому своему положению. Так всегда. Все переживается как нечто новое. Только что ты стоял в общей колонне, в том строю, который уже давно стал твоей семьей... Изученные до мельчайших черточек лица, знакомые до самого сокровенного оттенка голоса... У тебя были свои обязанности — осмысленные, понятные, нужные. И вдруг ничего этого нет. Ты еще на дороге, но стоишь сам по себе. Твои заботы больше не связаны с жизнью полка. В этом и состоит самое странное. Оно почти противоестественно и никак не может уложиться в сознании. Обращаясь к своим, только к своим делам, ты как бы уходишь из того нерасторжимого круга, который называется солдатским братством. Знаешь: иное сейчас невозможно. Знаешь, и все-таки чувствуешь себя в положении человека, с которым произошло что-то недопустимое.
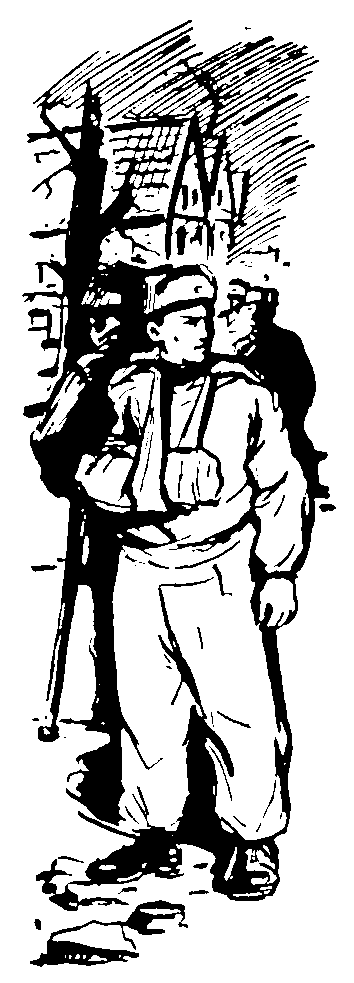
Потом, если владеешь хоть одной рукой, лезешь в карман гимнастерки и вытаскиваешь розовую, плотной бумаги карточку. На ней твоя фамилия и номер полка. Они рядом, и это тебя немного смягчает. Уже спокойнее рассматриваешь рисунки. Их три. Совсем маленькие. Они расположены один под другим: солдат идет, солдат сидит, солдат лежит. Взгляд невольно задерживается на рисунке, обведенном кружочком. Ведь это ты. Лицо не твое. Фигура тоже не твоя, и все-таки это ты. На карточке Груздева в кружок взят верхний рисунок: солдат идет. На языке санслужбы это означает, что ран-больной эвакуируется в тыл своим ходом. Что ж, своим так своим. Впрочем, идти Груздеву никуда не надо. Полчаса назад хирург полковой санроты, осмотрев нарыв, сказал: — Вскрыть надо. Можно и тут, у нас. Но все равно тебя придется отправить в медсанбат. Так лучше, уж там пусть все и сделают. Кстати, медсанбат скоро будет здесь. Груздев уточнил: — В этом городке? — Да. Простая закономерность: там, где ночуем мы, на следующий день останавливаются они. И еще спросил Груздев: — А сколько времени нужно на лечение? — Если все будет хорошо — не больше недели. Целых семь дней... Снежная пыль, поднятая на дороге полком, уже давно осела. Стих скрип колес. А он все стоял, мял в руке розовую карточку. Потом повернулся лицом на восток. Где он, медсанбат? Странное и сложное чувство владело Груздевым. В сущности ему действительно следовало считать себя счастливым. Сейчас в город въедут санитарные автобусы и в одном из них Оля. Но радость все же не приходила — та полная, растворяющая заботы радость, которая подхватывает человека на свои могучие крылья и делает все легким и светлым. Он поискал глазами дорожный столб. Его поблизости не оказалось. Груздев решительно шагнул к ближайшему дому. На его стук вышла женщина. — День добрый, пани. — Здравствуйте, товарищ. Милости просим. Он удивился: — Вы русская? — Полька. Но я преподавала русский язык. До войны, до тридцать девятого года. Входите. Женщина отодвинулась в сторону, шире распахнула дверь. Из глубины дома послышалась мелодия. Она была до боли знакомой и очень светлой, насквозь прозрачной, как чистая соловьиная трель. Вначале показалось: голос девичий. Но в мелодию сразу же влились новые звуки, и Груздев понял: скрипка. — Входите, проше, пан. Он посмотрел на женщину и только тут заметил, что она уже немолодая. У нее светлые пышные волосы и в них... живая алая роза. — Спасибо, пани. Не буду вас беспокоить. Я хотел бы задать вам один вопрос. — Пожалуйста, товарищ. — Скажите, сколько километров отсюда до Германии? — Но может быть, вы все-таки войдете? — Нет-нет. Мне нужно быть возле дороги. Я ожидаю своих. — Вы говорите: до Германии. А какую границу имеете в виду? — Старую, конечно. Ту, что была до войны. — До старой границы километров двести. — И там начинается Германия Гитлера? — Да. А если говорить об исконных польских землях, тогда до границы будет больше. — Но война начиналась... — Примерно в двухстах километрах отсюда. — Спасибо, пани. — Может быть, все-таки зайдете, выпьете горячего кофе? На плечах у пани серый платок. Но он уже совсем белый — с неба мягко падают пушистые хлопья снега. Волосы стали еще светлее. И только роза все такая же алая — как будто ее жар без остатка поглощает снежинки. А из глубины дома льется все та же до боли знакомая мелодия. — У вас, наверное, какой-то праздник? Она улыбнулась, и теперь Груздеву показалось, что эта женщина, пожалуй, совсем молодая — просто вначале он не рассмотрел ее. — О, сегодня нельзя не радоваться. Мы так долго ждали... Это — первое утро, которое мы встречаем без страха. За последние пять лет муж в первый раз взял в руки скрипку. Он играет для вас. Входите, милости прошу. — Спасибо, пани. Мне нужно быть на улице. И почему-то посмотрел на розу. — Какой красивый цветок! Зима, а он... Пани, словно что-то вспомнив, подвинулась к двери: — Подождите. Он еще не успел понять, в чем дело, а она уже снова вышла на крыльцо и протянула ему розу — такую же, какая была в ее волосах. — Их у нас две. Наши, домашние, расцвели сегодня утром. Их две, и эта ваша. Левая рука у него была на повязке, и он взял цветок правой и, сам не зная почему, поклонился. Молча отошел к калитке и оттуда сказал: — Спасибо. Он уже вышел на дорогу, но в нем еще долго жила мелодия. И она будила силы и что-то возвращала ему. Посмотрел на тугие, алые лепестки розы... Он по-прежнему держал ее в руке. Итак, двести километров. Три — четыре дня хорошего марша. Можно еще успеть. Глянул на левую руку. Боль, кажется, утихла. Конечно, можно. Нет, ему совсем не нужна неделя. Вы, товарищ военврач, не знаете Груздева. Там, где другому требуется семь дней, ему хватит и трех. И снова зашагает старший сержант Груздев во главе колонны. Зашагает и первым ступит на ту рыжую, холодную землю, к которой он шел более трех лет. Но где ж он, этот медицинский санитарный батальон? И где ты, родная и долгожданная? Где ты, Оля? Мимо шли два раненых. Один тяжело опирался на винтовку. На правой ноге обмотка у него снята и поверх пухлой бинтовой повязки намерз кровяной пластырь. Глаза солдата удивленно смотрели на цветок в руках Груздева. — Роза? Ишь ты... Груздев ничего не сказал, отошел к забору. Кроме трех старых справок о ранениях, другой подходящей бумаги в карманах не нашлось. И он бережно завернул цветок в справки и положил его за пазуху.
* * *
— Сейчас будет маленький укол. Это сказал хирург — высокий плечистый капитан с оголенными по локоть, очень сильными руками. — Еще один. Груздев их почти не чувствовал. Он лежал вниз лицом, вытянув левую руку вдоль доски, закрепленной поперек операционного стола. Хирург колол еще и что-то говорил, но Груздев не вслушивался в слова, потому что в таких случаях — он знал это по опыту — они не имели никакого значения. Военврач разговаривает для того, чтобы отвлечь от боли. Но и он, этот хирург, тоже не знает Груздева. Разве это боль? Ему приходилось терпеть и не такое. Впрочем, и операция самая пустяковая. Груздев не вслушивался в слова, но каким-то вторым слухом следил за интонацией. К концу операции у хирургов в голосе всегда появляются бодрые нотки. Их пока еще нет. И Груздев терпеливо ждал, а сам мысленно был на улице, в снежной пыли, взметаемой санитарными автобусами. Женщина-военфельдшер, которую он прежде встречал на плацдарме, въехала в городок в одной из первых машин. Она узнала его сразу: — Вы ранены, Толя? — Ничего особенного. Оля с вами? — Конечно, с нами. Но она будет позже. И как там, в лесу, прищурила глаза. — Значит, скоро будет? — Скоро. — Тогда я подожду здесь. И отошел к каменной ограде. Чуть позже она разыскала его и отвела в операционную. Снизу вверх посмотрела на него и неожиданно сказала: — А знаете, вы с Олей похожи друг на друга. И вздохнула. ...Хирург что-то говорит сестре. Громко и весело. Значит, все. Груздев поднимает голову. Сестра уже накладывает повязку. — Ну как? — спрашивает Груздев. — Сейчас, родной. Груздев кивает сестре и смотрит на капитана. — Как... в смысле выписки? Скоро? Капитан смеется: — Однако ты, брат, прыткий. Не все сразу. Поживем — увидим. А пока давай в роту выздоравливающих.
* * *
Рота выздоравливающих размещалась в соседнем доме. Но это только одно название: рота. На самом деле не было никакого подразделения. Около двадцати легко раненных и при этом самых свежих. На всех — один военфельдшер, чуть ли ни семидесятилетний лейтенант Петушков. Маленький, сухонький, с огромнейшей кобурой на боку. Плечи у него обвислые, спина согнута в дугу, и от этого он кажется еще меньшим. Перед лейтенантом — санитар. Молодой, ладный и крепкий. Наверное, он в чем-то провинился. Военфельдшер отчитывает его тихо и сердито, но, заметив Груздева, повышает голос: — Ты как стоишь? Никакой выправки. И неожиданно предлагает: — Стань так, как я стою! Санитар подмигивает Груздеву, вытягивает вперед плечи, горбит спину и всем своим видом показывает, что он бы и рад быть похожим на командира роты, но это у него — видит бог — не получается. А лейтенант настаивает: — Стань так, как я стою! Но в голосе нет злости. Сердитость напускная, какая бывает только у добродушных стариков. И это трогает Груздева, и он вскидывает к виску руку, четко докладывает: — Старший сержант Груздев прибыл в ваше распоряжение. — Разведчик? — спрашивает лейтенант, оглядывая не столько самого Груздева, сколько его белый маскхалат. — Разведчик. И повторяет: — Прибыл в ваше распоряжение, товарищ лейтенант. Наверное, это нравится старику, он неожиданно выпрямляется и победоносно смотрит на санитара, как бы говоря: «Далеко тебе до этого парня». И снова сгорбившись и, наверное, тут же забыв про санитара, говорит Груздеву: — Ты это вот что... Будешь у меня старшим... — Так я ж не надолго, товарищ лейтенант. — А тут никто не задерживается. По всей Польше свои роты оставляем. Груздев не понял: — Какие роты, товарищ лейтенант? — Свои. Транспорта не хватает. Увезти с собой не можем. Вот и оставляем. Завтракал? — Так точно. — Ну, ты это вот что, располагайся. — Мне бы, товарищ лейтенант, надо навестить землячку, здесь она... — А ты навести, — соглашается лейтенант, ни о чем не спрашивая, и тут же идет к воротам. Санитар кричит ему вслед: — Анисим Петрович, а вы сами-то завтракали? Лейтенант не отзывается, машет рукой, словно говорит: «А это не твое дело», и, сгорбившись еще сильнее, выходит на улицу. Груздев сухо замечает: — Ну и дисциплина у тебя, санитар. Посмотреть на твою стать, так... Парень обижается: — Какой я санитар! По несчастью. Сперва раненым был, лечили тут, а потом братом-сестрой сделали. Нет у них такого права. Прошу, чтобы в часть отправили, а они держат. Анисим Петрович обещал помочь, да пока ничего... А ты из полковой? — Из нее. — Я тоже. Только из другой дивизии. В ваш медсанбат случайно занесло. Груздев другими глазами смотрит на парня. — В разведке давно? — Считай, год. — Как твоя фамилия? — Сидоренко. — Так не вешай головы. Вместе отсюда уйдем. Парень оживляется: — А как? — Сходим к начальству. Подожди немного. В наш полк пойдешь? — В любой. Лишь бы на передок. И так уже сколько каши зря съел. — Тут тоже кому-то надо. На войне, брат, не выбирают. Ты санинструктора Краеву знаешь? — Это какая же? Груздев не знает, что сказать. По улице идет не то строй, не то толпа поляков. Полушубки, широкие и короткие пальто, фуражки с наушниками. За спинами мешки. — Чего это они? — В польское войско. В каждом городке вот так. Крепко им насолил Гитлер. Валом идут в армию. А Краеву я, кажись, знаю. Это не та, что на эвакуации? — Она. — Такая всегда серьезная? — Раньше была другая. — Землячка? Это ты про нее? Машины ихней что-то не заметил. Видать, в госпиталь пошла. Мы сюда, а она в госпиталь. На том автобусе тяжелых возят. Должно быть, скоро вернется. Да я вот узнаю.
* * *
До самого вечера простоял Груздев во дворе, глядя на дорогу. По автостраде катили грузовики и повозки, громыхали на бетонных плитах танки и самоходки, а санитарный автобус все не появлялся. Было уже совсем темно, когда к нему подошел Сидоренко: — Тебя военфельдшер спрашивает. Нет, не Анисим Петрович, а лейтенант Тюльпанова. Пойдем. Тюльпанова вышла из операционной в халате. Теперь она казалась совсем тоненькой. — Знаете, Толя, должна вас огорчить. Только не пугайтесь, ничего серьезного. Сейчас пришел «студебеккер» — в госпиталь на нем ездили. Так вот, санинструктор говорит, что автобус наш сломался — что-то с мотором там. Короче говоря, Оля сегодня не вернется. Они заночевали в городке — километров сорок отсюда. Завтра приедут.
* * *
А на следующий день... Еще на рассвете медсанбат свернулся и двинулся на запад. Остановились в городке, который мало чем отличался от многих других, виденных Груздевым за время наступления. Такие же неширокие улицы, островерхие башни и башенки, флаги на домах — белые с красным. Как и накануне, Груздев не уходил от дороги. Теперь все в нем жило ожиданием. Каждая новая машина, которая показывалась на автостраде, заставляла сердце биться сильнее. А мысли, они все время были с нею, с Олей. Но странно, он совсем не вспоминал прошлого, точно там ничего не было. Оля виделась ему в шинели, в военной ушанке. На плечах погоны. Вот она выходит из машины, вот идет к нему навстречу, вот протягивает руки... Глаза улыбаются. Милые, зеленые-зеленые. Он слышит ее голос — чистый, звонкий... Она говорит... Что она говорит? Это было настоящее, и оно сразу же уводило в будущее. Не в завтрашний день, а в то, что наступит потом. Но почему-то и там Оля была в шинели. И обнаружив это, Груздев удивился. Себя он тоже видел в шинели. Только уже без автомата. — Груздев? Он обернулся. Рядом с ним стоял лейтенант, командир взвода автоматчиков из полковой роты. У него перевязана голова, поверх бинта чудом держится шапка. — Салют, Груздев. Лейтенант хотел улыбнуться и только скривился от боли. — Где тут лечат? Бинт присох, мозги набекрень. И вообще горького хочется. У тебя спирта нет? — Нету. Но можно поискать. Вы сходите на перевязку — это вот в том доме, а я... — Поищи, Груздев, поищи. Повод есть выпить. Он прикрыл глаза, наверное, пережидая боль, и не поднимая головы, тихо сказал: — Саню наповал. — Какого? Лейтенант, наверное, не расслышал: — Подумать только! Саню... В школе, в училище, в резерве, в полку — везде были вместе. А тут врозь... Нету больше Сани... Семиренко. Груздев обеими руками сдавил ему плечи. Левая ладонь отозвалась болью, но он не опустил ее, а сжал в кулак, сжал так, что на повязке проступилакровь.
* * *
Он действовал, как в бою. Мысли совершали свой стремительный круговорот где-то там, в глубинах сознания, а на поверхность выносились, обретая словесную оболочку, только решения. Короткие и четкие. Прежде всего — к Анисиму Петровичу. — Я должен вернуться в полк. — Это если вам позволят. Груздев не спорил, не уговаривал. Требовал: — Выписывайте. — Ну?! Это прозвучало насмешливо. Сейчас лейтенант рассердится, махнет рукой и уйдет: не раз слышал такие разговоры. Но он все стоял и смотрел на Груздева серьезно и спокойно, словно ждал еще каких-то слов. И Груздев заговорил: — Вчера погиб командир. Заменить не так-то легко. Особенно сейчас, в наступлении. Я должен... В Германию входим. Лейтенант слушал и кивал головой. — Германия. А как же рука? — Вы посмотрите, она уже... — Германия... Главный твой козырь, разведчик, не в этом. Неожиданно выпрямился: — Пойдем в перевязочную. И пока шли, старый фельдшер говорил, как бы размышляя вслух: — Германия... Век бы ее не видать. Не в ней дело. И через несколько шагов: — Германия близко, Россия — далеко... А люди — вот они, все тут... В перевязочной дежурила Тюльпанова. Ее маленькие руки были подвижными и ловкими. Она наклонилась, и прядка волос упала ей на лоб. Светлая, легкая, такая же, как у... Груздев отвернулся: ничего, Оля, ничего. Так надо, так надо. А Тюльпанова уже сняла повязку. — Рана хорошая... Чистая. Вот как у нас! Через недельку и повязку можно будет снять. Анисим Петрович из-под кустистых бровей стрельнул глазами в Груздева и ничего не сказал. А когда вышли, остановил его. — Подожди. Вернулся через несколько минут, протянул пакет. — Возьми. Тут мазь и бинты. Сделаешь перевязку послезавтра. Груздев положил пакет за пазуху, вытянулся: — Спасибо, товарищ лейтенант. Старик сгорбился и не спеша пошел к калитке: — Еще неизвестно, кто кого должен благодарить. Груздев опередил его. — Но это не все. Выпишите Сидоренко. Он разведчик и уедет со мной. Если нужно, я схожу к начальству. Лейтенант, не останавливаясь, махнул рукой. — Бери. Еще через несколько минут Груздев снова пришел в перевязочную: — Передайте этот сверток Краевой. В нем мои письма. За всю войну. Ей написаны. И этот цветок... Тюльпанова щурилась, рассматривая не столько сверток, сколько розу, и еще не понимая, что это значит, спросила: — А вы сами, Толя. — Уезжаю в полк. Круто повернулся, шагнул к двери.
23
Дорога подобна книге. Что ни километр, то новая страница. Умей только читать. Но эта книга может быть длинной и короткой, веселой и трагичной. Одна насквозь пронизана солнечным теплом, и оно согревает, мягкой волной омывает сердце. У другой совсем иное дыхание: тяжелое, прерывистое, как у человека, который идет сквозь непроглядный и сырой туман. Ему что-то видится впереди — зовущее и сильное. И он идет, и его может остановить только смерть. На той военной дороге она была ненасытной. Валила налево и направо. Дорога и книга... Кто-то успевал прочесть только первые страницы. Кто-то продвигался чуть дальше. Кто-то... А другие шли и шли. И становились сильнее. Шли! Верные памяти павших, верные солдатскому братству, верные самому святому — Родине. Дорога и книга... Где кончалось одно и начиналось другое?.. А в общем это была жизнь — суровая, часто подвластная инстинктам и всегда освященная высшими человеческими чувствами. — Товарищ майор, теперь, наверное, до самого Берлина уже не остановимся? Это спрашивает Сидоренко. У него широко развернуты плечи, с лица не сходит радостное оживление. Майор — на переднем сиденьи, рядом с шофером. Он поворачивается и смотрит на Груздева, потом на Сидоренко. Взгляд у него усталый, но где-то в самых зрачках тоже веселые искорки. — А что, может, и до Берлина. Смеется и даже подмигивает. Наверное, он офицер связи из какого-то большого штаба. Ехал на виллисе. Пообещал довезти их до самого полка. Конечно, он знает многое. — Хорошо было бы вот так, прямо на машине. Снова смеется. Сидоренко чувствует какой-то подвох и улыбается сдержанно, как бы давая почувствовать, что он понимает шутку. И майор это оценивает. Уже серьезно он говорит: — Хорошо, конечно. Да только, наверное, сразу не получится. По Одеру у них заранее подготовлен рубеж. Однако еще посмотрим. Дойдем — увидим. Машина резко тормозит, и майор отворачивается, смотрит вперед. Груздев уже давно заметил повозку, которая стоит прямо посреди дороги. Не повозка, а бричка. Ящик, разрисованный черно-желтыми клетками, как шахматная доска, завален на бок, одно из задних колес сломано. Над бричкой — брезентовая будка. В ее открытом треугольнике видны женские лица. Возле лошадей — краснолицый толстый старик. Смотрит исподлобья, с откровенной неприязнью. И бричка и старик промелькнули и остались позади, а Груздев все не мог забыть этого взгляда. Майор сказал: — Старый бюргер. Уже знает, что жителей мы не трогаем, и вот вам полная откровенность. — Вы думаете, что это немец? — Да. Их тут немало. Обживали польские земли. Боятся теперь: отвечать придется. Да и Геббельс их запугал: русские, мол, на корню всех вырежут. На днях видел их газеты. Лозунги там очень любопытные: «Победа или Сибирь!», «От русских не жди пощады!» — Значит, на Одере? — переспрашивает Сидоренко. — Наиболее вероятно, что там. Рубеж выгодный, да и на карту теперь они все поставят. Сидоренко откидывается на жесткую спинку сиденья: — Посмотрим. За этим словом совсем другое: «Что ж, бои будут. Но нам не привыкать!» А привыкать надо. Каждый раз сначала. Сидоренко, наверное, забыл сейчас и о дороге, и о майоре, и о нем, Груздеве. Смотрит куда-то вдаль и видит... Что он видит сейчас? У него неуловимо изменилось лицо: то ли напряглись мышцы, то ли тени проступили у глаз. Привыкать надо. Каждый раз. Но если ты уже был на переднем крае, все делается быстрее. Тебе помогает опыт. И все-таки... Человек есть человек. Он рожден для того, чтобы любить жизнь, вдыхать запахи солнца, травы, леса, земли... Полной грудью, легко, свободно. Вдыхать, зная, что у него впереди годы и десятилетия. Впрочем, и там когда-то приходит... это. Но в той обычной жизни о нем не думают. И особенно в начале пути. Оно далеко-далеко, просто не верится, что когда-то с тобой это случится. Но здесь... Оно всегда рядом. Это видишь каждый день. А жизнь... Жизнь любишь еще больше. Тут ты не всегда замечаешь запахи солнца, травы, леса, земли. Но когда чувствуешь их, они кажутся до болезненности острыми. И пусть вместе с ними к тебе не приходит ощущение полноты жизни и радости бытия. Такое здесь невозможно. Но тут ты знаешь им настоящую цену. Видишь за ними всю жизнь. Вначале только свою... Потом границы бытия раздвигаются. Ты сливаешься с теми, кто вместе с тобою. У тебя с ними все общее. И ты видишь жизнь иную — нечто целое и большое, — в которой и ты. А рядом — это... Оно тут же. И в тебе закипает злость. Она сосредоточивает твои силы в одном направлении, наполняет грудь тем тяжелым чувством, которое заставляет твердеть руки и нетерпеливо ждать встречи с этим. Ведь это здесь облечено в плоть. Смерть предстает в образе одетого в мундир и вооруженного до зубов врага. Ты уже видишь его, Сидоренко? Передо мною он всегда. А у нас с тобою одна дорога. Думай, думай, солдат. И смотри, смотри... Вот показалась еще одна не наша бричка. На таких же колесах. И тоже в шахматную клетку. Но эта повернута дышлом на восток. Они возвращаются. Значит, поняли. Они поймут. Ты заметил, Сидоренко? Ну, отзовись, солдат. Откликается: — Товарищ майор, а что там у союзников? — В Арденнах? — Да, на втором фронте. — Оборонительные бои. И это значит, что нам надо идти вперед быстрее. — Торопимся. Германия уже завиднелась. — Завтра должны перейти границу. Завтра. Правой рукой Груздев притрагивается к повязке. Если придавишь, болит. А так? Ничего, вроде и нет никакой раны. Что там сейчас, во взводе? Старшим, наверное, Алябьев. Больше некому. А ты, Оля, должна понять меня. Тут надо так. Он парень надежный, этот Алябьев, крепкий. Только знаешь, он... Ты не торопись, не торопись, Алябьев. Соображай, что к чему. Где головной дозор? Дорога, говоришь, хорошо просматривается? А что в лесу? Тебе ж не видно. Подойдешь, а они с боку и секанут. Выдвинь, выдвинь дозор! Теперь ты, Оля, поняла, почему мне туда надо? И опять же... Германия. — Приехали! Заснул? Груздев открыл глаза. Машина стояла на дороге, а рядом, в кювете, задрав ноги, лежали стрелки, и над ними плыл махорочный дымок. Как видно, привал только начался. В стороне в группе солдат сидел парторг полка капитан Михеев. Расстегнутый на груди широкий белый полушубок, мягкий, с хрипотцой голос. Все, как было прежде. И Груздеву сразу стало легко и тепло. И он приостановился, козырнул капитану и солдатам. Михеев кивнул ему, словно и не удивился, что Груздев так быстро вернулся в полк. Глядя на разведчика и как бы обращаясь не только к стрелкам, но и к нему, сказал: — До границы тридцать километров. А там фашистская Германия. Теперь уже твердо можно сказать, что она доживает последние дни. Народ немецкий останется, а этой гитлеровской Германии уже не будет.
24
С пасмурного неба негусто сыплет мокрый снег. Дорога стала скользкой, но они идут все быстрей и быстрей. Где-то, совсем близко, старая граница. Теперь она, наверное, ничем не обозначена. Но какое это имеет значение! Через час они наверняка будут уже там. На той земле, которой и название найти трудно. Она проклята людьми ближних и дальних стран. И, наверное, ее долго будут поминать недобрым словом старики, дети, матери, жены и солдаты. Дорога выводит разведчиков на дамбу. Слева мокнет, раскисает в желтых мочаках низина. Голая, пятнистая. Может, уже она, Германия? Справа, по суходолу, темнеют редкие, будто измятые кусты. Но это восток. Там Польша. Низина уходит вдаль и сливается с черным небом. Алябьев не выдерживает: — Неужели так вот и войдем? — Как? — Без выстрела. Груздев смеется: — Посмотрим. Ищет глазами Сидоренко. Он впереди, в головном дозоре, в паре с Булавиным. Дамба делает крутой поворот. Теперь низина с обеих сторон. От нее поднимаются тяжелые испарения. Да, это и есть Германия. И вон сквозь мглу уже проступило первое немецкое село. Вперед, славяне, вперед! Но почему головной дозор сошел с дамбы? Груздев останавливается. На дороге что-то чернеет, как будто там провал. Наверное, взорванный мосток. Он ждет. Дозорных не видно. Но вот на дамбе показывается Булавин. Не успев выпрямиться, он взмахивает рукой: вижу противника. Тотчас мокрую снежную мешанину рассекает длинная автоматная очередь. Посвиста пуль не слышно. Они ложатся где-то впереди, кажется, слева. Груздев негромко командует: — За мной! По правому откосу дамбы он добегает до провала. В самом деле, мосток. Видно, что взорвали недавно. Кое-где еще чернеет земля. Поднимается наверх, к Булавину и Сидоренко. Они лежат у самой кромки. — Пьяный или рехнулся, — говорит Булавин. — Видишь! Возле крайних домов села, прямо посреди дороги стоит в шинели нараспашку немец и с живота стреляет из автомата. Вот он вытащил пустой магазин, посмотрел на него и неожиданно отбросил в сторону. Вставил новый, сделал два шага. Кто-то крикнул: — Густав, цурюк! Но немец и не думает идти назад. Делает еще несколько шагов и снова стреляет. Груздев придвигает автомат. Подсовывает левую ладонь под диск и отдергивает ее: больно. Алябьев толкает его плечом: — Подожди. Я его сейчас... Немец упал на бок, не выпуская из рук автомата. Кто-то крикнул: — Густав! Густав! Крик этот потонул в густой дроби пулеметных очередей. Стреляли по всей линии обороны. Она тянулась вдоль крайней улицы, слева от дамбы, и была неширокой. Немцев — не больше роты. Груздев посмотрел назад. Полк был еще за поворотом. Значит, стреляют вслепую. Все, наверное, такие же пьяные, как и тот, что лежит на дороге. Но может быть... Алябьев сказал: — Их надо обойти справа. Булавин осмотрительно заметил: — А если и там немцы? — Окопы были бы. — Но их не видно и слева. Считай, почти сутки снег валит. Груздев глянул на Булавина. А если не считать? Бой не может идти по законам бухгалтерии. Таблица умножения тут не применима. Справа немцев нет. Это могла быть интуиция. Весь его опыт, сложная, все учитывающая работа мысли. Там их нет. Значит... Но тут же он остановил себя: почему дорога прикрыта только с одной стороны? Это не похоже на немцев. Они не сделают такой ошибки. Алябьев рассуждал вслух: — Справа их нет. Они могли нас обстрелять, когда мы шли по откосу. Теперь бы тоже не выдержали. Стрельба смолкла. Опомнились? Нет, они не так уж пьяны. Их зажег этот... как его? Густав. А теперь... Груздев принял решение. — Сидоренко! Спускаешься в низину и обозначаешь ракетами левый фланг. Да смотри, идешь не в полный рост — перебежками. Он уже заметил, что бывший санитар из тех ребят, которые, если идут на виду у всех, — не пригибаются. Им можно поручить все, но нужно и беречь. В таких ситуациях надо приказывать. — Алябьев! Ты попробуй справа. Далеко не забирайся. Он снова посмотрел назад. Полка все не видно. Снег повалил чаще. Что ж, это совсем неплохо. А ротам все-таки лучше всего развернуться еще за поворотом. Как там у Сидоренко? Снег лепил еще гуще. Мокрый, разлапистый, он все плотнее заслонял низину. Сидоренко уже не различишь в этой белой сумятице. Нет, кажется, что-то мелькнуло. Да, это он. Вскочил, перебежал и снова упал. — Старшой! Все понятно. Алябьев стоит внизу, в провале, и обжимает руками вначале бедра, потом икры. Со штанин течет черная вода. — Справа никого нет — там болото. Под снегом трясина. В низине вспыхивает ракета. Еще одна. Еще. Молодец Сидоренко! Груздев вскидывает ракетницу. В зеленом свете он видит бледное лицо Алябьева. У сержанта трясется нижняя челюсть. Замерз. — У кого есть спирт? Груздев закладывает новый ракетный патрон. Булавин сползает вниз, протягивает Алябьеву флягу. А снег все лепит и лепит. Стрельба возобновляется. Но на этот раз она скупая, расчетливая. Немцы прощупывают низину. Вот теперь все абсолютно ясно. Если справа болото, атаковать придется в лоб.
...Они наблюдают за дорогой и ждут. Время от времени Груздев посылает в небо ракету. Вспыхивает и там, в низине. И в самом деле, молодец этот Сидоренко. Снегопад вдруг обрывается. Точно его сдуло шквалом. — Идут! Наши... По низине скорым шагом движется цепь. — Рота автоматчиков. Алябьев почему-то говорит шепотом. Губы у него совсем синие. Груздев и сам видит, что это полковая рота. Цепь ровная, строгая, как на учениях. Немцы неожиданно прекращают стрельбу. Решили подпустить поближе и ударить в упор. Теперь все дело в том, кто раньше откроет огонь. А автоматчики уже поравнялись с мостком и, не меняя шага, идут дальше. Без выстрела. В пяти — шести шагах друг от друга. Четкой, правильно изломанной линией. Много атак перевидел Груздев, но эта... Может быть, раньше он не замечал? Нет, эта действительно особенная. Как они идут! На окраине села нервно рванул тишину пулемет. Но автоматчики шли все так же стройно, неотвратимо, приближаясь к линии немецких окопов. Алябьев вскочил. Смерзшаяся рубашка загремела на нем, как будто была сшита из жести: — Ну, огонь же, огонь! И оно началось: трру-трру, трру-трру... По всей цепи, с короткими интервалами. Часто-часто. Трру-трру, трру-трру... Шла не рота. Нет, это была не рота, — вся армия с ее неукротимым натиском. — Немцы драпают! Алябьев кричал, но казалось, что он по-прежнему говорит шепотом. Груздев встал: — Братцы! Вот она, Германия! Это вырвалось из самого сердца. — За мной, славяне! Вперед! Лопались гранаты, трещали пепеша и катился по земле исторгнутый из глубины души крик: — Урраа-а-а-а!!!
25
Уже в сумерках они снова вышли на автостраду и заняли еще один городок. Небо прояснилось, в светлом полумраке на домах никли в безветрии белые флаги. Большие, не менее двух метров в длину. Один из них свесился к самой мостовой. Алябьев пощупал его руками: — Браты, а ведь это кроватное покрывало. Вот даже кружево. Они остановились на ночевку в большом мрачном доме. Как всегда, это крайняя улица. За каменной изгородью дорога, по которой полк вошел в этот городок. Где-то по соседству штаб полка. Со странным чувством входил Груздев в этот первый немецкий дом. Перед порогом он остановился, глубоко вдохнул пахнущий морозом, отфильтрованный холодом воздух, как если бы там, за дверью, его ждало нечто душное и нечистое. Алябьев, который уже побывал в доме, сообщил: — Старуха, молодка и девчонка-малолетка. Больше никого. Бабка трясется, пани, или как тут их — фрау! — ходит на полусогнутых. Только малолетка чувствует себя человеком. Запросто пошла к Бухгалтеру на руки и уже рассказала, что маму зовут Ильзой, ее — Гретхен и ей «фюнф яре». Булавин тут же и высчитал, что папаша ушел на фронт в аккурат в сорок первом. Груздев ничего не сказал и, сам не зная почему, отошел от двери. Наверное, этот темный и мрачный дом светился когда-то огнями и в нем горланили песни-марши, звенели бокалами. Может быть, вот через этот порог перешагнул тот самый немец... Вилли Мюллер. Не зная зачем, Груздев подошел к обозной бричке взвода. Притронулся к своему вещевому мешку, постучал ногой по колесу. Взгляд упал на большой угловатый предмет, лежащий в задке брички и покрытый плащ-палаткой. — Что это? Ездовой, хлопотавший возле лошадей и невидимый в тени, ответил: — То, товарищ старший сержант, ящик с сушеным хлебом. Трофейный. Тут склад на пути попался, так я взял. Глядишь, пригодится. Груздев отошел от брички, закурил. В дом идти все-таки надо. Но он остановился возле каменной изгороди, посмотрел на дорогу, круто спускающуюся от леса к городу. Там, на самом верху, прямо на полотне автострады, что-то чернело. — Чего это? Ездовой, довольный тем, что Груздев не выругал его за ящик — это чувствовалось по голосу, — словоохотливо заговорил: — А то пулеметная тачанка, товарищ старший сержант. Она обломалась — передок развалился, так ее и оставили там. Из первого батальона. Тут вот ходили, искали повозку подходящую. А возле пулемета у них младший лейтенант да ездовой. Ждут, значит. Через этот порог все-таки надо переступить, надо понять... И он вошел в дом. В комнатах был полумрак — горели какие-то каптюшки, — но Груздев сразу рассмотрел и старуху, которая сидела в кресле, положив большие узловатые руки на колени, и молодую женщину с худым бесцветным лицом. Наверное, это и есть фрау Ильза. Он машинально сказал: — Добрый вечер. И прибавил по-немецки: — Гутен абенд. И тут же отметил, что дом совсем не такой, каким он представился ему во дворе. Что-то, чего он не мог понять, было иным и неожиданным. Старуха закивала головой и все никак не могла остановиться. Фрау Ильза — она говорила очень быстро — произнесла длинную фразу. Он ничего не понял и еще раз посмотрел на старуху. Из глубины дома слышался детский смех и голос Булавина: «Грета, понимаешь, это сахар? Сказать по-немецки — цукор. Ферштеен?» Старуха мелко трясла головой. Наверное, это нервный тик. А руки — большие, узловатые — все так же тяжело лежали на коленях. Фрау указала на стул, как бы приглашая его сесть. Но он стоял. И тогда она снова заговорила. По-прежнему быстро. И неожиданно улыбнулась. Груздев опять ничего не понимал и только заметил: улыбка была униженной, словно фрау извинялась за что-то. Подбирая слова, он попросил ее говорить медленно и раздельно. Но в это время из соседней комнаты вышел Алябьев: — А знаешь, старшой, бедность несусветная. Выходит, что у них не все одинаковые. Мы тут кое-какие справочки навели — у девчушки: кормятся... этой самой... брюквой и эрзац-хлебом не то с опилками, не то еще с чем-то непотребным. А обстановка — сам смотри. Наверное, все проели. Только теперь Груздев понял, почему дом произвел на него такое впечатление. Комната была, по сути дела, пуста. Ободранное кресло, в котором сидела старуха, стул да деревянная кровать, почерневшая от времени. Ильза что-то объясняла им. Они стали переводить вдвоем. Фрау говорила: «Вам, наверное, не нравится стул, но я не могу предложить другого. Больше ничего нет. Если хотите, я переведу эту старую женщину на ее кровать и вы можете сесть в кресло. Но она очень больна, эта женщина. Она много перенесла в своей жизни. Ее муж убит еще в ту войну, при кайзере. Старший сын умер в концентрационном лагере, а два других — один из них мой муж — погибли на Восточном фронте. Они были близнецами и находились вместе. Их убила ваша катюша...» Слезы потекли из ее глаз, и она умолкла, повернула лицо так, чтобы его не видела старуха, потом отошла за ее спину и оттуда сказала: «Я не должна ее волновать... С тех пор, как с фронта пришла печальная весть, она не может ходить и ничего не слышит, но она все видит...» Груздев, не узнавая своего голоса, попросил Алябьева: — Скажи ей что-нибудь, пусть не плачет. Алябьев криво усмехнулся — ему тоже было не по себе: — Но ты можешь сделать это лучше. Вдвоем они стали сочинять нужную фразу, и Ильза их сразу поняла и сказала: «Да, слезами, конечно, ничему не поможешь, кто погиб — того уже не вернешь, но это не забывается. Вы должны нас понять. Война приносила в этот дом только горе... Но вы извините меня, вам надо отдохнуть». В комнату вбежала девочка. Маленькая, худенькая. Под глазами мешочки — отеки. Груздев круто повернулся к двери: — Пойдем, Алябьев, там у нас есть ящик с сушеным хлебом. Отдадим... Он не договорил, потому что где-то совсем близко, прямо за стеной, часто, скороговоркой заговорили немецкие автоматы. Груздев крикнул: «Взвод, в ружье!» и выскочил во двор. Скачущий свет ракет рвал на части темное небо. Пули вызванивали на каменной изгороди. Горячая, желто-зеленая трасса с треском пронеслась перед самым лицом и погасла, впившись в стену дома. Стреляли из леса. Выходит, что немцы шли вслед за полком. Подбежав к самой изгороди, Груздев обнаружил, что линия огня довольно широкая. Она уже пересекла дорогу и протянулась далеко по склону. Пляшущие огни выстрелов быстро приближались. — Взвод, влево развернись! Груздев положил автомат на камни и бил с упора. — Сидоренко, ракету! В ослепительно ярком свете он, кажется, увидел даже лица, у кого-то блеснули очки. Надо целиться пониже. Они идут по склону и наполовину скрыты тенью. Теперь нужно длинными очередями. Вот так... Веером! Теперь гранату... Но они, кажется, остановились. — Сидоренко, ракету! Они уходят в сторону. Какие сообразительные! Поняли: раз Иваны заняли город, их оттуда уже не выбить. Поняли! Но они забывают: полк пришел сюда не для того, чтобы занимать города. Главное — уничтожить врага. Если он не сдается, его уничтожают. Огни выстрелов отодвигаются вправо и отдаляются. Чтобы уйти на запад, немцы обтекают город. У них нет другого выхода. По двору молча бегут стрелки. На перехват. Но, кажется, немцам уже преградили дорогу автоматчики. Треск пепеша катится по земле гудящей волной. Ах, вот в чем дело: стрелки отсекают немцев с востока. Сейчас кольцо замкнется. Но надо посмотреть, что в лесу. Если там остались немцы, они могут ударить стрелкам в тыл. Груздев выводит разведчиков на дорогу. Из соседнего двора выбегают два человека. Один вырывается вперед: — На бугру наша тачанка. Там младший лейтенант и ездовой... Взвод идет цепью, развернувшись влево. Груздев прощупывает автоматной очередью опушку леса. Никакого ответа, только эхо тихо шумит меж могучих стволов сосен. Они прочесывают край леса и выходят на дорогу. Возле тачанки безмолвно толкутся пулеметчики. Их уже не двое — наверное, тут весь взвод. И все молчат. Светят фонариками и ничего не говорят. А командир... Младший лейтенант лежит на земле. Возле самых колес раскинул руки усатый ездовой. Даже у мертвого усы у него закручены в стрелку. Но на него никто не смотрит. Убит и убит. А младший лейтенант... — Чего это у него с головой? Пулеметчики молчат. Груздев включает фонарик. Смотрит и не может понять. Голова, начиная ото лба, оголена и ослепительно белая, только кое-где алеют капли крови. И тут он замечает, что рядом на земле лежат смятым комом темные от крови волосы. Какое-то слово всплывает из глубины памяти. Страшное и такое же дикое, как и времена, в которые им пользовались. Первым произносит его Лукашов: — Оскальпировали. Они его оскальпировали. И спрашивает, как спрашивал худенький связной в лесу возле Вислы: — Разве это люди? Человек такое сделает?
Возле дома Алябьев тихо говорит Груздеву: — Они такое... А мы с тобой, старшой, развели тут... Груздев резко обрывает: — Не путай! Те немцы — одно, эти — другое. Сворачивает к повозке и вытаскивает из-под плащ-палатки ящик. Алябьев хочет что-то сказать, но не решается. Поднимается на крыльцо и распахивает перед Груздевым дверь. В комнате все тот же полумрак. Старуха по-прежнему сидит в кресле. Только в ней что-то изменилось, а фрау Ильза и Грета... Почему они стоят на коленях? — Что случилось? Груздев спрашивает по-русски и подходит ближе. Голова старухи откинута на плечо, на виске кровь. Фрау Ильза беззвучно плачет. Теперь ей уже не нужно скрывать своих слез: глаза старухи незряче смотрят в стену, и их со страхом разглядывает маленькая девочка Грета. — Что случилось? Он снова спросил по-русски. Фрау Ильза показывает рукой на стену. На треснувшей штукатурке круглое отверстие. Какая-то шальная пуля пробила стену и... Почему какая-то? И почему шальная? Немецкая пуля прошила стену и убила немецкую мать. Груздев ставит на пол ящик. Булавин берет за руку Грету. — Комм гер, Грета. Тебе не надо это видеть. Комм гер. И девочка послушно идет за ним в соседнюю комнату. Но на пороге она оглядывается. Ее мать все так же стоит на коленях и плачет. Совсем беззвучно.
26
В этот день шли по дамбе — их тут оказалось много. Но это лучше, чем идти по лесу. Видно далеко окрест и не нужно быть все время в напряжении, ожидая засады. Алябьев сказал: — А ты добрый. Груздев оглядел его с ног до головы, кивнул. — Я не знал, что ты такой. — Какой? Алябьев пожал плечами. Но Груздев и сам бы не мог сейчас ответить на этот вопрос. Все, что было очень ясным, теперь как бы сдвинулось и смешалось. Главное он видел, скорей всего даже чувствовал. Но в этом надо было разобраться. Все следовало постичь мыслью. Сделать это было нелегко. Настоящее сразу уводило в прошлое. Булавин, шедший позади, отодвинул плечом Алябьева: — Старшой, в последний раз ты когда был дома? Бухгалтер уводил разговор в сторону. — В сорок втором. Но это тоже было прошлое. То самое... И, наверное, Булавин почувствовал. Замолчал, в ритм шагу замахал своими длинными руками. Но он все-таки ждал. И может быть, именно сейчас и нужно было бы рассказать... Глянул на Алябьева, глянул на Булавина. Лица у них за эти последние дни заострились, в глазах — усталость. Но они разделят с ним все. Закон солдатского братства. Разделят. И все-таки ему не станет легче. Когда рассказываешь, облегчаешь душу. Но только на время. Потом боль сдавит сердце с прежней силой. Она может стать общей и все равно будет только твоей. Тебе через это все равно надо пройти. Сделай же так, чтобы не обременять других. Это тоже закон братства.
А станицу он с тех пор не видел. С того пыльного июльского дня. Что было после боя за станицей? Они тогда снова отступили, отходили до самого Терека. Потом были бои под Моздоком. В декабре началось наступление. И снова бои. И так шесть долгих месяцев — день за днем. За это время он не получил ни одного письма. Из дома не ждал. Там были немцы. Но братья тоже молчали. Почему молчали братья? Он писал им несколько раз — знал их полевые почты. Его адрес не менялся. Но они не отзывались. Перед наступлением написал в станицу. Только освободят ее и придет письмо. И Оле писал. Напишет и положит в полевую сумку. В первый раз почтальон назвал его фамилию уже в сорок третьем, когда фронт снова стоял под Таганрогом. Почерк на конверте был незнакомым. Письмо пришло из стансовета, куда он дважды посылал запросы. Совсем короткое, в полстраницы. Короткое и... Он помнит каждую строчку, каждое слово... «Дорогой Анатолий Игнатьевич! Сообщаю вам, что вас постигло большое горе. Ваши братья Федор Игнатьевич и Михаил Игнатьевич погибли в боях за Родину. Об этом мы получили извещения. Агриппины Марковны и Серафимы Ивановны тоже нет в живых — приняли смерть от рук фашистов. А дом ваш немцы сожгли». Со временем он научился воспринимать это холодным умом. А тогда... Тогда он ушел в свою ячейку и ткнулся лицом в бруствер. Он дышал землею, пышущей жаром, и видел только ее — черную, неподатливую. Приникал к ней все плотнее, до боли расплющивая лицо и задыхаясь. Ему казалось, что если он прижмется еще сильнее, то весь растворится в земле и это кончится. Не хватало какого-то совсем маленького усилия. Он напрягал тело, упирался ногами в дно ячейки, но никак не мог преодолеть сопротивление. Земля отталкивала его, будто была живым существом. Наверное, тот день был очень коротким. Письмо пришло утром. А когда Груздев оторвал лицо от земли, то увидел такое же черное, уже ночное небо. Черное, в редких всполохах света ракет. Его окликнул сержант: — Груздев, ты уже здесь? Я искал тебя в блиндаже. В ту пору они стояли в ячейках только по ночам. Утром уходили отсыпаться в блиндажи. — У тебя сколько гранат? — Две. — Сходи в блиндаж и возьми еще пару. Принесли нам два ящика. И он ушел за гранатами. Так началась новая жизнь. Через несколько дней их вывели в ближний тыл. В селе Синявском вместе с ними разместился другой полк, только что снятый с переднего края. В одном из минометчиков Груздев узнал своего одностаничника. Он был на год младше, и в армию его призвали после освобождения станицы от немцев. — Давно на фронте? — спросил Груздев. — А сразу же. На четвертый день мы уже воевали. Даже обмундирования тогда еще не получили, только винтовки. Меня, правда, в минометчики определили. Был подносчиком, а теперь уже наводчик. Парень говорил и говорил, точно боялся, что Груздев его остановит и о чем-то спросит. Но это должно было случиться. — О моих что-нибудь знаешь? — А ты? — Известно, что погибли. — Давай сядем. Отошли к каменной изгороди, сели. — Закуришь? — Рассказывай. — Может, закуришь? — Потом. — В вашем доме поселились два офицера. Это еще в первые дни. Один из них за Симой... Опустил глаза к земле, вздохнул: — В общем, надругался над нею. Она в саду груши собирала, ну а он... Тимофеевну помнишь? Бабку, что напротив вас живет? — Помню. — Она все видела. Да сразу никому не сказала. Испугалась и в дом к себе. И замолчал, пошевелил губами, и совсем тихо: — А Сима в тот день и повесилась. Там же в саду. Груздев встал: — А бабушка? Говори! — Когда сбежались соседи, тут Тимофеевна и сказала бабушке Агриппине. А он, офицер этот, тоже пришел. В руках у бабушки был нож — веревку им резала. Услышала, как все получилось, и бросилась на офицера. Убить не убила — поранила. А бабушку он тут же и застрелил. И заторопился, и тоже встал: — Все, конечно, разбежались — одни бабы были. Он и в других стрелял, только не попал. Потом дом запалил. И опять тихо: — Может, закуришь? — Давай. Молчали. Курили. — А Шуру Крутова помнишь? — Где он? — Вчера убило. Перед тем как уходить нам. Высунулся из-за бруствера — у нас огневые были прямо в первой траншее, — говорит: «Сейчас немцу последнюю припарку сделаю». Дал очередь из автомата, и тут его пулей в голову. Снайпер, должно быть. — Значит, Шура был с вами? — Да. Он же болел воспалением легких. Все лето провалялся. Когда в станице были немцы, тоже лежал. А пришли наши, он в военкомат вместо себя послал на комиссию одного хлопца. Упросил его. Ну и сошло. А сам все время кашлял. Туберкулез у него был. И под самый конец: — А офицера того звали Вилли Мюллер. Это точно. Про других не скажу. Много их у нас было. А этот зверь — Вилли Мюллер. Точно.
— Кажется, потеплело, — сказал Булавин. — Закон природы, — заметил Алябьев. — Потеплело, чувствуешь, старшой? Чувствую, Бухгалтер, чувствую. И не потому, что ослабел мороз. Не потому. Мне тепло от того, что рядом и ты, и Алябьев... И где-то здесь Оля... И еще потому, что мы остались самими собою — здесь, в Германии. Не делаем того, что делали они. И так должно было быть. Но это мысленно. А вслух: — Скоро здесь будет весна. И вот что, Алябьев, дело не только в законах природы. Мы принесли сюда весну. Алябьев рассмеялся: — Я всегда говорил, что ты поэт. — Не в этом дело. Как ты думаешь, зачем мы пришли в Германию? Вопрос был неожиданным, и Алябьев даже приостановился. В глазах еще смешинки, а губы плотно сжались. — Что ж, ответить нетрудно. Но, наверное, ответить было все-таки нелегко, он начал издали: — Каждый из нас думал об этом все три года. Мы сюда шли, чтобы стереть ее с лица земли. — Верно! В глазах Алябьева удивление, губы раздвигает недоверчивая улыбка. А Груздев продолжает: — Вот именно: стереть! Стереть с лица земли гитлеровскую Германию и фашизм. А народ немецкий... останется. Ему, как и другим народам, мы несем... Он не находил наиболее точного слова. Булавин подсказал: — Весну. — Освобождение, понял? Алябьев неожиданно сказал: — А я и не возражаю. Сам до этого дошел. И уточнил: — Глядя на тебя. И опять они шагали по дамбе. Алябьев шел легко, развернув плечи, щеголеватый, подтянутый, словно и не было позади длинного пути и бессонных ночей. Булавин плавно размахивал длинными руками и с высоты своего роста зорко оглядывал степь. И тут же Сидоренко — крепкий, подвижный, так и норовящий быть впереди других — хоть на два шага. Идут, говорят, иногда спорят. Разговоры бывают самыми неожиданными. — А ты сам кем будешь после воины? — это Сидоренко спрашивает у Алябьева. — Пока не загадывал. Скорей всего тем же, кем и был: токарем. Не веришь? — Почему? Серьезная специальность. Алябьев оживился. — Я детдомовец. Потом учился в ремесленном. А там у нас был мастер, ну настоящий профессор. Возьмет заготовку — ржавую, корявую, и говорит: «Вот это есть живое существо. Очень красивое. Только одежонка на нем никудышняя. Ты, Алябьев, должен ее снять и открыть людям красоту. Бери чертежи и действуй». Бывало, запорешь деталь, так он чуть ли не со слезами говорит: «Варвар ты, Алябьев. Взять бы вот да тебе нос состружить! На кого ты был бы похож? Опять же больно. А ему, думаешь, не чувствительно?» И гладит ладонью деталь. Да так ласково, как будто у него в руках котенок. Тонкое, скажу тебе, токарное дело. Пальцы у меня теперь, конечно, загрубели, чуткости в них той нет. Однако ж дело не в руках. Профессор наш говорил: «Токарь, он не столько руками, сколько умом да сердцем работает». Они подходили к степной усадьбе, разбросавшей свои кирпичные постройки у самой дороги. Такие усадьбы здесь называют фольварками. Это новое слово быстро вошло в обиход. Ядро взвода уже поравнялось с жилым домом, когда Сидоренко тихо сказал: — Немцы! Груздев вскинул автомат, бросил быстрый взгляд на дом и увидел за стеклами окон два женских лица. — Эти, что ли? — Они. — Тогда говори точнее: немки. Груздев свернул к воротам: — Зайдем. Может быть, что-нибудь узнаем. Никто не вышел навстречу. Груздев постучал. Не отвечали долго. В доме точно вымерли, — боятся. Груздев постучал еще, на этот раз потише. Послышались шаркающие шаги, скрипнул засов, и дверь распахнулась. В коридоре стоял старик — ветхий и высохший, казалось, чудом державшийся на тонких, согнутых в коленях ногах. В каждой руке у него по бутылке. На них цветные этикетки и покрытые налетом подвальной плесени засургученные пробки. Старик протягивал бутылки и что-то невнятно говорил. Руки у него дрожали. Груздев взял бутылки, поставил их на пол и, обойдя старика — прикоснись к нему и упадет, — быстро пошел в глубину дома. В первой же комнате он увидел светловолосую и тоненькую девушку. Они встретились взглядами. Она испуганно прижалась к углу дивана, закрыла глаза и поднесла ладони к лицу. — Гутен таг, фрейлен. Старик за его спиной снова заговорил — так же неясно и неотчетливо, будто произносил одно длинное слово. Но Груздев почувствовал: он о чем-то просит, не просит, а умоляет. Фрейлен молчала, но теперь она открыла глаза. Сквозь ужас в них проступило любопытство. — Добрый день, девушка. Она повторила вслед за ним: — Де-ву-шка. И неожиданно рассмеялась. Нет, не рассмеялась, — расхохоталась. Скорчившись от смеха, она изогнулась, дотянувшись лицом до своих коленей. И хохотала, хохотала, безудержно, нелепо и страшно. Алябьев из-за спины Груздева сказал: — От этой ничего не узнаешь, она чокнутая. Груздев повернулся к старику: — Дайте ей воды. Вассер. Ферштеен? Вассер! У старика совсем подогнулись ноги и отвисла челюсть. Груздев подхватил его под руки и посадил на диван. А фрейлен все хохотала. Алябьев шепнул: — Пойдем, старшой, отсюда. Горя с ними не оберешься. — Найди воды. Булавин протянул флягу. Груздев отодвинул ее рукой: — Ты что? У тебя же спирт. Из соседней комнаты вышла полнотелая и уже немолодая фрау. Она несла в стакане воду и смотрела на них и с опаской, и с подобострастием. Вслед за нею показалась еще одна фрау, чуть помоложе и очень похожая на эту. Но она смотрела не на них, а на фрейлен, и на лице ее был испуг. И тотчас в комнату вбежала маленькая девочка. Груздев взглянул на нее и вспомнил Грету. Но у этой были тугие розовые щеки. Фрейлен затихла. Старик встал на ноги и закружил по комнате, словно что-то искал. Груздев спросил, давно ли здесь были немецкие солдаты. Ему никто не ответил. И тогда он тронул старика за плечо, как бы останавливая, и, раздельно произнося слова, повторил свой вопрос. Неожиданно ответила фрау, которая вошла в комнату первой: с тех пор, как два месяца назад закончился отпуск у ее племянника Конрада, военных в этом доме не было. По дороге кто-то проходил, но это было не сегодня. Когда именно? Она не может вспомнить. Алябьев выразительно глянул на Груздева: ишь ты, затмило ей память! Толстая немка просто не хочет говорить. А она смотрела на них все так же подобострастно. Груздев хмуро сказал: — Пошли. Не хочет — просить не станем. А заставлять... Мы — русские... И тут его взяла за полу шинели девочка. — Onkel Soldat, wann totet ihr uns? Tante Marta hat gesagt, die Russen werden aus uns Kohe machen[11]. Груздев погладил ее по голове: — Булавин, у тебя, кажется, есть сахар. Дай этой глупышке. Когда они снова вышли на дорогу, Алябьев зло подфутболил голыш. — Вот тебе и жители. Своих не выдают... Но это можно понять, а откуда у них такой страх? Жители... В сущности, старики, женщины да дети. Но и они встречались в населенных пунктах нечасто. Многие дома были брошены и выглядели так, как если бы хозяева впопыхах выскочили на улицу и больше не вернулись. В комнатах царил дух немецкой аккуратности. На деревянных кроватях выровненные старательной рукой перины и пуховые одеяла, поверх них отутюженные кружевные покрывала; в гардеробах — костюмы, развешенные строго во цвету: черный, коричневый, серый, белый; на кухне сверкает чистотой плита, и возле нее в плетеной корзине угольные брикеты... Все находилось на своих местах. Не было только хозяев. Они второпях бросили свои дома и, охваченные паническим страхом, бежали на запад, к Берлину. Делали свое дело стремительность наступления и раздутая до чудовищных размеров, полная гнуснейшего обмана геббельсовская пропаганда. Случалось, что в иных населенных пунктах не оставалось ни одного жителя.
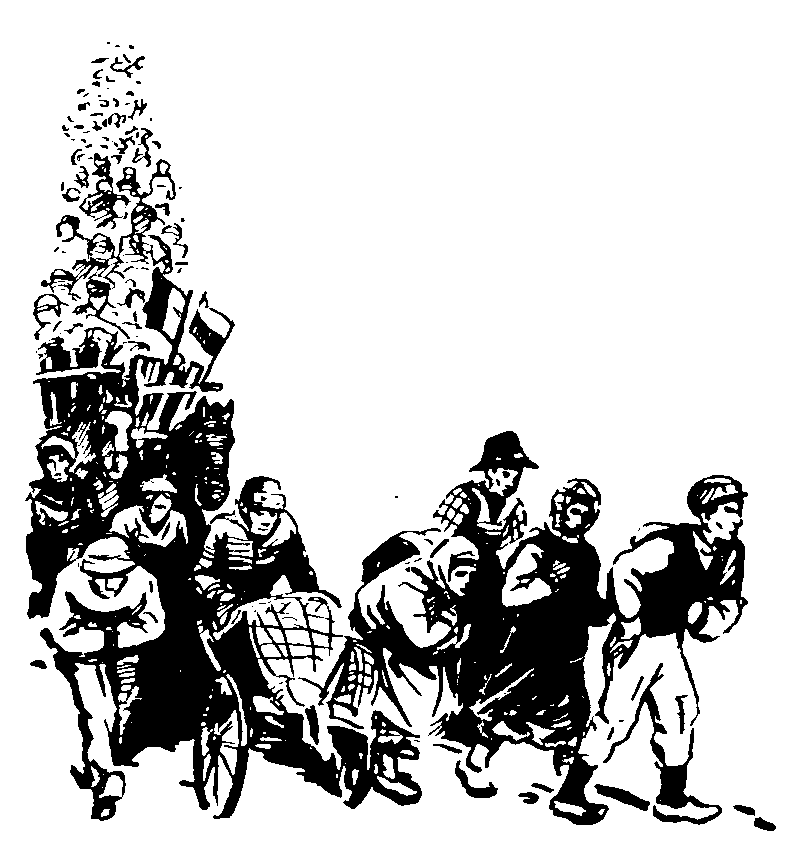
Да, там их не было. Но они все чаще встречались на дорогах. Шли, только уже не на запад, а на восток. В одиночку и группами, целыми толпами. На руках белые повязки. У всех. Если впереди катилась тачка, то на ней флажок. И тоже белый. Их никто не заставлял, но они почему-то решили, что эти знаки должны быть непременно. Своими отдельными компаниями шли другие люди. У них также повязки и флажки. Самых разнообразных цветов. Но эти не шли, а шагали. Улыбались, радостно махали руками. Поляки, французы, бельгийцы, чехи... Говорили наперебой, на различных языках, и самым главным у всех было одно слово. Оно произносилось по-разному, но всегда было самым первым и узнавалось сразу: — Свобода! Это слово таило в себе особенную силу. И когда разведчики слышали его, им хотелось идти еще быстрее. Оно снимало усталость, распирало грудь и звало вперед, туда, где ждали их тысячи, миллионы людей. Слишком долго мыкали люди горе на этой земле, пятнистой от рыжих мочаков, таких рыжих, что их даже снег никак не скроет. Плавно ниспадает, мягко ложится, растет пушистое покрывало и тут же проваливается, проваливается... И пестрит земля гнойниками, словно тело, схваченное коростой. А в сущности земля ни при чем. Она везде одинаковая. Отзывчивая и вечная. Взойдет солнце, и земля, согретая его теплом, сбросит с себя чуждые ей одеяния, и не останется следов, оскверняющих ее лик. И счастливая, нарядится она в пышный весенний убор.
* * *
Прямой, как будто проложенной по бумаге линией уходит вдаль дорога. Широкая, а у горизонта совсем узкая. Два человека на той трассе. В белых маскировочных халатах. С автоматами в руках. Тонкие, гибкие, как молодые дубки. Шагают прямо и прямо. Просторные и помятые рубашки и шаровары скрадывают стройность их тел. Но посмотрите на лица. Молодые-молодые... Обратите внимание на поступь! Твердая, уверенная. Разве что вот глаза... Строгие, много познавшие... Все вокруг видящие. Ко всему готовые. Даже к самому худшему. Упал вниз лицом на твердую, промерзшую дорогу и... Ни боли, ни... Но это последнее, где-то там, в глубине глаз. Оно затаенное, такое, о чем не говорят. А думать... Эту мысль подавляешь всей волей, какая у тебя есть, выжимаешь из сознания... А она нет-нет да и схватит твой мозг, остро вопьется в душу. Тоскливо, наверное, лежать в этой неласковой, чужой, совсем чужой земле. Два человека впереди... Поодаль больше — семь-восемь. Это — ядро взвода. Там веселее. Но это если смотреть из головного дозора. А когда ты идешь в ядре, тебе все кажется другим. Дозоры дозорами, а ты каждую минуту ждешь выстрелов с четырех сторон и ко всему готов. Но кто сказал, что ты пришел сюда умирать? Шагаешь и шагаешь. До самой последней минуты. А эту мысль... Она, как боль. Неясная, глубокая, вроде бы не твоя... Знаешь, что все-таки твоя, и не веришь. Может быть, потому, что слишком много видел. Часто было больно — невмоготу. А глянешь: другим еще хуже. И дышишь, и прячешь свой стон в рукаве шинели да в каменной твердости зубов, на которых трещит не то грубое сукно, не то тугие, как зерна, капли крови. Дорога уходит в лес. Она петляет, и головной дозор теряется между лесных выступов. Груздев приказывает: —Сидоренко и Лукашов, вперед. Пойдете вторым дозором. Поворачивается к остальным: — Перекур. Алябьев подхватывает: — С дремотой? — Пять минут. Смеются, закуривают, по привычке пряча цигарки в ладонь. Никто не садится. Пять минут — не отдых. Только отяжелеют ноги.
Это открылось перед ними неожиданно. Лес расступился, и они увидели... Вдаль и прямо перед ними — уходили два ряда столбов, изломанных в форме буквы S и густо оплетенных колючей проволокой. Вдоль этих рядов с правильными интервалами расставлены колченогие вышки. Лагерь! Такое уже приходилось видеть. За проволокой внешне аккуратные приземистые домики. Издали они кажутся добротными, уютными. А на самом деле — фанерные, сырые, с тяжелым спертым воздухом. Но что происходит там, у ворот? Огромная толпа... И в ней одни женщины. Сквозь многоголосый гомон — он рокочет, точно тугая сердитая волна, — неожиданно прорывается крик. Одинокий, сдавленный, почти нечеловеческий. Он как-то странно обрывается. И гомон мгновенно стихает. Как будто люди чему-то удивились. Дозорные вдруг побежали. Вначале первая пара, потом вторая. Туда, к воротам, где все еще висит непонятная тишина. Толпа неожиданно приходит в движение, выплескивается за ворота. Шумная, оживленная. Гомон голосов снова набирает силу. Но теперь он совсем иной. Да, там только женщины. Машут платками — заметили разведчиков, — торопятся, обгоняют друг друга. Некоторые оглядываются, а потом бегут, словно хотят быстрее уйти от ворот. Что же там произошло? А толпа совсем близко. В ней уже затерялись, растворились дозорные. — Русские! Впереди кареглазая, белозубая девчушка. В руке полушалок, волосы по ветру... Она бросается Груздеву на грудь, и он едва успевает передвинуть автомат за спину. — Риднесенький. И больше ничего не может сказать. И смеется, и плачет, и шепчет что-то непонятное, совсем без слов. Да, это они, русские. Кто-то кричит: «Братики!», кто-то спрашивает: «Из Ростова нет никого?» Но тут же Груздев слышит польские слова и еще какие-то. Где-то рядом громко разговаривает Алябьев: — У нас кого хочешь найдешь. Есть и ростовские, и воронежские, и уральские, и московские... Сейчас из леса выйдут — только выбирайте. А у вас, я вижу, тут настоящий интернационал. А белозубая девушка уже идет с Груздевым рядом, держит за руку и смотрит на него, и смотрит, словно боится, что вот сейчас отвернется и все исчезнет и останется только пустая дорога, да ряды столбов с колючей проволокой... Кто-то рассказывает: — Утром из леса выскочили танки. Я говорю: «Наши». Настя не верит. Потом как закричат: «Звезды на башнях!» А танки не остановились, только бойцы, что сидели на них — в таком же белом, как вы, — руками помахали, к Зонненбургу, должно быть, торопились. Наша псюрня охранная уже сбежала. Мы тогда на дорогу... А никого больше нет... Кто-то звонко говорит: — А я вас сразу увидела. Еще когда нимкенья ногами дрыгала... И тут голоса вдруг обрываются. Через головы женщин Груздев видит ворота. Посреди арки на тонком телефонном кабеле висит человеческое тело... Да, это женщина. На ней военный мундир того нерусского цвета, который хорошо известен каждому солдату. — Кто это? Черноглазая, белозубая дивчина — она все так же держала Груздева за руку — отчетливо говорит: — Ведьма. С рукава мундира вниз на всю толпу слепо смотрит череп, подпертый скрещенными костями. Алябьев спрашивает: — Значит, без суда и следствия? Никто не отвечает. Сбоку появляется Булавин: — Лютой, оказывается, была эта баба. Что-то вроде лагерной надзирательницы. Жрала шнапс и всех истязала, ночью тоже налакалась, утро проспала и удрать не успела. Рассказывают, что несколько человек запорола насмерть. Заговорили сразу все: — Мегера проклятая, с плетью даже во сне не расставалась. — Подол на голове завяжет и бьет. И все между ног целит. — Скольких покалечила! — Маричке оба глаза выбила. Груздев смотрит на них и вдруг замечает: молодые, а лица... без кровинки, худенькие, детские. Алябьев цедит сквозь зубы: — Однако поторопились. И неожиданно спрашивает: — А раньше повесить не могли? Дорога сворачивает влево, к городу. Груздев оглядывается: головная рота уже показалась из леса. Надо спешить. Мимоходом он скользит взглядом по столбам и колючей проволоке. Тяжелая арка отчетливо выделяется на фоне заснеженного поля. Тело немки все так же неподвижно. Тонкого шнура отсюда не видно. Кажется, что земля оттолкнула от себя это страшное тело, а небо не приняло. И оно, вытянувшись палкой, нелепо и противоестественно повисло в воздухе.
27
Где-то впереди, в завьюженной дали, гудели танки, пробиваясь на запад, к Одеру. Стрелковые полки по-прежнему двигались по параллельным дорогам, сбивая заслоны, не давая возможности частям противника, разрезанным танковыми колоннами, опомниться, соединиться, создать линию обороны. В тылу наступающих остались окруженные советскими дивизиями крупные очаги сопротивления — Познань, Шнейдемюль, Лешно и другие. Их многочисленные гарнизоны сопротивлялись яростно и отвлекли немало сил. Но фронт неуклонно и стремительно продвигался на запад. Задача, поставленная перед ним Верховным главнокомандованием, предусматривала выход к Одеру и захват плацдармов на левом берегу реки. В больших штабах, где учитывалась и взвешивалась вся сложная обстановка, ясно представляли пределы возможного. На правом оголившемся фланге широкой полосы прорыва явно назревала угроза. Противник мог нанести удар из Восточной Померании и отрезать части, наступающие на Берлинском направлении. Ему нужно было противопоставить прочный заслон. И это тоже отнимало силы. А полки все шли вперед и вперед. Солдат жил своими наблюдениями: фриц драпает и надо его гнать. Гнать и гнать, а там... — Сколько до Берлина? Еще неделю назад они выверяли расстояние до Германии. Теперь тысячи глаз искали на дорожных таблицах только это слово — Берлин. — Так сколько же до этого чертового логова? — С утра было сто десять. А сейчас посмотрим... Ишь ты... восемьдесят. Значит, тридцать еще отмахали. Вступали в перестрелки, ходили в атаки и снова: — А ну, глянь на столб. По колонне неожиданно катилась команда: — Воздух! Падали в кюветы, переворачивались на спины, упирали в плечи приклады. А над дорогой, на две половины разваливая небо, проносились с грохотом «мессершмитты». Совсем низко. Один за другим. Брили колонну из пулеметов и пушек и под конец, когда выходил боезапас, сыпали на дорогу гильзы. Стрелки вставали, стряхивали с себя снег. — Скажи ты, как в сорок первом. — Малость есть. А все-таки Федот, да не тот. Теперь мы на ихой земле. — Наших чего-то не видно. И смотрели на небо, и прислушивались. Своих самолетов, действительно, не было. — Аэродромы, должно, отстали. Полтысячи километров пройдено. А немец летает теперь из Берлина. И опять шли... Всматривались в леса, следили за дорогой, на ходу стирали с автоматов и винтовок снежную пыль. Что там оно на далеком правом фланге, что на левом, — об этом и разговору нет. Главное — хорошо делать свое дело. Тут и все солдатские заботы и корень окопной мудрости. Не видно своих самолетов — значит, причина тому имеется. А «мессершмитты»... Лучше наблюдай за небом, опять же и винтовка против них оружие: целься поточнее да глаза не закрывай. И еще... Маскируйся. Как? Очень просто. Не на маскхалатах свет клином сошелся. Можно и по-другому укрыться. Небось, учили. А теперь глянь на первую роту... — И когда они успели? — С ночи запаслись. На том складе трофейном, где ты шоколад искал. Тебе захотелось сладкого, а они... — То-то же я дивился: зачем, думаю, они берут простыни, в нашем деле вроде ни к чему. — Соображать надо. С вечера еще «мессеры» летали. Так-то, шоколадник. — А чего ты ругаешься? Было бы хоть за что... Хочешь — на, возьми. Никакого в нем вкусу, одна горькота. — Спасибо. Чужим не пользуемся, особливо немецким. — А как же с этой вот... мануфактурой? — То дело другое. Для военных надобностей. Соображай, шоколадник. — И чего ты учишь? Сам-то тоже не замаскированный. — А мне это и не очень нужно: я, брат, кадровый. Укроюсь так, что переступишь, а не приметишь. — Выдумаешь тоже... — Не веришь? Да раз на учениях, знаешь, что приключилось?! Тебе такое и не снилось. — Ври, послушаем. — А чего врать-то? Было. Вечером случай произошел, в лесу. Замаскировался я это, а тут парочка... Топчутся рядом, вздыхают. Она и говорит: «Давай, Мишенька, сядем. Вот дерево поваленное». И угнездились мне на спину. Целый час, как голубки, ворковали. — И ты... — А я терплю. — Ну, а дальше? — Дальше Мишенька вытаскивает перочинный нож и начинает вырезать на моей спине сердце со стрелой. — Ну? — Опять терплю. — Врешь. — Тут вру. Объявился я перед ними. Она в обморок, а он — отчаянный парень — на меня кидается: «Что ж ты, такой и разэтакий, любовь мою портишь!» Смеются. Старая побаска. Однако все-таки смеются. А на дороге снова: — Воздух! Наутро не узнать колонны. Солдаты в белых накидках. От плеч — до пят. Лошади тоже в белом — только хвосты и головы видны. Глянул назад Алябьев и руками развел: — Прямо тебе рыцари! Булавин подтвердил: — Рыцари и есть.
А еще через день в лица им дохнула сырая и вязкая волна того спертого, неприятного, тепловатого воздуха, который исходит как бы из самой земли, избавляющейся перед своим весенним обновлением от всего наносного и нечистого. Дорога почернела, под ногами хлюпало. За лесом гудел бой. Воздух, серый, словно окрапленный жидкой грязью, вздрагивал от сдвоенных выстрелов танковых пушек. Пулеметы клокотали глухо, словно в упор долбили землю. Объявили привал. Майор Барабаш собрал командиров батальонов и специальных подразделений. Груздев был тут же. В жизни полка начиналась новая полоса, и это чувствовалось по всему. Оно как бы носилось в воздухе и накладывало свой отпечаток на людей. Лицо у майора худое, а массивные плечи опущены, точно придавлены большой тяжестью. — Слушайте приказ. Противник занимает оборону по окраине Кюстрина. Город разделен Одером. На этой стороне жилые кварталы, на той — крепость. Справа и слева захвачены плацдармы. Наши части переправились по льду, — мост у немцев. Мы будем действовать на участке соседа, слева. Задача: расширяя плацдарм, обойти крепость и соединиться с частями, которые действуют на плацдарме справа и идут нам навстречу.
* * *
Через реку уложен настил. Еще прошлой ночью. Бревно к бревну. За день под толстыми кряжами протаяло. К вечеру похолодало, и бревна вмерзли в лед, каждое в своей бороздке. Шли, взяв большую дистанцию между взводами, — переправа все-таки ненадежная. На льду густо чернели воронки. Под ногами потрескивало. — Как же танки? — спросил Булавин. — А ты что, не видел? — Алябьев приостановился, постучал каблуком по бревну. Настил, как живой, качнулся, сбоку в воронке плеснулась вода. — Теперь танкисты будут загорать в лесу, пока мост не отобьем. Серая ночная мгла быстро поглотила правый берег. Левого совсем не видно. Но он был не так уж далеко — метрах в трехстах. Это угадывалось по звукам выстрелов. Плацдарм, в сущности, крошечный. Они были уже на середине реки, когда над головами поперек колонны со звонким треском пронеслась пулеметная трасса. Пули — красные и крупные, как головешки, — рвались в воздухе. — «Собака»? Откуда она тут? Бьет вдоль реки. — Алябьев даже приостановился. Груздев объяснил: — Это из крепости. Там что-то наподобие полуострова. Прочесывает вслепую. Следующая очередь полыхнула далеко впереди. Пули лопались с подвывом, и это действительно было похоже на лай. Стреляла двадцатимиллиметровая, счетверенная зенитная установка, окрещенная в кругу солдат «собакой». — Сколько ж тут до крепости? — Примерно с километр. Мы свернем сейчас влево и пойдем по дуге. Плацдарм тут такой получился. Длинный, узкий и с поворотом. — Значит, без танков, — сказал Булавин, ни к кому не обращаясь. Алябьев подтвердил: — Без них, товарищ ефрейтор. А ты, я вижу, быстро привык. Хотел до самого рейхстага за дядиной железной спиной дотопать. — Привык. Только не к спине, а... к взаимодействию. Уставом предусмотрено, понял? — Как не понять! Дебет — кредит, сальдо — бульдо... Да здесь оно не так, как... Вспыхнула ракета. Груздев увидел высокий и удивительно ровный берег, краем глаза заметил справа неясные очертания крепости. Дрожащий свет еще разливался в воздухе, когда по невысокому небу стремительно покатился вой. Они упали на бревна, и Груздев ощутил грудью всю их промерзлую твердость. Мины легли позади. Настил дрогнул, кряжи сошлись и разошлись, прячась в своих ледяных бороздах. Груздев вскочил: — Броском, вперед! Вторая серия мин легла ближе, но они уже добежали до берега и упали на землю. Перед ними высилась земляная насыпь — дамба. В следующее мгновение они были уже наверху, в неглубокой траншейке. На реке густо рвались мины. Рядом с бревнами и на настиле. Сидоренко вздохнул: — Вот это встреча! Однако ж мы уже за Одером. Стрелки молча выбирались на берег, и только укрывшись в траншейке, разжимали рты: — Шульгин упал в воронку... Я его за руку, а он оскользнулся... Так и не вынырнул. — Своими глазами видел, прямо на спине мина разорвалась. У ротного... Своими глазами... Рядом... — Заметили или так? Должно быть, у них пристреляно. Груздев выбрался из канавы, нашел дорогу. Она пролегала по дамбе и неподалеку круто спускалась по ее косому срезу. На реке все так же грохотали мины, а за реденьким леском плясал над землею розоватый свет ракет и устало долбили мерзлую ночь пулеметы. Где-то там, за передним краем, лежало во мраке огромное чудовище. На карте, что всунута в планшетку Груздева, оно изображено черными, часто пересекающимися линиями. Его щупальца тянутся к Одеру. Над передним краем в разрывах между пятнами света шевелится темень, и Груздеву кажется: это они, щупальца страшного города. Он собирает свой взвод и идет по дороге к лесу. Позади колонной вытягивается полк. Сколько осталось там, на льду? Кто сейчас сосчитает? А полк все-таки есть полк. И он должен решать свою задачу.
28
— За селом гул моторов! Сидоренко, не отрываясь, смотрит в окно. На его лицо падает мутный предутренний свет. — Что-нибудь видно? — спрашивает Груздев. — Поле просматривается до самых домов. Никакого движения. Голова у Груздева тяжелая, во всем теле вялость. Хочется закрыть глаза, ничего не видеть и не слышать. Но он превозмогает слабость, поднимается и тоже смотрит в окно. На стекле — мелкие капли дождя. Поле, наверное, совсем раскисло. Как там стрелки? Этот фольварк полк занял незадолго до рассвета, после тяжелого боя, длившегося почти сутки. Двухэтажный дом, несколько кирпичных сараев, обнесенные высокой каменной изгородью... Бауэрское хозяйство. Можно было продвинуться еще дальше, к селу, оно в полутора километрах от фольварка, но люди, спавшие в последний раз на той стороне Одера, падали от усталости, и было принято решение: остановиться и окопаться. Батальон веером развернул роты, полукругом прикрыв фольварк. Для наблюдательного пункта Груздев избрал чердак дома. Это даже не чердак, а мансарда. Оштукатуренные стены, окна на все четыре стороны. Отсюда, как на ладони, стрелковые окопы. Они не более чем в ста шагах. Дальше до самого села поле. Стрелки, наверное, спят. И окопались, конечно, мелковато. Сверху видны серые шинели и потемневшие от дождя плащ-палатки. Но что же там гудит? Груздев распахивает окно. Тонкие и острые струи дождя секут по лицу, холод растекается по груди, доходит до кончиков пальцев. Груздев подносит к глазам бинокль, осматривает село. Оно вытянулось в две улицы. Красные кирпичные дома, в центре кирха. Гудит где-то за селом. В направлении кирхи. Может быть, тягачи? Гул неожиданно прервался и тут же снова пополз по земле. Но теперь правее, намного правее кирхи. Кажется, танки. Но еще неизвестно, куда они пойдут. На всякий случай нужно доложить. Груздев берет телефонную трубку: — Мне семнадцатого... Товарищ семнадцатый... Это не он? А кто? Штаб полка — в подвале дома. Гул, наверное, и там слышен. Но это ничего не значит. Доложить нужно. — За селом гудят моторы. Возможно, танки. Есть продолжать наблюдение! Он ложится, говорит Сидоренко: — Если что заметишь, сразу буди. Но сон не идет. Если танки — стрелкам придется туго в таких окопчиках. А артиллерия почти вся на той стороне реки. Неподалеку что-то тяжело рвется. Но Сидоренко молчит, и Груздев ни о чем не спрашивает. Если танки... Где это было? Кажется, за Невинномысской. Ну, конечно. В долине предгорной речушки. Справа и слева высокие берега. Там гудят танки. А они — остатки стрелкового батальона — внизу, на самом дне поймы. Наверху лязгает и грохочет. А они лежат, как в мышеловке. Ни артиллерии, ни противотанковых ружей. С ними был радист. Он развернул рацию, а себе места не находит. Топчется вокруг и как заведенный твердит позывные: «Сухари, сухари... я сахар! Сухари, сухари... я сахар! Я сахар! Даю настройку: раз-два-три-четыре...» И снова: «Сухари, сухари.... я сахар». Его никто не слышал. Сухари не отзывались. А он все свое: «Сухари, сухари... я сахар...» Помнится, командир взвода не выдержал: «Замолчи! От твоего сахара уже горько!» И скомандовал: «Гранаты в зубы, за мной!» Почему-то в зубы. И полез наверх. Груздев карабкался по береговому откосу вслед за ним, видел стоптанные каблуки его сапог и про себя повторял: «Горько-горка, горько-горка»... Других слов не было. Все казалось очень понятным. Но мозг требовал пищи. И он повторял эти слова. Они ему не мешали, как бы удерживали в том необыкновенном состоянии ясности. «Горько-горка, горько-горка»...
— Танки с фронта! Раз, два, три, четыре... Груздев открывает глаза, переворачивается на живот, подвигается к окну. Сон пропадает моментально. — Двенадцать танков с фронта! Сидоренко докладывает подчеркнуто официально, хотя Груздев теперь все видит сам. Танки еще едва различимы. Показались только башни. Груздев до боли в пальцах сжимает бинокль. Все тело напрягается. У соседнего окна лежат Алябьев и Булавин. Ефрейтор шепотом говорит: — T-VI. Сержант возражает: — T-IV. — «Пантеры», — настаивает Булавин. Алябьев в рифму прибавляет словечко, наверное, только что придуманное и явно непечатное. Спохватившись, косо смотрит на Груздева, быстро отводит глаза и нарочито обстоятельно объясняет: — У «пантеры» ствол длинный, целых пять метров, и скорость не та. А у этих пушки укороченные. Танки все еще далеко, сквозь сетку дождя их рассмотреть трудно, но кажется, Алябьев прав. Атакуют T-IV, модернизированные. — За танками пехота, — докладывает Сидоренко. Груздев видит и пехоту. Маленькие серые фигурки. Он протягивает руку к телефону: — Товарищ семнадцатый, с фронта двенадцать танков и до двух батальонов пехоты. Примерно в километре. В створе между кирхой и правой окраиной села. С другого конца провода доносится хрипловатый со сна и спокойный, удивительно спокойный голос майора Барабаша: — Слышу, разведчик, слышу. Вызываем длинноруких. Продолжай наблюдение. В спокойствии майора то же чувство, которое владеет Груздевым. Оно и в подчеркнутой официальности Сидоренко. — Слева, на участке 1375-го полка, — четырнадцать танков. Низкий дробный гул подминает под себя все звуки, туго бьет в стекла окон. Наверное, они дребезжат. Но этого не слышно. Груздев рукавом протирает стекло и чувствует, как оно дрожит. Сколько времени нужно, чтобы подготовить данные для стрельбы, передать их за Одер — на батареи и открыть огонь? За домом дружно ухают минометы. Они разрывают гул танков и, словно не давая ему снова соединиться, стреляют часто-часто. Мины ложатся сразу же за танками. Минометчики отсекают пехоту. А тяжелые батареи все молчат. Груздев скользит взглядом по подковообразной линии обороны полка. Мелко, слишком мелко окопались стрелки. Танки уже в полукилометре. Из коротких, толстых стволов вырывается пламя. А «длиннорукие» молчат. Ну огонь же, огонь! Еще минута — и будет поздно. Неожиданно здание вздрагивает. Алябьев показывает пальцем на пол и смеется. Что такое? Ах, да, там, внизу, дивизионная пушка. Она под ними. Перед рассветом артиллеристы через пролом в стене вкатили орудие прямо в комнату. Но это единственная 76‑миллиметровка. Больше ничего переправить не удалось. Настил не выдержал. Есть еще несколько сорокопяток. Только сорокопяток. Вот они... Дан! Дан! Дан! С металлическим звоном, зло и густо. Танки неотвратимо надвигаются. Но пехота отстала. Пехота залегла. А до танков не более четырехсот метров. Идут все двенадцать. Все двенадцать! Груздева охватывает то состояние, которое он испытал в первый раз там, на крутом берегу предгорной речушки, за Невинномысской. Короткая, четкая мысль, обостренный слух и тело, как один мускул. И чувство, овладевающее человеком, когда ему, именно ему предстоит на виду у всех сделать очень серьезный, самый серьезный в жизни шаг. Он берет в каждую руку по противотанковой гранате и поднимается: — Алябьев остается здесь, остальные за мной! Но Груздев не успевает дойти до лестницы: над самой крышей, казалось, вдавливая ее своим ревом, проносится лавина тяжелых снарядов. Ветер срывает с головы капюшон. Груздев оглядывается и видит, что стекол в окнах уже нет. Он возвращается на свое место и чувствует, как ходуном ходит весь старый дом. Сидоренко что-то говорит. Груздев с трудом разбирает слова: — Два-а подбиты! Два-а горя-ят! Еще‑е один! И совсем внятно: — Они пристрелку заранее сделали, когда ты спал. Черный дым застилает все поле. Танки горят без пламени. Немецкие всегда так. Огня почти не видно. Черный густой дым, чуть подкрашенный в середине. Потом взрыв и снова черный дым. — Еще один! Сколько это? Уже шесть. Где остальные? Кажется, они остановились. В дыму не поймешь. А тяжелые все бьют и бьют. Они действительно длиннорукие. Достали с того берега. Что-то сделали, наверное, и сорокопятки. И дивизионка. Одна-разъединственная... А до стрелков так и не дошли. Неожиданно из дымного облака вырывается танк. Он серый от грязи, но Груздев различает на его приземистой башне какой-то странный рисунок. Трудно понять, что там. Но это рисунок. Рядом с крестом. Танк идет к стыку между вторым и третьим батальонами. Полосу огня тяжелых батарей он уже прошел. Дан! Дан! Дан! Это снова сорокопятки. Но, кажется, они ничего не могут сделать. Дан! Дан! — Готов! — кричит Сидоренко. Танк заваливается набок и останавливается. Но он не горит. Стоит накренившись, забрызганный грязью, закопченный. И не горит. Решение созревает молниеносно Груздев вскакивает: — Булавин и Лукашов, за мной! Задачу объясняет на ходу: — Надо взять экипаж. Земля покачивается под ногами. В прогорклом гудящем воздухе разлит тяжелый маслянистый дым. Они бегут вдоль дома, потом через поле к участку второго батальона. Ложатся только у самых окопов. Теперь до танка метров пятьдесят. Он чуть в стороне. Груздев говорит: — Обойдем слева. Надо зайти с моторной части.
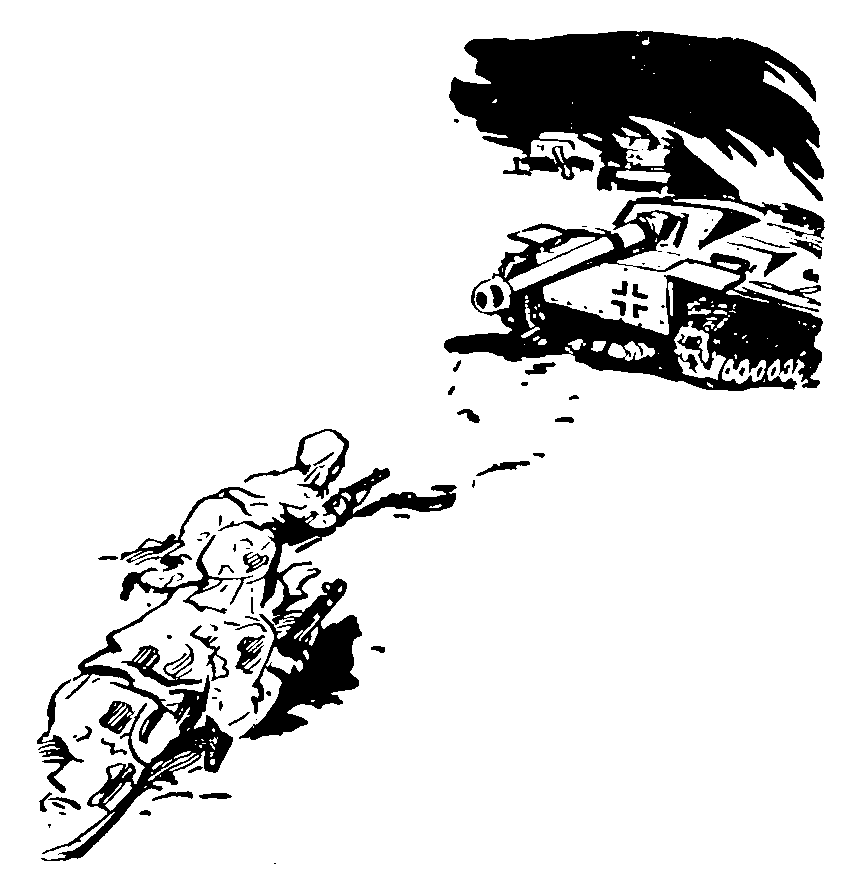
Поворачивается к стрелкам, ищет глазами командира взвода. Попробуй его найти. Все стрелки сейчас одинаковы: обросшие щетиной лица, охваченные сборчатыми, задубевшими на дожде капюшонами плащ-палаток. Он придвигается к ближайшему окопу. Лицо у стрелка мокрое, а губы потрескавшиеся, словно его палит жар. — Передай по цепи: «Разведчики берут экипаж танка. Не стрелять. В случае чего прикрыть». Стрелок приподнимается, под ним хлюпает вода. Тыльной стороной руки он вытирает сухие губы, размазывает на щеке грязь: — Ладно, давай. Они под танком. Видал, как из люков выбирались. Однако не стреляют. Груздев делает короткую перебежку. Потом еще одну. Немцы не стреляют. Земля, как квашня. Мягко расползается под ним, наплывает на руки. Груздев поднимается с трудом. Ноги вязнут, и у него такое ощущение, что сейчас он потеряет сапоги. Танк уже справа. Не стреляют. Зад бронированной машины высоко задран. Там кто-то есть. Есть! Кажется, мелькнуло лицо. Груздев делает еще несколько скачков и сворачивает к танку. Он чувствует: теперь ложиться не следует. Это — поединок нервов. Два шага, три, пять, десять... Руки плотнее сжимают автомат. Палец на спусковом крючке. Они не стреляют и не выходят. Поединок продолжается. Еще пять шагов. Где-то в дыму ревет мотор. Еще пять... К гулу мотора примешивается лязг металла. Теперь пора! Груздев резко садится на корточки, целится между гусениц: — Хенде хох![12] Булавин стоит, Лукашов припал на колено. — Хенде хох! Они выбираются из-под танка молча, ногами вперед. Их четверо. Все в комбинезонах. У одного оторван мизинец. На рукаве грязь смешалась с кровью. Лицо полное, чисто выбритое, на нем, кажется, даже следы пудры. Наверное, офицер. Мотор ревет прямо за спиной. Но оглядываться некогда. Груздев показывает рукой в сторону дома: — Форвертс! Вперед! Лукашов неожиданно кричит: — Танк! Позади танк! Груздев не оглядывается: — Форвертс! Тот, что с оторванным мизинцем, вдруг опускается на землю, закрывает руками лицо и извивается в конвульсиях. Его рвет: контужен. Три других делают шаг навстречу Груздеву. Один из них пригибается, как бы для прыжка. Груздев поднимает автомат и стреляет не целясь. Очереди почти не слышно. Гул мотора давит в затылок, гнет Груздева к земле. Но он все так же не оглядываясь, перешагивает через убитых, показывает Булавину и Лукашову на немца, который по-прежнему извивается на земле, закрыв руками лицо. — Несите! Они не понимают. Он подталкивает их к нему: — Несите! — Танк! — Несите! Прикрою. Они подхватывают немца под руки, а Груздев заползает под разбитый танк. Это пришло само собою. Оно делается в одно мгновение. Догадка и тут же решение. Танк идет на выручку. Тот, с оторванным мизинцем, их командир. Они хотят его спасти. Давайте, давайте поближе. Вы должны подойти вплотную. Иначе ничего не выйдет. Впрочем, теперь и так не получится. Но давайте же! Смелее! Должно быть, вы отчаянные солдаты. Ну, кто кого? Танк вырастает перед глазами — огромный и такой же серый, как раскисшая от дождя земля. Огромный... Но это только в первое мгновение. Потом остаются лишь гусеницы. Нет, не они, а траки. Твердые, неумолимые. Даже в дыму они матово отсвечивают, бегут друг за другом, в лепешку раздавливают пни и камни. Траки... От них нельзя оторвать взгляда. Они гипнотизируют и давят на расстоянии. Траки... Нет ни башни, ни жерла орудия. Только они. Весь танк состоит из одних траков. Они давят, и им ничего нельзя сделать. Но в том-то и дело, что можно. Можно! В каждой руке у Груздева по гранате. Он подносит ко рту ту, что в правой, берет в зубы матерчатую петлю чеки... Неожиданно траки умеряют свой бег. Почему? Почему танк остановился? Все в порядке: он разворачивается. Прикрываясь подбитой машиной, танк подойдет задом. Чтобы легче было уходить. Но ты никуда не уйдешь. Никуда! Груздев сжимает зубы, выдергивает чеку и почти без размаха бросает гранату. Под гусеницу. Может быть, ему это показалось, но он уверен, что успел заметить, как траки раздавили гранату. Тугая, грохочущая волна подкидывает его, и он ударяется головой обо что-то твердое. Но уже в следующее мгновение Груздев открывает глаза и видит в дыму не гусеницу, а искареженные, повисшие в воздухе колеса. Мотор все гудит. Или это голова? Он перекидывает гранату из левой руки в правую, нащупывает пальцем петлю. Теперь надо немного приподняться. Эту нужно закинуть на моторную часть. Взрыв снова бросает его на землю. Но на этот раз волна мягкая. Главная ее струя прошла поверху. Тут же в лицо ему плеснул дым. Не тот, прежний. Новый — едкий, жирный и горячий. На ощупь он выбрался из-под танка и, сделав два шага, оперся о его борт. Дым распирал легкие, и его никак нельзя было выдохнуть. И тогда он согнулся и где-то там, внизу, глотнул чистого воздуха. Выпрямился, оттолкнулся руками от борта. Надо бежать: танк горит и сейчас взорвется. Но что-то мелькнувшее перед глазами удержало его. Что это? Рисунок. Прямо перед глазами, на башне танка крест, а рядом с ним рисунок. Тот самый... Он видел его еще из окна. Теперь можно рассмотреть: кошка держит в зубах мышонка. На этот раз кошка сама угодила в ловушку. Впридачу к ней еще и котенок. Впрочем, они одинаковы. Оба танка, как близнецы. Но надо уходить. Как можно скорее. Груздев отступил еще на шаг и не дыша побежал. Потом упал, ухватил у самой земли еще глоток воздуха и снова побежал. Он уже выскочил из дымного облака, когда сзади грохнул взрыв. Одна из кошек лопнула.
Возле дома его окружили разведчики. Впереди всех Алябьев: — Жив! А мы к тебе. Майор Барабаш сказал, чтобы без тебя не приходили. А мы ему... Алябьев махнул рукой: — А тот фриц... майор. Командир танкового полка. А еще... знаешь, откуда они? Из Арденн. С запада перекинули на восток. И вдруг взял его за руку, легонько потянул к дороге. У обочины лежит полосатый дорожный столб. Он сломан у самого корня. Как видно, подгнил и свалился от сильного толчка. К столбу прибит указатель. Алябьев читает вслух: — Берлин — 62 километра.... Читает и смотрит на Груздева, словно и верит и не верит своим глазам. Потом они идут к дому. Бой заметно стихает. Снаряды рокочут высоко в небе и рвутся не на поле, а в селе. — Как у соседей? Алябьев отвечает короткой, привычной фразой: — Атака отбита. Так, наверное, сообщат завтра и в сводке. Впрочем, слова могут быть другими и такими же лаконичными: «На одерских плацдармах идут бои местного значения».
29
Танки — словно близнецы. Фольварки — тоже. Обязательно огромный дом — с подвалом и мансардой. Мощеный двор. Множество каменных сараев. И обязательно — высокий кирпичный забор. Не хозяйство, а крепость. Они похожи друг на друга. А пути к ним ведут разные. Тот фольварк, перед которым полк отбивал танковую атаку, теперь уже далеко позади. Впрочем, далеко — понятие относительное. Для окопных солдат все, что отстоит от переднего края даже на два километра, уже довольно глубокий тыл. И это значит — далеко. И не только потому, что там уже не слышен посвист пуль и не нужно пригибаться. Дело тут в мере, которой отсчитывается расстояние. Обычно это не метры и даже не шаги. Когда начинается позиционная война, пехота меряет землю коленями, грудью, ладонями. Это называется передвигаться по-пластунски. Есть и другая мера: семиметровая перебежка и короткий бросок атаки. Вот так они и прошли это расстояние. Два километра. Потом продвинулись еще дальше, за железнодорожное полотно. Один батальон — по счету третий — прорвался к лесу. Связь с ним почти сразу оборвалась. Но в тот момент это еще не казалось бедой, потому что батальон был на виду, а полк шел вперед. Однако вскоре, когда немцы бросили в контратаку свежие силы, положение резко изменилось. Два батальона отошли к железнодорожному полотну и здесь закрепились. А тот, третий, так и остался в лесу, отрезанный от своих. В полдень полк попытался пробиться к окруженному батальону. Роты поднялись дружно, но тут же снова откатились к железной дороге: на степной хребтине появились танки. На этот раз «тигры». Их было только три, медлительных, подобных гигантским черепахам. Но между ними сновал целый выводок самоходных пушек. Потом «тигры» ушли, а самоходки остались в ложбине, перед фронтом полка. Они то высовывались и стреляли, то опять скрывались за желтой хребтиной, ревя моторами, вереща гусеницами. Майор Барабаш вместе со штабом перешел на фольварк. Уже поднявшись на крыльцо, он подозвал Груздева: — До вечера ничего не сделаем. Действовать будем ночью. Готовиться. Это было очень неопределенно, но Груздев переспрашивать не стал. Поразмыслив, он оставил в железнодорожной будке двух наблюдателей, остальных разведчиков привел в сарай и приказал отдыхать. Прошел час, но никто не спал. Лежали, курили, тихо разговаривали. Фольварк раскинулся на пригорке возле леса. Сосны вплотную подступали к сараю, в котором расположились разведчики. Когда на железнодорожном полотне стихала стрельба, было слышно, как в кронах могучих деревьев вздыхает ветер. В одну из таких минут на черепичную крышу упала шишка. Перенесшая зиму, почерневшая, а в общем самая обыкновенная, она скатилась на землю перед дверью. Ефрейтор Лукашов поднял ее, осмотрел, подавил в ладони, даже понюхал: — Скажи ты... Точь-в-точь, как у нас, под Москвой, а вот не та. Словом, немецкая. — Оно и все тут не то. Расчет простой: не наше. Сердце не принимает. Булавин, словно подтверждая свои слова, приложил руку к левой стороне груди. Лукашов закивал головой, положил шишку у стены, отодвинулся: мол, не мое и трогать не буду. Сел на ящик, закурил. — Насчет сердца верно ты. Оно аккурат вроде компаса. В углу сарая с перины, поверх которой застлана плащ-палатка, встал Алябьев: — Ну и ефрейтора пошли! Сдул с рукава шинели перышко — лежал не раздеваясь, — проследил за ним глазами. — Такие тебе разумные, такие сердечные... Лукашов косо глянул на перину: «И когда только Алябьев успел ее притащить. Наверное, взял в доме. Кинул вещь прямо на кирпичный пол, испортил...» Алябьев перехватил взгляд ефрейтора: — Что, пожалел? Заученным, почти неприметным движением одернул шинель. Груздев тоже встал, шагнул к двери: — Ладно, Алябьев. — А я что? Не перележал ихнюю перину. Им она и останется. — Я не про то. Пойдем. Они вышли во двор. Где-то за кронами сосен, нависшими над крышей сарая и еще выше, стремительно покатился рокот — гулкий и ровный. Ни выстрела, ни разрыва слышно не было. — Сотка, — сказал Груздев. — Должно быть, по селу. По карте за лесом село. Отсюда километра четыре. Наискось от третьего батальона. Оба невольно повернулись лицом к железной дороге. На полотне было тихо. А дальше, где вел бой третий батальон, нервно трещали автоматы. — Вот что, Алябьев, сходи на тот фольварк. Разыщи нашу повозку — весь обоз там — и принеси летние маскхалаты. Камуфляжные. И постарайся побыстрее. Может, возьмешь кого-нибудь? — Сам управлюсь. Алябьев был теперь помкомвзвода и выполнял свои обязанности очень ревностно. — Что ж, сам так сам. А в сарае шел свой разговор. Теперь в нем участвовал и Сидоренко: — Посчитаться с ними, конечно, надо. Только тут должно правительство. Все по закону. Прикинет оно, сколько чего погублено ими, и затребует. А они должны возвернуть. Груздев хотел возразить: «А люди? Кто вернет людей? Кто вернет мне братьев, бабушку и Симу, а Оле мать и отца? Кто?» Но он ничего не сказал. Лег на шинель, положил руки на грудь. Повязка на ладони, за последние два дня почерневшая и сползшая к запястью, была уже ненужной. Он стал ее разматывать и вспомнил, что сегодня исполнилось семь дней с тех пор, как он уехал из медсанбата. — Про почту ничего не слышно? — На днях будет. Теперь догонит. Будет. Конечно, будет. И там письмо. Может быть, даже два. А потом они встретятся. Наперекор всему встретятся. Приподнялся на локте, осмотрел ладонь. Шрам был розовым, кожа поблескивала. Притронулся пальцем — побаливает. Но так и должно быть. Раны заживают не сразу. Лег на спину: — Кончайте разговоры. Спать. Ночью будем действовать.
Его разбудил Алябьев: — Вставай, старшой, принес письмо, маскхалат и привет от землячки. Он не сразу понял. — Это твое письмо, бери. Почту перехватил в тылах. Вот маскхалат. А привет на словах. На том фольварке развертывается головной отряд медсанбата, я и пошел узнавать: «Нет у вас тут, говорю, санинструктора, такого, что Олей зовут?» Это я спросил у медицинского лейтенанта... в юбке. А она стрижет так глазами, щурится, вроде не на меня, а на солнце смотрит, и говорит: «Есть у нас Оля. А вы, случайно, не разведчик?» Отвечаю: «Случайно именно он». Она обрадовалась, как будто родного брата встретила: «Вот счастливая случайность!» В общем, берет меня под руку и в дом, а навстречу она... — Оля? — Ну, а кто же еще? Познакомились, порассказали друг другу. Она про тебя, и я про тебя. Короче говоря, передала привет, сказала, что вечером, туда попозднее, освободится от дел и придет к тебе в гости, на этот фольварк. — Вечером? — Вот именно. — Вечером... — А ты не беспокойся. Если будет дело, я поведу группу, а ты останешься здесь. По такому случаю можно. Хочешь — с майором объяснюсь? — Не надо. Раздай маскхалаты и проверь оружие. Груздев отошел в угол, развернул письмо. Оно было маленьким и, как всегда дышало ею. Начиная от самой первой строчки. Как видно, Оля писала его еще в том городке, из которого он уехал тогда с Сидоренко. Вспоминала привисленский лес: «Толя, родной... Я приехала, а ты уже ушел. Ждала, выходила на дорогу, смотрела, а тебя не было. До самого утра не спала. Думала, может, ты придешь. Уже показалось солнце, и мне нужно было уезжать». Писала так, как если бы они виделись каждый день. «В тот вечер ты не пришел, и я разговаривала с тобой на расстоянии. Даже не разговаривала, а смотрела на тебя и мне все равно было хорошо. Я знала, что ты рядом. А потом письма за все три года. Я их ждала, и они пришли...» Но она писала так, как если бы не было этих трех лет и там, в станице, ничего не случилось. Почему? Да, конечно, к этому нельзя прикасаться. Нельзя. Как к незажившей ране. И Оля это понимает. И она думает так же, как он. Но по-иному и не могло быть. Он и она стали частью друг друга. — Старшой! В дверях стоял Алябьев. — Старшой, ты здесь? Майор Барабаш вызывает весь взвод.
30
Они стояли в строю, и последний луч заходящего солнца, пробившийся сквозь дымный горизонт, играл на вороненой стали автоматов, рассвечивал пятнистые камуфляжные маскхалаты. Двенадцать человек в две шеренги, один чуть впереди. — Товарищ майор, взвод полковой пешей разведки по вашему приказанию выстроен. Командир взвода старший сержант Груздев. Барабаш оглядывает строй, словно ищет кого-то. Долго всматривается в лица. Груздев чувствует на себе его взгляд и не может отвести глаз. Потом майор отступает на шаг и смотрит на всех сразу. И снова на Груздева. Но может быть, это ему только кажется. Луч солнца потускнел и погас. За железнодорожным полотном, в лесу, мечется, бьется в агонии автоматная трескотня. — Слышите? Все молчат. Ответа не требуется. Майор Барабаш отходит еще на один шаг. — Третий батальон в окружении, связи с ним нет — рация скорей всего разбита. Между батальоном и полком — полоса шириною примерно в три километра. Нас разделяют две линии немецкой обороны. Одна повернута фронтом к нам, другая — к третьему батальону. Необходимо пройти через обе эти линии и доставить окруженным боевой приказ. Это сделает кто-то из вас. Я говорю кто-то потому, что пойдет доброволец. Пройти трудно. Нужен опыт... и все другое. В руках одного человека будет судьба целого батальона. Он отворачивается, вслушивается в перестрелку и, может быть, дает им время для раздумий. Потом еще раз оглядывает строй. И снова Груздев чувствует на себе его взгляд. — Кто желает выполнить это задание, выйти из строя. Груздев делает два шага. Четко, как будто по команде, передвинулся вперед и весь взвод. Двенадцать — в две шеренги, один перед ними. Майор молчит. И опять глаза — в глаза. С Груздевым дольше других. Но может быть, это кажется. Нет, не кажется. Опыта у него больше, чем у других. И кроме того... Груздев делает еще полшага: — Разрешите мне. Майор смотрит не на него, а на строй. — Спасибо. Это для всех. — Пойдет... Это тоже для всех. — Пойдет... Груздев. Старший сержант Груздев.
* * *
— Ясно? — Ясно, товарищ майор. — Повтори. — Немцы ожидают, что батальон будет прорываться, ведя атаку в направлении полка. Они понимают, что наступление уже выдохлось и подразделению, оторвавшемуся от своих, лучше всего отойти на общую линию обороны, то есть на железнодорожное полотно. К этому выводу толкает и то обстоятельство, что батальон, оказавшись окруженным, несколько раз пытался прорвать кольцо на востоке. В связи с этим, а также учитывая общую задачу, следует: в продолжении ночи демонстрировать наступление в прежнем направлении. Однако в 4. 00 надо сосредоточить все силы на северо-западной опушке леса. По сигналу — две серии красных ракет — нужно поднять роты, повести атаку в сторону населенного пункта и занять западную, не восточную, а западную окраину. Туда же, сделав прорыв на левом фланге, выйдет весь полк. Общее наступление будет вестись при массированной поддержке самоходной артиллерии. Груздев передохнул и закончил: — Сигнал о моем проходе в расположение батальона: две зеленых — красная, две зеленых — красная. И прибавил: — Дважды. Майор склонился над картой: — Уточним маршрут. Значит, идешь по ручью... — Да, по руслу. Воды там нет. Насколько просматривается, нет. Думаю, что и дальше будет сухо. — По карте русло тянется к самому лесу. А если оно потеряется? — Главное, пройти здесь, а там... Там я могу и по полю. Ведь они будут обращены ко мне тылом. — Да, главное здесь. Окопчики у них довольно густо. Но мы сделаем вот что: дадим по ним из минометов. Возле русла. Под шум и проскочишь, сразу после налета. Майор встал: — Если в 24.00 не будет сигнала, пойдет Алябьев. Это тебе для сведения. Может быть, где-то там встретитесь. Отправишься через час тридцать минут.
* * *
Приспособив на колене планшет, он положил лист бумаги. По временам поднимал голову, спрашивал: — Не видно? Алябьев из темноты говорил: — Нет. Пиши. Я все время слежу за дорогой. Скажу. Он поправлял фитиль коптилки-гильзы. И писал: «Оля, ты совсем близко, но и сегодня мы, наверное, не встретимся. У нас с тобой нет своего времени. Своего... Помнишь, что говорил Шура? Когда начинается война, все личное отдается общему делу. В сущности это для людей не ново: отдавать. И не только на войне. Не мы это придумали. Оно пришло к нам из прошлого и рождалось годами. Вначале в узком кругу, в семье. Родители всегда отдают своим детям все, что у них есть. Отдают щедро, не задумываясь. И особенно матери. Это естественный процесс. У нас он уже давно перешагнул рамки семьи. У многих. У большинства. Мы приходим на землю детьми. Но сразу же, как только начинаем самостоятельную жизнь, принимаем на себя обязанности, которые очень похожи на материнские и отцовские. У нас с тобою нет детей. Но по отношению к людям, которые будут после нас, мы уже родители. Оля... Ты прости меня за длинные рассуждения. Но ведь они про нас. Про тебя и про меня. Когда понимаешь это, знаешь, куда и зачем идешь, тогда тебе ничего не страшно. Родная моя... Как мне не хватает твоих глаз! Милых. Моих-моих! Но скоро мы встретимся. Теперь совсем скоро. Я пройду... И приду к тебе. Скоро-скоро». — Не видно? — Не видно. — Мне пора. Ты возьмешь это письмо и отдашь ей.
Он лежит на дне тесного русла, умеряя дыхание, и слышит, как бьется его сердце: тук-тук-тук... Громко, слишком громко. Приподнимает голову, смотрит вверх. Черное небо начинается у верхней кромки крутых отвалов. Встань, подними руку и упрешься пальцами в его твердь. Почему-то оно кажется плотным, таким же, как вылизанное водой и ветрами дно высохшего ручья. Наверное, потому, что низкое и черное. Но это ему и надо — черное. Зато бурьян... Не успел прикоснуться — шорох, почти щелчок. И тогда нужно лежать и слушать. А ведь земля мокрая, и старый бурьян влажный. Отчего же он так шелестит? Все дело в том, что напряжен слух. Груздев мягко передвигает вперед правую руку, потом левую ногу. Руку-ногу, руку-ногу... В такт в ушах звучат слова: пройду-приду, пройду-приду... Позади, на железнодорожном полотне, тихо. Из глубины поля глухо доносятся голоса. Слов не разобрать. Но они немецкие. Тут ошибиться нельзя. Разговаривают двое. До них не больше тридцати метров. Да, не больше. Дальше ползти не следует. Батальонная мина поражает как раз на тридцать. Над полем дохнул ветер, прошелестел в жухлых травах и сдунул все остальные звуки. Не слышно стрельбы даже со стороны леса. Сейчас начнется налет. Он будет длиться ровно минуту. Пристрелка сделана еще засветло. Груздев перекинул автомат за спину — стрелять здесь все равно нельзя. В крайнем случае — ножом. Нащупал ребристую, покрытую резиной рукоятку, передвинул под правую руку. Минометы ухнули так стройно, что показалось, будто это один выстрел. На самом деле их девять. Девять стволов. Из каждого вылетит... Хороший расчет выпускает за минуту 25—30 мин. Груздев считает: раз, два, три... Сделано четыре залпа и еще ни одного разрыва. Но небо уже воет. Истошно, тоскливо. Теперь всей своей твердью оно давит на Груздева, и он сбивается со счета, вжимается в плотное, неподатливое дно ручья. Разрывы сливаются в один тяжелый грохот. Груздев лежит с закрытыми глазами, уткнувшись лицом в землю, и все равно видит красные молнии разрывов. У него мелькает мысль: очень близко, надо было остановиться раньше. Голова наливается тяжестью и увлекает его куда-то вниз. В какое-то мгновение ему кажется, что он стоит на руках, а ногами упирается в небо... Груздев пытается лечь — по телу секанут осколки, — с силой вскидывает голову, и это возвращает ему привычные представления. Он подтягивает правую ногу, нужно во что-то упереться. Грохот обрывается внезапно. Груздев ждет. Ровно три секунды. Мысль, как часы, четко отсчитывает: пройду-приду, пройду-приду, пройду-приду. Вскакивает и, едва касаясь земли, скользит по извилистому руслу, готовый каждое мгновение лечь, замереть, раствориться в черноте ночи. За четвертым поворотом Груздев оступается, падает лицом в воронку. Она еще дышит едким дымом. Он отталкивается от земли руками, ловя слухом и всем своим телом каждый звук. Здесь линия окопов. Не разгибаясь, он делает еще несколько шагов и обессиленный ложится. Теперь можно отдышаться. Позади в разнобой трещат автоматы. У самого русла. И слева и справа. Значит, кто-то уцелел. Стрельба прокатывается по всему переднему краю. Теперь они будут палить до самого утра. Но это ему уже не помешает. Дело сделано. Однако впереди еще один передний край, и что там — неизвестно. Пожалуй, по руслу дальше идти не следует. Им могут воспользоваться как ходом сообщения. Но они будут идти не таясь. Их можно услышать. По руслу все-таки лучше. Груздев встает и только тут замечает, что с неба сыплет мелкий дождь. Но это к лучшему. Дождь скрадывает шорохи. Еще два поворота позади. Он останавливается. Вокруг только ровный шум дождя. Дно становится скользким. Оно совсем не впитывает воду. А дождь крупнее. Оля, наверное, уже пришла. Алябьев сочиняет какую-нибудь историю. Кроме посвященных, о задании говорить никому не принято. В таких случаях нужно что-то выдумывать. Русло стало глубже. Здесь гребень степного взлобка. Значит, где-то слева должны быть самоходки. Там ложбина. Она близко подступает к ручью. Моторы скорей всего выключены и расчеты спят. А может быть, самоходки ушли на заправку? Выпустили весь боезапас и укатили в тыл. Нет, вот одна из них заурчала. Но это далековато. Сейчас Оля читает письмо. Пройду-приду. Пройду-приду. Ложбина кажется бесконечной. Тут не три километра, а все пять. Так, наверное, и есть, ведь русло делает много поворотов. Дождь гуще. Теперь Груздев идет, ничего не видя. Ориентирами служат береговые отвалы, на которые он то и дело натыкается руками. Не дождь, а ливень: холодный, зимний. И сплошным тяжелым потоком. Маскхалат затвердел, но он все-таки пропускает воду. Ватная куртка, надетая под низ, промокла насквозь. Когда он останавливается, холод тугим поясом охватывает поясницу. Пальцы ледяные. Он засовывает их в рот. Верное средство. Пальцы должны быть подвижными и сильными. Особенно на правой руке. Фронт затих, впереди вот уже добрых полчаса ни одного выстрела. Это тревожит его. Он останавливается и по крутому склону выползает наверх. Рассмотреть ничего нельзя. Ни света ракет, ни огоньков выстрелов. Ливень погасил все, и поле будто вымерло. Но лес теперь где-то рядом. Груздев на животе съезжает вниз, нащупывает ногами дно. Под сапогами хлюпает вода. Посередине уже образовался ручей. Надо идти у самой стены. Он перешагивает на правую сторону, минует еще два поворота и... ложится прямо в воду. В двух метрах от него грохочет автомат. Короткая очередь, потом длинная. Огненные трассы уносятся вдаль к лесу. Вспышки на мгновение слепят Груздева. Но он успевает заметить, что немец лежит у левого склона. Широкая, бугристая спина и мокрая каска. Груздев слышит, как он передвинул ноги, — скрипнула кожа сапог. Решение приходит сразу. Это не мысль, а команда: в спину и под выстрелы. Но немец не торопится, он укладывается поудобнее, шуршит плащ-палаткой, наверное, подкладывает ее под бока. Наверху гомон голосов. Не очень близко. Ну, стреляй же! Грохота Груздев не замечает, только вспышки. Он сваливается на немца. Но еще прежде нож уходит под левую лопатку. Удар и резкий поворот. Так — без стона. Если не дернуть нож, немец успеет вскрикнуть. Случалось. Не поднимаясь, он запускает руку под плащ-палатку и шинель, нащупывает левый карман френча. Там должна быть солдатская книжка. Но ее нет. Пухлый бумажник в кармане брюк. Груздев засовывает его за пазуху, рывком становится на ноги. В темноте он по-прежнему ничего не видит, но чувствует, что дальше русло расширяется, а берега становятся ниже. И никаких поворотов. Все правильно, иначе немец не стрелял бы. Он пригибается, идет почти на четвереньках. Так можно быстрее лечь. Теперь будут стрелять ему в лицо. Свои. Но они молчат. Их можно понять: экономят патроны. Пуля вжикает у самого уха. Выстрела Груздев не заметил. Ему хочется крикнуть, но он сдерживает себя: надо подойти ближе. Еще одна пуля. Вдоль русла. Конечно, вслепую. Он ползет. Вода хлюпает под ним. Заметят — начнут стрелять прицельно. Только бы не попали с первой пули. Неожиданно над головой проносится автоматная трасса. Он кричит: — Славяне, я свой! Славяне, я свой! До них несколько шагов. Резко встает и идет, не разбирая дороги.
* * *
В глубине леса — землянка. Стены и потолок обшиты досками. На столе чадит парафиновая плошка. — Как видишь, живем не тужим. Тут у этих собак какой-то пост был. Комбат-три разглаживает усы. Крутоплечий, кряжистый, он довольно хладнокровно относится к своему положению. Приказ встречает так, как если бы находился на своем НП, где-нибудь на позиции долговременной обороны. Уточняет: — Значит, я веду атаку на запад... А пушек переправили много? Мабудь, понтоны поставлены. Говорит то чисто по-русски, то на кубанский манер. Потом они вместе смотрят документы, найденные в солдатском бумажнике. Комбат смеется: — Та вин же фольксштурмовец! Значит, подперло Гитлеру, дальше некуда. Шо и следовало ожидать. И снова разглаживает усы. С маскхалата под ноги стекает вода. Знобит. По досчатым стенам землянки скользят черные тени. Комбат спрашивает: — Ты где будешь, разведчик? Может, с моим штабом? — С вами. Груздев смотрит на часы: — Сейчас отсигналю в полк и... в вашем распоряжении.
32
Бой как бой. Были перебежки, были атаки. И были минуты, когда казалось, что уже ничего не получится и батальон своими силами не прорвет кольца. Стрелки поднялись еще раз. Поливаемые все таким же плотным огнем, роты каждое мгновение могли залечь. Но они все-таки проскочили еще десяток метров и не легли. Эта узкая полоска земли и оказалась тем рубежом, через который следовало перешагнуть, чтобы выиграть бой. Дальше все произошло так же, как случалось во многих предыдущих схватках. Вначале не выдерживает один. Он выскакивает из окопа, но еще не бежит. Оглядывается, кидает взгляды по сторонам, боком повертывается к атакующим. Тут же, рядом, вырастают над бруствером еще двое. Они более решительны и обращены лицами в тыл. Стоит увидеть их остальным, как поднимаются и бегут все. И нет больше линии обороны. Кто-то еще стреляет, но других уже не остановишь. В своих треугольных плащ-палатках, стелющихся по ветру у самой земли, немцы напоминают птиц с переломанными крыльями, которым уже никогда не взлететь. Это всегда придает силы. Когда они бегут, ты не чувствуешь усталости. Ноги стремительно несут тебя по полю, через кочки и рытвины, руки сами делают свое дело. Стреляешь и не видишь ничего, кроме согнутых спин, и вкладываешь в автоматные очереди всю злость, которая накопилась в тебе, когда ты полз под огнем к рубежу атаки, пахал лицом грязь, выплевывал ее, глотал, чтобы она не скрипела на зубах. А они бегут, похожие на уродливых, хищных птиц — когда-то ты видел их на картинках, в книжке о древнем мире, — бегут, и ты не можешь, не имеешь права допустить, чтобы они ушли, ибо завтра снова встретишься с ними лицом к лицу. Бой как бой. С ходу батальон ворвался в населенный пункт и вышел на его западную окраину. А через час он соединился с полком. Ветер разорвал тучи, и в неширокое голубое окно заглянуло солнце. Слишком долго ходило оно за черной и серой завесой, так долго, что можно было подумать: заблудилось и свернуло с привычной дороги. Но солнце было на своем месте — на востоке. И солдаты смотрели на него, мягко щурились: — Солнце... Скажи ты! — Так ить утро. — Что ты понимаешь?! А сбоку звучала команда: — Первая рота, подтянись. И стрелки подтягивались: торопливо догоняли передних, одной рукой придерживали автоматы, другой оправляли лямки промокших, засмальцованных вещевых мешков. Мягкость на лицах быстро сменялась тем простым и твердым выражением, за которым живет постоянная настороженность окопного солдата. Бой выигран. Но ведь на войне нет выходных, нет даже короткого часового перерыва. Сейчас они выйдут за деревню, и им снова придется разворачиваться в цепь, перебегать, с разгона падать в жидкое тесто размокшей земли, разгребать его руками, добираясь до твердого грунта, на котором можно пустить в дело малую саперную... Потом атака... Потом новый бой... Для окопного солдата вся война — это один большой бой. От раны до раны. От первого дня — до последнего. Этот последний для многих наступил раньше, чем закончилась война. Но они уже не знали об этом. И никогда не узнают. Знают только живые.
* * *
Возле кирхи — в этой деревне была своя — Груздев разыскал штаб полка и взвод разведки. Майор Барабаш выслушал рапорт, кивнул головой и по витой лестнице пошел наверх, где ему устраивали наблюдательный пункт. На четвертой ступеньке обернулся: — Будь здесь. Скоро понадобишься. И пошел дальше, держась рукой за перила. О том, что было ночью, ни слова. Для Груздева это понятно. Майора обступили новые заботы, и они начисто отодвинули все вчерашнее. Было — и было! Трудное, очень трудное. Но оно пройдено. А то, что ждет впереди, еще надо преодолеть. Так всегда. Каждый новый бой, как ступенька лестницы. И чем выше, тем труднее. Алябьев стоял тут же и все порывался что-то сказать: — Рассказывай. — Приходила. А ты только ушел. Каких-нибудь пять минут — и встретились бы. Сказал, что вызвали на передок и ты до утра не вернешься. Думал, что будет плакать, — девчонка все-таки, а она ничего. Говорит: «Покажите, где вы живете». На шинель твою долго смотрела, начала ее чистить. Я ей: «Не надо», а она: «Сейчас и за вашу возьмусь. А ну, несите». Булавин — бухгалтерская душа, все сразу рассчитал: «Мы шинелей не носим. Спим только на них. У нас маскхалаты». Ну, а они из обоза, чистые. Крючков каких не хватало, пришила, с собой принесла. Подворотнички попросила передать. Штук десять приготовила. Все белые, как снег. Потом глянула на этого интеллигента — на Бухгалтера, а у него вместо подворотничка какая-то серая тряпка. И еще торчит на целый палец. Все раздала — тебе один оставила. Говорит: «А ну-ка пришивайте. Сейчас же». Пришили. А когда ушла, так еще и побрились. — Долго пробыла? — Часа два. Мы ее проводили до самого фольварка. Сказала, что утром придет, а мы на рассвете двинулись. Теперь, наверное, не скоро... Закуришь?
* * *
Не скоро... Живые тоже знают не все. Они готовы к самому неожиданному, к последнему, к тому, где темным-темно. А жизнь вдруг возьмет и повернет их лицом к солнцу. Не всех. Одному — это, другому — то. ... Сидоренко, сам не зная для чего, толкнул железную дверь, ведущую в подвалы кирхи. Наверное, он что-то заметил в полумраке. Шагнул вниз и тотчас гулко прозвучала автоматная очередь. Сидоренко упал навзничь, откинув голову на порог. Булавин первым метнулся к двери, подхватил его под мышки, вытащил наверх. Алябьев тоже бросился к подвалу, на ходу снимая с пояса гранату. Груздев крикнул: — Отставить! Но было уже поздно. Так же гулко, как очередь, грохнул разрыв. И тотчас Алябьев скрылся в черном проеме двери. Груздев прыгнул вслед за сержантом. Скатился по стертым ступенькам и в темноте уперся руками в плечи Алябьева.

— Один... Один захудалый Ганс. Но он оказался далеко не захудалым. На плечах резинового плаща были полковничьи погоны. В стороне валялась фуражка с высокой тульей. Груздев огорченно вздохнул: — Испортил такого «языка». Алябьев глухо и раздельно сказал: — Не могу я смотреть на них... на живых... когда они убивают. Лукашов осветил фонариком углы: — Тут вот портфель... Они осмотрели его содержимое уже наверху. Карта, покрытая стрелами и условными значками, бумаги с большими рыжими печатями. На одном из документов стояла подпись Гитлера.
* * *
Майор Барабаш долго разглядывал карту и бумаги, потом аккуратно уложил их в портфель. — С Запада на Восточный фронт немцами передвинуто одиннадцать дивизий, из них четыре танковых. Понимаешь, разведчик? Усмехнулся: — Ты-то понимаешь. Поймут ли союзники? Протянул портфель: — Доставить в штаб дивизии. Отправляйся сейчас же. Но тут же остановил Груздева: — Как его фамилия? — Полковник Вагнер. — Не того... Разведчика нашего. — Сидоренко. — Тот, что из медсанбата? Сидоренко... Ну, иди. Когда Груздев спустился вниз, Сидоренко лежал возле стены, уже наглухо укрытый плащ-палаткой. Из-под ее края виднелись туго зашнурованные ботинки. Они были еще крепкими, их бы вполне хватило, чтобы дойти до Берлина. Не дошел. — Алябьев, останешься за меня. Я в штаб дивизии.
* * *
А в полдень, когда он возвращался в полк, дорога привела его к перекрестку. Сбоку из леска, мягко покачиваясь, выбирался на магистраль санитарный автобус. Они увидели друг друга одновременно. Наверное, автобус еще не остановился, и Оля выпрыгнула на ходу — ничего этого он не заметил. Увидел как-то сразу, прямо перед собой ее глаза. Зеленые, искрящиеся. Прежние-прежние. Свои-свои. — Вот мы и встретились. Это были ее первые слова. Она говорила еще что-то, но он не понимал, стоял, бессильно уронив руки, и смотрел на нее, и смотрел... И тогда Оля придвинулась к нему вплотную и положила голову на автомат, висевший у него на груди. Наверное, ей было неудобно, и она отстранилась и сама передвинула автомат ему за спину, и прижалась к Груздеву всем телом. Он наклонился и поцеловал ее в голову, в жесткое сукно ушанки.
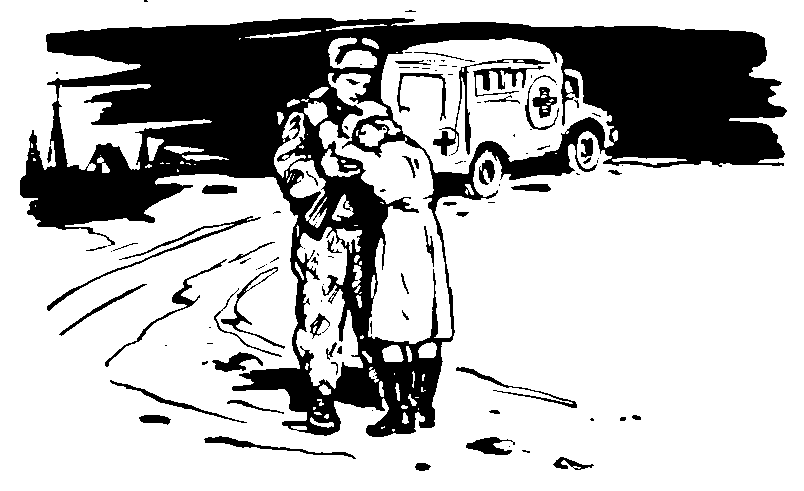
— Оля, ты? Он поднял ее на руки. — Оля, мне нужно сказать тебе так много... И снова поцеловал — опять в сукно ушанки, и посмотрел на автобус. — Не надо. — Что? — Не надо. — Что? — Не надо смотреть на автобус. Но туда нужно было смотреть. Задние дверцы распахнулись, высунулся солдат с рыжими прокуренными усами, уже немолодой, в смятой, насунувшейся на самые глаза шапке. Наверное, санитар: — Сестра! У сержанта... ранение плеча... Кровь пошла. Она еще смотрела на него, но уже сделала какое-то движение, и он опустил ее на землю. Оля быстро пошла к автобусу, не оглядываясь, и только у самой дверцы, обернулась: — Подожди... Я сейчас. Она не возвращалась долго, и он подошел к автобусу. Из кабины на него внимательно глядел такой же, как санитар, уже немолодой солдат. — Встретились? Спросил приветливо, а лицо было серьезным и даже немного сердитым. Груздев спросил: — А вы что... знаете? — Знаю. Все знаю. Протер перчаткой переднее стекло и совсем тихо повторил: — Все знаю. И еще тише: — Ты, парень, ее... береги. Всем нам теперь друг друга беречь надо. А она... Жизнь у нее трудная, тяжелых возит. Всех подбадривает, смеется, а сядет в кабину... Один я знаю, да теперь ты... Вернется в кабину — плачет. За чужую боль. И своих всех потеряла. Да это тебе известно. У самого такое... дело, сам понимаешь... Он понимал, он все помнил. И за себя и за нее. Были, были эти три года, и их не забыть, не вычеркнуть из жизни. А она уже спрыгнула с лесенки и звала его. В глазах искорки, точно солнце играет на зеленой речной ряби. Но вдруг они потемнели. Прошло облако по небу и заслонило свет. И погасли веселые огоньки. Но облако было все-таки ни при чем. Тени всплыли из глубины. И тогда глаза сказали: «Все, что я знаю, знаешь и ты. Но об этом не надо. Это забыть нельзя, но говорить не надо». Он кивнул, точно подтверждал: «Не надо», но Оля снова позвала его: — Толь... Это было новым. Раньше она так его не называла. — Толь... Мы сейчас поедем. Сержанту плохо и нужно быстрее... Толь, я знала, что мы встретимся. Но мы всегда были вместе. Правда? Толь... ты приходи почаще. И я буду приходить. И тихо подвигалась к кабине и вела его, взяв за обе руки. — Толь.. И еще пиши. И я буду писать. Открыла дверцу. — Толь... Теперь уже скоро. Но нам нужно ехать. Сдавила своими маленькими ладонями его руки и легонько оттолкнула. Хлопнула дверца. Она говорила еще что-то, уже из-за стекла, но он слышал лишь одно слово: — Толь... Взревел мотор, и автобус тронулся. И только тут Груздев понял, что так ничего ей и не сказал. Колеса вертелись все быстрее. Груздев побежал и догнал автобус, и даже прикоснулся к его задней стенке. — Оля! Оля! Наверное, она не слышала, и он остановился и стоял, пока автобус не скрылся с глаз. А сердце билось и распирало ему грудь и поднимало его к голубому, уже почти сплошь чистому небу. Он ждал этого три года. Ждал с тех пор, как ушел из дому. Ждал и верил: будет, будет! Война увела их за тридевять земель. Но они все-таки встретились. Это должно было произойти. Они встретились за тридевять земель, чтобы снова разойтись. Но теперь уже не надолго... Ими отдано слишком многое, и у них не может быть взято последнее. Не может! На западе, у горизонта, там, где еще ползли над землею тучи, громыхала артиллерийская канонада. В небе вспыхивали черные дымы шрапнели. Война оставалась войной. У нее нет ни выходных, ни даже часовых перерывов. Один большой бой. И свои законы, которые очень часто нельзя уложить в человеческие понятия. Свои! Железные, беспощадные, грубые, как рваные осколки. Груздев шел на запад. По твердой, еще зимней дороге. Строго на запад. Если шагать и шагать — за день можно дойти до Берлина.
Последние комментарии
5 секунд назад
1 минута 59 секунд назад
2 часов 45 минут назад
5 часов 10 минут назад
7 часов 42 минут назад
1 день 3 часов назад